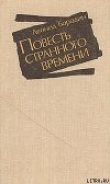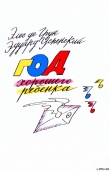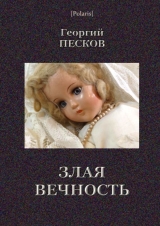
Текст книги "Злая вечность"
Автор книги: Георгий Песков
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Приложения
Рецензии на повесть «Злая вечность»
Петр ПильскийЗагадками, мистикой, неясностями, пророчествами населил свою повесть Георгий Песков («Злая вечность»). Внушителен подзаголовок «Мировая трагедия». Говорят о кончине Мира, о крушении Европы. В центре повести – таинственный князь, его любовь к женщине, к ее фантастическому перевоплощению в кукле антикварного магазина. Предсказания мрачны и тяжки. В музее – картина, изображающая банкет: мундиры, фраки, шампанское и – бесконечная усталость, невыразимая мертвенность. Но и все вещи, все картины этого музея похожи на предметы, собранные на стол вещественных доказательств – все безмолвно свидетельствовало о некогда совершившейся трагедии. Но мировая трагедия еще придет. Мы – накануне мировой катастрофы. Повсюду – тревога и жуткое наслаждение. Европу ожидает участь Атлантиды и Гондваны. Европа окружена роковыми кольцами надвигающейся катастрофы.
Повесть не кончена, ее первую часть я старался передать точно. В ней что-то есть. Не будем говорить о ее литературных достоинствах, еще больших недостатках. Но тревога разлита по этим страницам не случайно. В этих предречениях чуются отголоски нашего шаткого дня. Эту повесть можно было б привести в связь с «Атлантидой – Европой» Мережковского. Да, и время знает, чем оно болеет, по крайней мере, это чувствует. Бреды и сны не напрасны. Вдруг в размеренной тишине мира прорывается упрямый шепот, – предостережение или плач, туманы разрезает острый луч закатывающегося, падающего солнца, в литературу пробивает себе путь жадная, насторожившаяся тема, и ее бессознательно ловят слух и сердце, философ, поэт и повествователь. От нее можно прятаться, от нее нельзя уйти. Вчерашние призраки иногда становятся завтрашней историей.
С самого начала можно было догадаться, что пред нами сумасшедший. Продолжение только убеждало в этом, конец поставил точки над «i»: да, князь – помешанный. Все, что ему снится, чем он бредит, что встречает – только его призраки. Речи, обращенные к нему, – плод расстроенного воображения. Пророчества о гибели мира, убийства, беседы с загадочным библиотекарем, страшная ведьма, торгующая галантереей, взрыв тигля, теория о вечности, об омоложении души, все оказывается выдумкой безумного.
Но сам автор этой повести («Злая вечность») во многом из этих предречений хочет видеть некую неизбежную грозящую реальность. Во всяком случае это могло казаться в первой части. Сейчас, в своем продолжении, повесть, устами странного библиотекаря, говорит о вытравлении душ, как есть умерщвление плоти. Душа должна умереть, выйти из тела, но, покидая его, «душа не умирает»: смертью тела она приобщается вечной жизни. Только смертью души может быть куплено бессмертие тела.
Библиотекарь предлагает и чрезвычайно простой способ, чтоб осуществить этот фантастический опыт: несколько капель снотворного, затем немедленно зондом вводится в сердце необычайно сильный возбудитель. Реакция мгновения, сердце тотчас же начинает снова функционировать, и, таким образом, «мы просто-напросто будем прививать бессмертие, как „оспу“». Библиотекарь пророчит, что иметь душу скоро будет неприлично, и с ней станут поступать, как с отростком слепой кишки, – вырезать, как атавистический орган.
К галлюцинирующему князю приходит интервьюер, но и тут кончается плохо. Двигая ушами и лбом, он достает почему-то докторскую сумку, вынимает хирургические инструменты, марлю, вату, склянки, зажигает спиртовку, ставит на огонь большой платиновый тигель и кладет в него щипцами какой-то кусочек. Происходит катастрофа, раздается треск со звоном, падают осколки разбитого стекла, все предметы в комнате срываются с места и шум превращается в чудовищный гром и рев.
Все это было бы, действительно, страшно, если б случилось на самом деле. Но все происшествия, и рассуждения, и человеческие маски, сны, полуявь, беседы, теории оказываются видениями и призраками сумасшедшего человека; «Злая вечность» – заглавие его тетради. Свою «мировую трагедию» безумец посвящает господину президенту республики, его святейшеству папе римскому, всем монархам и правителям мира, всем государствам, всем народам, – всем, всем, всем. Тетрадь заканчивается призывом: «Гибнем! Спаси нас от злой вечности!». Азартный, рискованный, трудный замысел автором проведен и развит осторожно. Минутами даже как будто веришь всем этим бредням, приемлешь дикий хаос этих идей, предчувствий и предсказаний. Я уже говорил (по поводу первой части), что мотив «Злой вечности» не случаен. Это не простая забава воображения, не только авторский каприз. Основная мысль подсказана самой эпохой, нашими содрогающимися днями, зыбкостью современного мира, пророчествами его гибели, – их высказывают не одни сумасшедшие, – над этим сейчас размышляют философы, историки и социологи. В этом смысле повесть нужно признать злободневной. Ее автор не только выдумывает, но и многое чует. Невидимые веяния бередят многие сердца, – поэты и писатели только откликаются, как всегда первые чувствительнейшие приемники, ухватывающие слухом и чутьем дальние шумы, таящиеся грозы, надвигающиеся потрясения.
Георгий АдамовичБывают, разумеется, произведения, которые иначе как в нескольких номерах поместить невозможно… Но не всегда у редакции «Современных записок» есть это оправдание. Например, в последней книжке – повесть Георгия Пескова «Злая вечность»: тридцать пять страничек и – «окончание следует». Повесть умная, интересная: неужели в толстом, увесистом томе не нашлось еще нескольких десятков страниц для нее? <…>.
«Злая вечность» Георгия Пескова помещена в одной книжке с «Подвигом» как будто для контраста. Действительно, контраст разительный… Даже странным кажется, что в одно время и в приблизительно однородной среде появляются вещи настолько во всем противоположные. Песков и его повесть – полностью еще в старых русских проклятых вопросах: о Боге, о вечности, о грехе, о смерти… Влияние Достоевского заметно даже в интонациях некоторых фраз (например: «с мыслью о смерти примириться нельзя, князь!» – так и кажется, что в ответ «тихо улыбается» князь Мышкин). Нельзя назвать «Злую вечность» выдающимся художественным произведением: герои повести больше разговаривают, чем живут… Но зато разговоры они ведут живые. Все это, конечно, уже было сказано. И не раз. Но важно ведь не то, чтобы человек непременно думал о чем-либо новом, а чтобы он о старом и неразрешенном думал так, как будто оно, это старое и неразрешенное, впервые именно ему и представилось. Кто упрекнет Георгия Пескова в элементарности размышлений, должен бы иметь в виду, что его герои бродят вокруг да около таких вопросов, которые в ответ только две-три простейшие догадки и допускают.
* * *
Мне уже приходилось говорить о «Злой вечности» Георгия Пескова. Заключительная часть этой полуфантастической повести производит то же впечатление, что и первые главы. Вещь его интересная, страстная, витающая вокруг подлинно серьезных вопросов и тем – и, несмотря на некоторую аляповатость в их разрешении, нисколько не оскорбительная. Вещь в целом, конечно, неудачная, проигранная, но автор рискнул – и уже одно это хорошо! Какой-нибудь ювелирный «этюдик» читаешь с удовольствием и тут же сразу забываешь. «Злую вечность» трудно читать, не морщась, но сознание ею задето, и не напрасно.
Илья Голенищев-Кутузов«Побег» Осоргина и «Злая вечность» Георгия Пескова (с многообещающим подзаголовком «Мировая трагедия») лишний раз подтверждают, сколь опасно людям, воспитанным в так называемых заветах «реалистической» литературы, пускаться в темные и плохо исследованные области оккультизма. <…>.
Не менее подозрительным кажется нам поползновение Георгия Пескова разрешить судьбу одряхлевшего земного шара. В кратком предисловии к своей профетической повести он просит о снисхождении, признаваясь в том, что тема «сложна и обширна…». Тема действительно сложна и обширна, именно поэтому нет основания для снисхождения к автору. В повести своей Песков знакомит читателя с «Вещим Олегом», русским князем, живущим в глухом провинциальном французском городке и занимающимся на досуге оккультизмом. Женственный облик князя напоминает нам «теософских теток», о которых писал в своих воспоминаниях Андрей Белый, утверждающий, что в мире существует не только Вечно-женское начало, но и «Вечно-теткинское». Князь этот в повести Пескова столь бледен, что автор о нем почти ничего не может сказать, кроме того что он аккуратно стрижет бороду, живет одиноко и в бытность свою в Париже влюбился в восковую куклу в витрине «галереи Лафает» (сюжет заимствован у Гофмана, если не у Петра Потемкина).
Все рассуждения о скорой гибели мира вложены в уста библиотекаря, родственного также гофмановскому книгочею из «Золотого горшка». Подзаголовки: «Второе Зрение», «Трагическое будущее Европы», «Под знаком Венеры», «Плюс и минус Бесконечность» – вызывают лишь нездоровое любопытство. Сведения, которые Песков дает воспаленной любознательности читателя, чрезвычайно скудны, «оккультные источники автора» вряд ли богаты живой водой…
Георгий Песков. Автобиографическая заметка и ответы на анкету «Калифорнийского альманаха»
Автобиографическая заметкаПишу я с раннего детства, преимущественно в форме коротких рассказов. В это время (5–8 лет) на меня имели влияние Лермонтов (особенно стихотворение «Мцыри» и Гоголь («Вечера на хуторе»). В ранней молодости сильное впечатление произвели некоторые рассказы Тургенева («Рассказ о. Алексея», «Сон»); из иностранных писателей– Э. Поэ и (отчасти) Гюисманс. Со времени революции прекращается почти всякое литературное влияние на мое писание: то, что меня всегда влекло (мистическое восприятие Mipa) и что только изредка встречалось в литературе, стало открываться в жизни. Все мною с того времени написанное является результатом наблюдении этой мистической жизни.


1) Всякое художественное произведение есть живой организм, в котором форма не отделима от содержания. Критик должен с этим считаться и давать оценку полную.
2) Что значит «справедливая» критика?. Всякая критика неизбежно суб'ективна. Критик смотрит через призму своей индивидуальности, и иначе смотреть не может. Все, что требуется от критики, это чтобы она была искренна.
3) Для меня не так. Для меня критика есть встреча душ (писателя и критика). Надо впрочем заметить, что встретиться душам случается довольно редко.
Георгий Песков.
Глеб Струве. Георгий Песков
Называя «магических реалистов» среди зарубежных писателей младшего поколения, Шаршун не упомянул о писателе, к которому эта кличка в каком-то смысле подходила больше всего, – о Георгии Пескове. Под этим игривым псевдонимом (если его расшифровать, то получается перевод имени Жорж Саид, причем фамилию надо читать по-немецки) скрывалась женщина, г-жа Дейша. К Георгию Пескову в передовых литературных кругах отношение было, по-видимому, несколько пренебрежительное: ни в «Числах», ни во «Встречах» имя его ни разу не было упомянуто, и о нем не было речи в послевоенных разговорах о «незамеченном поколении». Отчасти это, может быть, объясняется тем, что Песков стоял в стороне от парижских литературных кругов. Сейчас этот любопытный писатель незаслуженно забыт[1]1
Впрочем, в изданную недавно Издательством имени Чехова, под редакцией В. А. Александровой, книгу «Пестрые рассказы» включен далеко не лучший рассказ Георгия Пескова «Медуза», впервые напечатанный, кажется, в «Последних новостях». Об авторе в книге не сказано ни слова.
[Закрыть].
Георгий Песков выпустил всего одну книгу рассказов – «Памяти твоей» (1930), в которую вошли рассказы, написанные между 1925 и 1927 годами. Один из них был напечатан в «Современных записках», другие – в газетах. После 1930 года рассказы Пескова продолжали появляться в «Последних новостях», а одна довольно длинная вещь – «Злая вечность» – была напечатана в 1932 году в двух номерах «Современных записок». С середины 30-х годов имя Пескова исчезло из литературы, но автор, насколько известно, до сих пор живет под Парижем; уход его из литературы был добровольным и сознательным актом, продиктованным, по-видимому, религиозными мотивами.
О единственной книге Пескова в зарубежной печати появилось несколько благожелательных отзывов (К. И. Зайцева в «России и славянстве», Ф. А. Степуна в «Современных записках» и др.), но все же этот автор не обратил на себя внимания, которого заслуживал. Ф. А. Степун писал, что в сущности все рассказы Пескова об одном и том же, что «молодой автор… одержим своей темой». Главную тему Пескова Степун при этом определял как «раздвоенность» и уточнял: «встреча внутреннего раздвоения с тем страшным раздвоением русской души, имя которому – большевицкая революция». Слово «одержим», может быть, не совсем подходит к Пескову – для этого Песков пишет слишком спокойно, уравновешенно. И, хотя революция присутствует как фон во многих его рассказах, он не ограничивается революционной тематикой. Сила лучших рассказов Пескова – например, рассказа «Покупательница»[2]2
Этот рассказ, между прочим, был включен известным английским писателем Сомерсетом Моэмом (Maugham), одним из лучших мастеров современной новеллы, в антологию, составленную из лучших и наиболее характерных образцов короткого рассказа в мировой литературе.
[Закрыть] – как раз в той спокойной уравновешенности, с которой рассказывается о вещах таинственных и жутких. Главная тема Пескова – таинственное в мире, присутствие в нем непостижимых простым разумом злых и добрых сил. Это роднит Пескова с Гоголем (но стиль его, простой, деловитый, не похож вовсе на гоголевский), а также с Достоевским и Гофманом. Ф. А. Степун писал:
«…Связанный с Достоевским внутренний мир Пескова мог бы быть глубже сообщен читателю, если бы форма рассказов была заострена теми методами видения и высказывания, которые мы связываем с именем Андрея Белого».
Но, может быть, именно в сочетании реалистического метода (в описаниях, в диалоге) с оккультными, потусторонними мотивами – главная сила Пескова; тем более, что Песков отнюдь не грешит излишним реализмом описаний, и сквозь быт у него всегда просвечивает тайна. Есть у Пескова, как указал Степун, рассказы подлинно религиозные, такие, как «Памяти твоей» и «Валькирия», написанные с большой художественной убедительностью:
«…в обоих Песков стоял перед заданием очень большой сложности. Описать появление среди оставленных близких расстрелянного священника – и описать, не превратив чуда в галлюцинацию, – задача громадная. Пескову она удалась. Рассказ, быть может, мог быть написан сильнее, но я уверен он не мог быть написан правдивее. К лучшим рассказам принадлежит также и „Валькирия“. Старая немка Брунгильда Карловна, безбожно коверкая русский язык, переводит в трагическую минуту жизни некоему Евгению Ивановичу „один Grablied“ („надгробная песня“). И в ее переводе, в ее беспомощных словах слышится орган, чувствуется духовная первореальность мира: смирение, доброта, мудрость».
Оба отмеченных Степуном рассказа написаны на фоне первых лет революции, как и «Покупательница» – едва ли не самый трагический по сущности рассказ, в котором прекрасно дана и трагическая бытовая обстановка: бывшие люди, распродающие свое барахло на Сухаревке. При этом у Пескова есть несомненный дар рассказчика; некоторые его рассказы, пожалуй, даже слишком анекдотичны. «Точка зрения» у него все время меняется: есть рассказы, в которых мир показан глазами детей (правда, не по-детски «мудрых», но это не срыв, а нарочно так), – «Чулан», «Бабушкина смерть», «Шурик»; есть хорошие примеры сказа, без излишней стилизации – «Гонец», «Пробуждение».
«Злая вечность» – наиболее честолюбивая по замыслу из вещей Пескова. С оглядкой на некоторые современные проблемы здесь разрабатывается вослед Достоевскому тема «человекобожества», кирилловского своеволия. При этом герой повести, душевнобольной князь, чем-то неуловимым напоминает Мышкина (действие происходит в эмиграции, но эмигрантский быт лишь слегка намечен в сатирических тонах в сцене разговора князя с служащими на заводе в маленьком французском городке бывшими офицерами). Кроме князя, все главные персонажи – французы. В библиотекаре с лицом хамелеона, в похожем на Вольтера антикваре, в кукле, в которую влюбляется князь, чувствуется несомненное влияние Гофмана. В целом «Злая вечность» удалась автору меньше, чем его короткие рассказы, особенно развязка, но это интересная неудача.
Примечания
Г. Песков. Злая вечность (Мировая трагедия)
Впервые: Современные записки, №№ 48–49, 1932. Публикуется по этому изд. с исправлением ряда некоторых опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Ниже приводится перевод французских фрагментов текста:
С. 8 …anciens officiers – бывшие офицеры.
С. 8 …Personne n'aurait dit ça – Кто бы мог сказать.
С. 8 …madame Meterry veuve – вдовая мадам Метерри.
С. 8 …Ah, ici on sait bien ce qui est chic! – Ах, мы здесь хорошо понимаем, что такое шик!
С. 8 …si bien né – Здесь: такого благородного, знатного.
С. 9 …dupère Boittot – папаши Буатто.
С. 12 …«Oleg le prédicateur» – Здесь: «Олег-предсказатель».
С. 12 …à toutes ces betises-la – все эти глупости.
С. 12 …homme serieux – солидный человек.
С. 12. Est-ce vrai, monsieur, que vous etes prince? – Правда ли, месье, что вы князь?
С. 12 …madame la princesse – мадам княгиней.
С. 14…mutilé de guerre – инвалид войны.
С. 22. Bonjour, monsieur! – Здравствуйте, месье.
С. 28 …antiquité – древность, антикварный предмет.
С. 29 …ancienne habitude – давняя привычка.
С. 34. Ah! ça… ça dépend! – Ах! это… это зависит!
С. 40 …à demi-laine – полушерстяные.
С. 40. Ce sera trop petit pour vous – Эти будут для вас слишком малы.
С. 41…malgré tout – тем не менее.
С. 41. Pas de mal, pas de mal!… C’est dans la rue de St. Pélérin que vous habitez? – Ничего страшного, ничего страшного!… Вы ведь живете на улице Сен-Пелерин?
С. 43…jour des morts – День поминовения усопших.
С. 44 …bonne chance – Здесь: всего хорошего, удачи.
С. 44 …delicieuse – прелестна.
С. 51…célèbre écrivain – знаменитого писателя.
С. 54. Viens, топ cocot! – Здесь: Смелее, мой птенчик!
С. 54 …pour les belles fleurs – для прекрасных цветов.
С. 54. C'est le temps qui fait ça: tout le monde est grippe – Такое нынче время: все кругом больны гриппом.
С. 54 …tisane – отвар.
С. 55 …des feuilles d’eucalyptus – листья эвкалипта.
С. 56 …pour ce prix – за такую цену.
С. 62. Visite nocturne – Ночной визит.
С. 62. Mais voyons – неужели.
С. 62. Charme – Здесь: Это очаровательно.
С. 62. Allons – Здесь: Послушайте.
С. 62. Voyons, pour en finir – Ну a теперь, наконец.
С. 64. Merde! – Дерьмо!
С. 63. Tu ne veux donne pas de moi? – Ты не хотел бы мне заплатить?
С. 65. Dis donc, tu vas me garder pour la nuit? – Здесь: Эй, ты хочешь заставить меня ждать всю ночь?
С. 65 …vois-tu – видишь ли.
С. 66. Ah, tant mieux… Ça revient au même – Ах, тем лучше… Все одно и то же.
С. 76. «Sa majesté monsieur le diable» – «Его величество господин дьявол».
Рецензии на повесть «Злая вечность»
Приведены фрагменты статей П. Пильского «Новая книга „Современных записок“» из газеты Сегодня (Рига), 1932, № 34, 3 февраля и № 144, 25 мая (заглавие статьи то же), Г. Адамовича «„Современные записки“. Кн. 48-я. Часть литературная» и «„Современные записки“. Кн. 49-я. Часть литературная» из газеты Последние новости (Париж), 1932, № 3977, и февраля и № 4089, 2 июня и И. Голенищева-Кутузова «„Современные записки“ (книга 48)» из газеты Возрождение (Париж), 1932, № 2438, 4 февраля. Фрагменты, написанные и опубликованные в разное время, отделены знаком (***).
Г. Песков. Автобиографическая заметка и ответы на анкету
Впервые: Калифорнийский альманах. Сан-Франциско (печ. в Харбине), 1934.
«Калифорнийский альманах» предложил писателям ответить на следующие вопросы:
«1. Чего Вы ждете от литературной критики?
а) выявления литературного портрета?
б) критики идейной?
в) критики формы?
2. Как Вы относитесь к строгой и справедливой критике?
Верно ли то, что „умного человека правда не обидит“ (Леонов).
3. Разделяете ли Вы взгляд Пушкина на литературную критику? Пушкин в письме к Бестужеву утверждает, что „критиковать писателя следует только с точки зрения законов, им самим над собой установленными“».
Г. Струве. Георгий Песков
Публикуется по кн.: Струве Г., Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк, 1956.
Георгий Песков. Биографическая справка
Елена Альбертовна Дейша (урожд. Репман), писавшая под псевдонимом «Георгий Песков», родилась в Москве в 1885 году. Ее отцом был доктор медицины Альберт Христианович Репман (1835–1917/18), директор Электро-лечебного института и отдела прикладной физики Политехнического музея, конструктор физических приборов, действительный статский советник. Мать – Юлия Богдановна Репман (урожд. Краусс); известны два ее портрета работы И. Е. Репина, учившегося в Императорской академии художеств вместе со старшим братом А. X. Репмана.
У Е. А. Репман были две старшие сестры (Евгения и Ольга) и брат Владимир. В 1904 г. Евгения Репман совместно с В. Ф. Федоровой основала 1-ю Московскую кооперативную гимназию («гимназию Е. А. Репман»). Здесь не было процентной нормы для инородцев, практиковалась совместное обучение мальчиков и девочек, передовые педагогические методы. Среди выпускников гимназии – академик А. Н. Колмогоров и другие видные ученые, писатель Д. Л. Андреев.
После окончания Высших женских курсов в Москве Елена Альбертовна вышла замуж за инженера-гидравлика Адриана Васильевича Дейшу (1886–1952). В 1917 г. у них родился сын Георгий, ставший впоследствии профессором геологии. В 1924 г. А. В. Дейша, профессор Института путей сообщения, был направлен в командировку в Париж; он выехал во Францию со всем семейством и в СССР не вернулся.
По данным В. Казака[3]3
См. Казак. В. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. London, 1988. С. 391–392.
[Закрыть], Дейша написала в общей сложности 230 произведений, в основном рассказов. Она публиковалась в журналах «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Звено», газете «Последние новости» и т. д., однако выпустила лишь две книги – сборники «Памяти твоей» (Париж, 1930) и «В рассеянии сущие» (Париж, 1959). Писательница опровергала гипотезу Г. Струве о происхождении ее псевдонима, утверждая, что он был образован из имени ее сына и названия семейного имения Песочин в Харьковской губернии.
Как указывает В. Казак, прочие «подробности биографии неизвестны, их не удалось выяснить и славистам, состоявшим в переписке с писательницей, пока она была жива. <…> В эмиграции она существовала вне каких-либо группировок и обращала на себя меньше внимания, чем заслуживает ее дарование».
Возможно, этой замкнутостью объясняются различные эмигрантские легенды о Дейше, которую считали, например, падчерицей известной певицы Дейши-Сионицкой. «Георгий Песков – женщина. Падчерица Дейши-Сионицкой, московской известной певицы» – писала А. Даманская. «Муж ее – чернобородый большой инженер пришел однажды в „Последние Новости“ и отрекомендовался: „Я – муж Георгия Пескова“. Имени-отчества ее редакторы и сотрудники не знают. Человек она весьма странный, богомольный, мистически настроенный. То падает с лестницы, то собаки злые искусывают ее»[4]4
Из письма Е. Кусковой от 1 августа 1933 г., Париж – Прага. (ГАРФ. Ф. 5865. Oп. 1. Ед. хр. 154). Опубликовано в статье: Янгиров Р. Тело и отраженный свет: Заметки об эмигрантской женской прозе и о ненаписанной книге Зинаиды Гиппиус «Женщины и женское» // Новое литературное обозрение. 2007. № 86.
[Закрыть].
Е. А. Дейша скончалась 22 декабря 1977 г. в городке Сен-Жермен-ан-Ле под Парижем.

![Книга Звездная Ева [Фантастика русской эмиграции. Том II] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zvezdnaya-eva-fantastika-russkoy-emigracii.-tom-ii-262909.jpg)

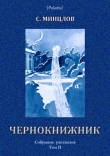
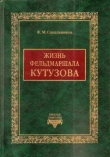

![Книга Эрзац - вечность / Ersatz Eternal [= Вечный эрзац, Эрзац бессмертие, Эрзац вечности] автора Альфред Элтон Ван Вогт](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-erzac-vechnost-ersatz-eternal-vechnyy-erzac-erzac-bessmertie-erzac-vechnosti-127059.jpg)