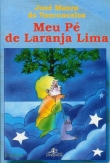Текст книги "Большая руда"
Автор книги: Георгий Владимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
3
Тем же вечером он забрал свой чемодан и котомку из коттеджа – так называлась бревенчатая двухэтажная изба для приезжих – и перешел в общежитие – так назывался длиннейший дощатый барак с террасой и скамейками у крылечка, стоявший в длинном ряду таких же бараков.
В общежитии он пощупал простыни, покачался на пружинах койки и посыпал трещины в обоях порошком от клопов. Над изголовьем он приколотил полочку для мыла и бритвы, повесил круглое автомобильное зеркальце и по обеим сторонам его, с симметричным наклоном, фото Элины Быстрицкой и Брижжит Бардо. За фотографии он тоже насыпал порошка от клопов.
Комната была на шестерых, но он застал лишь одного из соседей, который лежал поверх одеяла в комбинезоне, положив ноги в сапогах на табурет. Так спят обычно перед сменой. Сапоги распространяли жирный сырой запах тавота и глины, и Пронякин распахнул окно. Ему не нравилось, когда в комнате пахло работой.
Он решил написать жене, пока не вернулись соседи. Он вырвал листок из школьной тетради и, присев к столу, освещенному тусклой, засиженной мухами лампочкой, отодвинул обрывок газеты с огрызками кукурузы и мятой картофельной шелухой.
«Дорогая моя женулька! – вывел он с сильным наклоном влево и аккуратными закорючками. – Можешь считать, что уже устроился. Дали пока что старый «МАЗ» двухосный, но я же с головой и руками, так что будет как новый и прилично заработаю. Есть такая надежда, что и комнатешку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающие. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами поизгилялись, хотя их тоже понять можно, так что хочется свое иметь, чтобы никакая собака не гавкала…»
Сосед зашевелился на койке и замычал. Должно быть, ему снилось плохое. Пронякин взглянул на часы и принялся его тормошить. Сосед открыл один глаз и уставился на Пронякина младенческим взором.
– Ты кто?
– Я-то? Ангел Божий. Сосед твой. Гляди-кось, смену проспал.
Сосед посопел немного и меланхолично заметил:
– Ну и брешешь.
Он открыл второй глаз и, почмокав пухлыми со сна губами, приподнял наконец лохматую голову.
– Пошарь-ка в тумбочке, опохмелиться ребятишки не оставили?
– Сами выпили да ушли.
– Такого не может быть, – объявил сосед после некоторого раздумья.
– Значит, может, ежели так оно и было. А ты и без опохмела хорош будешь. Ветер нынче свежий, мигом развеет.
Сосед встал наконец на подкашивающиеся ноги и покачался из стороны в сторону, разгоняя сон.
– Тебя как звать-то? – спросил Пронякин.
– А тебя?
– Виктором.
– А меня Антоном. Будишь, а не знаешь, кто я и что я.
– Ты на чем работаешь? – спросил Пронякин. Он твердо знал, что тот не шофер, хотя и не мог бы объяснить, почему он это знает.
– На «ЭКГе», – сказал Антон. – Машинистом. – «ЭКГ-4» был экскаватор. – А ты у Мацуева?
– У него как будто. Ежели не прогонят.
– Ну, вместе будем, – сказал Антон. – Тебе сегодня не идти?
– Сегодня нет.
– Ну и гуляй. А чего тебе делать?
– Я и гуляю.
Антон засунул в карман полотенце и пошел в кухню, шаркая коваными сапогами. Пронякин подождал, пока заплескалась вода в кухне, и быстро открыл тумбочку. Рядом со скатанным грязным свитером стояла початая четвертинка. Он стиснул зубы. Вот чего он боялся и что ненавидел, как может бояться и ненавидеть человек, уже однажды опускавшийся до последней степени и сумевший подняться неимоверным усилием и который по-прежнему себе не доверяет. «Нет уж, – сказал он себе, – старое не случится, последний мужик будешь, ежели случится». Но он знал, что это может случиться, если кто-нибудь рядом, в одной с ним комнате, пьет. Он вынес четвертинку к окну и, перевернув ее горлышком вниз, злорадно слушал, как булькает внизу, в темноте.
Он поставил бутылку на место и принялся вновь за свое письмо: «… А перспективы, как я узнавал, здесь большие, со временем завод металлургический построят, поскольку руды, говорят, тут на тысячу лет хватит, а может, и больше, она тут до самого центра земли все тянется. И места хорошие. Конечно, с уральскими или сибирскими не сравнишь, но жить можно, и речка есть, рыбку помаленьку ловят…»
Антон вернулся посвежевший и причесанный по-модному. Он выглядел очень юно со своими сахарными зубами, волнистыми прядями и мальчишеской нетронутостью. Он подошел к тумбочке и, подумав, открыл ее.
– Гляди-ка, и в самом деле ни хрена не оставили. А?
Он посмотрел на Пронякина вдумчиво и подозрительно.
– Могу дыхнуть, – сказал Пронякин.
– Дыши на здоровье, – сказал Антон. – Комендант у нас любитель водку забирать. Только он с бутылкой забирает. Придется за печку прятать, что ли.
– Придется за печку.
– А не сгорит?
– Думаю, не сгорит, – сказал Пронякин. – Ну, может, так, немножко испаряться будет.
– А ты в шахматы играешь? – спросил Антон. Он обладал счастливой способностью быстро забывать свои огорчения.
– Нет, не играю.
– Давай сыграем, – сказал Антон. Он уже вытряхивал фигуры на стол.
– Опоздаешь ведь.
– Давай работай, больше проговоришь.
– Сказал же – не умею.
– А я, думаешь, умею?
Пронякин накрыл письмо тетрадью. Он уже понял, что так ему не отделаться. Фигуры были огромные, точно играли не люди, а самосвалы. Одной пешки не хватало, и Антон заменил ее куском бурого камня, синеватого на изломе.
– Это что? – спросил Пронякин.
– Руда, – ответил Антон. И первый пошел конем, хотя у него были черные.
Почему он начинал конем, трудно было понять. Должно быть, он ему нравился реальным сходством с лошадью.
Через минуту Пронякин взял у него этого коня и кусок руды, а еще через пятнадцать ходов, очень хитрых и достаточно примитивных, загнал короля в угол и принялся за свое письмо.
«…Ты шифоньер продай, чего за него держаться, а кровать никелированную мы и в Белгороде купим, себе же дороже везти. Но денег особенно не жалей, до Рудногорска лучше таксишника найми, а если компания подберется, то будет совсем недорого. И приезжай, не медли, а то я уже по тебе, честно, соскучился…»
Антон мучительно думал. Он еще не догадался, что уже получил мат.
– А вот так? – спросил он, с торжеством двигая ладью.
– Иди к Богу в рай, – сказал Пронякин. – Припух ты давным-давно.
– Брешешь.
– Ну сиди, думай.
Но Антон не стал думать. Он поверил Пронякину на слово.
– А говорил – не умеешь. Чудак! Но ты мне все-таки нравишься.
– Ты мне тоже.
– А по новой? – спросил Антон.
– Иди к Богу в рай.
Пронякин терпеливо ждал, когда он уйдет. Но он вернулся и просунул голову в дверь.
– На танцы пойдешь?
– Пойду, – нехотя отозвался Пронякин.
– В тумбочке у меня галстучек – девки прямо стонут. Только гляди, чтоб они его помадой не заляпали.
И ушел наконец, грохая сапожищами в коридоре.
«…Может, здесь-то и заживем, как мы с тобой мечтали, – выводил Пронякин. – И все у нас будет, как у людей. Но и прошлую нашу жизнь забывать не будем. Жду тебя скоро и остаюсь уверенный в твоей любви любящий муж твой Пронякин Виктор».
Он заклеил письмо и, выйдя, опустил в ящик на фонарном столбе. Потом распаковал чемодан и оделся в темно-синий костюм, купленный проездом в Москве. Костюм сидел на нем неважно, но была сильная надежда на Антонов галстук, который и впрямь оказался выше всех ожиданий. Он зачесал свои длинные пряди, побрызгался «Шипром» и положил в кармашек, уголком вверх, надушенный платок. В зеркальце он увидел свой глаз, разрезанный несколько косо, смуглую твердую скулу и трудную складку возле широкого коричневого рта. Он никогда не задумывался, красив ли он, он хотел знать, выглядит ли он прилично.
Таким появился Пронякин на танцплощадке Рудногорска – на пятачке асфальта, шагов двадцати в диаметре, посреди огромного холмистого пустыря. Пустырь имел большое будущее, он находился в центре поселка и мог рассчитывать на звание главной площади города. Но пока он был завален грудами щебня и дранки, заставлен штабелями кирпича и фанерными симметричными строениями известкового цвета, с необходимыми индексами «Ж» и «М». Проходя этим пустырем в полдень, когда по асфальту расхаживали гуси и козы и девочки играли в классы, Пронякин мог бы подумать, что здесь едва хватило бы места для двадцати пяти или тридцати танцующих пар. Но вечером, к его приходу, их было восемьдесят или сто, а парни и девчата все подходили из темноты с непреклонным намерением взять свое.
Он побродил вокруг да около и выбрал себе девицу, которую никто не приглашал. Это, впрочем, вполне сходилось с его правилами. Самых ярких следовало остерегаться, если ты вызвал к себе жену. В отъездах он позволял себе кое-что и помимо танцев, но там он и не боялся чужих языков.
– Протиснемся или с краешку? – спросил он ее.
– Мне все равно.
Но ей было не все равно. Ей хотелось протиснуться. Ей хотелось быть поближе к свету, чтоб ее видели с ним.
– Тогда протиснемся. – Он взял ее за руку, и они протиснулись и заняли случайно освободившийся вершок. – Так – хорошо?
– Так хорошо.
Радиола сыграла бразильскую самбу и начала несравненную «Тишину». Пары пошли медленно и по кругу, и он тоже повел свою даму по кругу, крепко держа ее руку у запястья. Он не был уверен, что это нравится ей, но так, он видел, танцевали в Белгороде.
– Давно вы здесь? – спросил он, чтобы что-нибудь спросить. – Имею в виду: в Рудногорске.
– Не знаю. Мне кажется, очень давно. А на самом деле всего лишь третий месяц. Как видите, не с первого гвоздя, как любят здесь говорить.
– Понятно, – сказал он, чтобы что-нибудь сказать.
– И еще здесь любят говорить: «практически неисчерпаемо». Это – о руде. У вас еще будут какие-нибудь вопросы?
Ему не нравилось, что она все время щурится, улыбаясь. Как будто тусклый свет фонаря мог резать ей глаза. И лоб у нее был слишком высокий и выпуклый.
– Пока что не имею, – сказал он.
«Тишина» кончилась. Но пары не расходились. На «пятачке» становилось все теснее.
– Ничего не поделаешь, – сказала она, – вам придется весь вечер танцевать со мною. Нам уже не выбраться отсюда.
– Тогда уж познакомимся. Виктор.
– Маргарита. Но лучше зовите меня просто Ритой… Если вам это интересно, я немножко стесняюсь своего имени. Мне хотелось бы какое-нибудь простое-простое имя… Ну, не обязательно Глафира или Прасковья, но хотя бы Маша или Ольга.
– И так сойдет, – сказал он слегка насмешливо.
Радиола завела какой-то мексиканский фокстрот. Ребята – в клетчатых пиджаках, ковбойках и просто в майках – танцевали, энергично оттопыривая зад и притопывая одной ногой; лица у них были страдальчески-вдохновенные. Девчата посмеивались и переговаривались друг с другом. Они не принимали танец так близко к сердцу.
– Нравится вам здесь? – спросила она.
– Есть, пожалуй, где и повеселее.
– Не знаю. Я жила в Москве. Ну, еще в Ленинграде. Но это – в детстве, когда мама называла меня Марго.
Со всех сторон на них напирали, толкали, и невольно она прижималась к нему низкой и мягкой грудью. Это было не очень приятно, потому что он совсем ничего к ней не чувствовал. И потом ему как-то трудно было представить себе ее в детстве.
– Девчонки наши воют: нет того, нет другого, безумно скучают по Москве. Но в конце концов для чего мы сюда приехали? Разве не для того, чтобы чувствовать себя участниками большого, настоящего дела? Разве это не радостно? Я им это каждый день говорю.
– А они что?
– А они? «Чувствуем, радостно, только в театр хочется». Или «на каток». Но это у них, конечно, пройдет. У меня это давно прошло. И мне здесь живется как-то окрыленно. Приятно ведь написать маме: «Мы уже прошли пласты сеноман-альба, апт-неокома, пробились к самому келловею».
– Что вы говорите! – вежливо изумился он. – Неужели к самому келловею?
– Что значит «к самому»! Уже давно штурмуем. А вы разве здесь недавно?
– Второй день.
– Вы, наверное, экскаваторщик? Или взрывник?
– Водитель на самосвале.
– Ну, все равно. Вам тоже предстоит штурмовать келловейский пласт, пробивать окно в руду. Если б вы знали, как я вам завидую!
– А у вас, простите, какая специальность?
– Горнячка. Этой весной окончила институт. Но я работаю не на карьере. В рудоуправлении. Готовлю документацию к чертежам, всевозможные исходящие, если запрашивают Москва или Белгород. А они запрашивают чуть не каждый день. Не знаю, может быть, вам это покажется скучным. Но, наверное, моя работа нужна, если меня сюда поставили?
– Наверно, нужна… Даром же не поставят.
Радиола опять завела «Тишину».
– Нужно уметь во всем находить хорошее, – сказала она. – Вот посмотрите, кто-то повесил радио выше фонаря, и его в темноте не видно. Можно подумать, что музыка льется откуда-то с неба, правда?
Он посмотрел вверх. В конусе фонарного света бились ночные мотыльки. Ночь была темна, ни одна звезда не пробивалась сквозь облака, и едва достигал сюда свет дальних домов и бараков. Больше он ничего не увидел и посмотрел на нее. Она была вся захвачена танцем и раскачивалась, задумчиво сощурясь и напевая. В нем шевельнулось что-то вроде восхищения, он хотел бы так уметь говорить, как она.
– Ничего пластиночка, – сказал он, кивая вверх. – Берет. Держит.
– К сожалению, это последняя. Уже одиннадцать, а наш радист очень пунктуален.
«Тишина» кончилась, и в громкоговорителе послышался щелчок. Но шарканье ног по асфальту еще продолжалось. Пары не расходились. Они танцевали без всякой музыки.
– Собака он, ваш радист, больше никто, – сказал Пронякин. – Меня б туда посадили, так я б до утра заводил. А почему нет, ежели народу хочется?
Она мягко улыбнулась, округляя губы.
– Мало ли чего нам хочется. Может быть, его ждет жена или еще кто-нибудь. Или он думает о тех, кому рано вставать на работу. Все ведь можно объяснить по-хорошему, правда?
– Что же он, лучше их знает, чего им надо? Инструкция у него, вот и закрывает лавочку.
Она опять улыбнулась ему.
– Боже, как вы мне напоминаете наших девчонок. Даже слова те же: «инструкция», «лавочка». И «вот я бы!» «вот мы бы!». Но разве можно скулить, жаловаться, если живешь среди таких людей?
– Каких же это?
– Ну, которые живут настоящим делом, делают его своими руками. Они иногда бывают грубыми; я видела, как они пьют, участвуют в драках, сквернословят. Но это потому, что им не приходит в голову взглянуть на себя. Сколько в них настоящего рабочего благородства! И в вас оно есть.
– Черт его знает, – сказал он, – не замечал. Но ему было приятно думать, что в нем есть благородство. Ему это как-то не приходило в голову.
– Есть, – сказала она убежденно. – И давайте потанцуем, как все. Без музыки. Ведь и в этом есть своя прелесть, правда?
Шарканье ног по асфальту все продолжалось. Шарканье и дробный разноголосый говор, в котором каждый не слышал соседа. Потом где-то близко, в темноте, пиликнула и заскрежетала гармошка.
Кто-то из парней неподалеку от них закричал:
– Миша пришел!.. Давай, Миша, наяривай!
И все закричали тоже:
– Сыпь, Миша, не жалей!
– Миша, лучший друг, поработай. Чего тебе стоит!
– Мишенька, иди сюда, милый, мы тебе конфетку дадим…
Пронякин увидел Мишу. Он продвигался между парами ходом шахматного коня, раздвигая их костлявым плечом, – в черной бархатной курточке и необъятных брезентовых галифе, вправленных в кирзовые сапожищи. На голове у него блином сидела замасленная артиллерийская фуражка. Он растягивал и сжимал маленькую писклявую гармошку, как машина, заведенная на тысячу оборотов, и ухмылялся блаженно. Из-под Мишиных пальцев, корявых и заскорузлых, выходило что-то среднее между танцем лебедят и саратовской «матаней».
– Что это за тип? – спросил Пронякин.
– Это Миша, – сказала она. – Володя Хомяков за что-то прогнал его с карьера, и он теперь работает при бане. А мне жалко его. Он просто не нашел своего места в жизни.
Пронякин пожал плечами.
– Ну, положим, Володя Хомяков знает, кого выгнать, а кого принять.
Миша остановился как раз против них и смотрел в упор, улыбаясь слюнявой улыбкой. Двух передних зубов у него не хватало. Он раздирал гармошку, не останавливаясь ни на секунду.
– Эй ты, хмырь! – крикнул Пронякин. – Ты играй по-человечески! Понял?
– Гы! – сказал Миша.
– Ты еще что-нибудь умеешь играть?
– Умею, – сказал Миша. И заиграл то же самое, только громче.
Вдруг он заорал:
– Кралечку нашу затралили! Увести хотят!
Вокруг засмеялись. Должно быть, кому-то здесь Миша казался острословом. Но Пронякину вдруг очень захотелось украсить Мишин рот еще двумя щербинами. Он двинулся к Мише, мгновенно рассвирепев, но Рита удержала его, с неожиданной силой вцепившись в рукав.
– Не надо, не злитесь на него, мы лучше уйдем. Уже ведь поздно.
– И то правда, – сказал Пронякин, так же мгновенно остывая. Он почувствовал благодарность к ней. Хорош бы он был, если бы связался с дурачком.
Не переставая наяривать, Миша кричал им вслед:
– Кралечку увели, я ж говорил! Держи вора-босяка-а-а!..
Впрочем, на него недолго обращали внимание. Танцующие пары двигались, шаркая, плотной массой по кругу. Пыль поднималась над ними и таяла в конусе фонарного света.
– Провожу, что ли, – сказал Пронякин.
– Не нужно меня провожать, – сказала она быстро и как бы испуганно. – Я не хочу, чтоб вы думали, что мне это нужно. Ведь вы из приличия, правда?
Он не нашелся, что ответить. Он смотрел ей вслед и, когда она заслоняла тускло-оранжевый свет подъезда, видел, как она странно изгибается всем телом и как высоко держит голову. «И не споткнется, – подумал он, усмехаясь. Но в усмешке его было что-то вроде восхищения. – Наверно, и правда, Бог таких бережет».
Она прошла весь грязный неровный пустырь, заваленный битым кирпичом и железным ломом, и, не оглянувшись, быстро исчезла в подъезде.
Соседи Пронякина уже спали мертвецким сном. Он встал на пороге, морщась от их разноголосого храпа и запахов – нефти, глины, сыромятной кожи и пота, – бивших в нос наповал. Натыкаясь на табуреты, путаясь в голенищах сапог, разбросанных по всей комнате, он пробрался к окну и распахнул форточку. Затем он разделся, аккуратно уложил костюм в бумажный чехол и вывесил на спинку кровати брезентовую робу.
Где-то близко по улице прошли гурьбой, хрустя по щебню, и голосами, оловянными и старательными – парней, звонкими и смеющимися – девчат, завели песню:
Забота у нас простая-а-а…
Забота наша такая…
Пошла бы руда большая
И нету других забо-о-от!..
И снег и вете-е-ер…
Но «ветра» не вытянули и рассмеялись и пошли дальше.
Пронякин лежал и курил, медленно передумывая все события этих последних дней, с тех пор как он попрощался с женой на вокзале в Горьком, где она работала буфетчицей, и уехал, оставив ее у родственников, чтобы оказаться здесь, в этой комнате, среди чужих. Папироса его выжигала зигзаги в темноте, петляя и возвращалась к его губам.
«Это все уже ненадолго», – думал Пронякин. «Это все» была комната с рассохшимися обоями, запахами и храпами и его собственная неустроенность, которую он всегда чувствовал сильнее в разлуке с женой. – Это все уже ненадолго. Домик здесь заимеем; может, ссудой какой помогут. И чтоб все было в доме – холодильничек, телевизор, мебель всякая. А со временем-то, может, и машинку свою заведем. Но это, впрочем, уже идиллия. – Этим словом он называл все несбыточное. – Это уже идиллия, известно же: сапожник всегда без сапог. А вот пацанов своих пора бы действительно заводить: ведь уж тридцать скоро, а женульке и того больше. Ей-то ребенка надо, скоро все годы выйдут… Ничего, все будет. Только бы не споткнуться где. Не споткнуться бы. А там уж я сам себе свой. Лиха беда начало. А споткнуться можно очень даже просто, и тогда снова – езжай, ищи, жди…»
Он лежал, опустив руку с папиросой к полу, и слушал, как ветер гремит чем-то железным на крыше. Он заснул, и папироса погасла и выпала из его руки.
4
Мацуев действительно подобрал для него запчасти и положил их в кабину «МАЗа». И каждую из этих прекрасных вещей Пронякин подержал в руках, неторопливо прикидывая, много ли это или мало и не свалял ли он дурака, взявшись за ремонт. Это был бы, конечно, неплохой комплект для всякой годной машины, но не для «МАЗа», в котором, наверное, живого места не было. По-настоящему Пронякин еще не видел его, на то нужна была полная разборка, и от нее-то все зависело, потому что в конце концов не стыдно было бы и отказаться и поехать в другое место, где, быть может, повезет и дадут новую машину. Но это он только обманывал себя.
В тот же день «МАЗ» отбуксировали к смотровому люку, лебедка сняла с него платформу кузова, кабину и двигатель, приподняла раму, из-под которой слесари выкатили передний и задний мосты, и Пронякин, вооружась отвертками и ключами, принялся разбирать. К исходу второго дня он увидел свой «МАЗ» по-настоящему, когда уже и «МАЗа»-то не было, а была только груда частей, узлов и деталей, едва уместившаяся на стендах.
Тут он увидел все его раны, болячки и язвы, все сколы, забоины и трещины, все погнутости и вмятины и его святая святых – рабочие поверхности цилиндров, бывшие когда-то зеркальными, а теперь покрытые нагаром и сыпью. Тогда он понял, что никуда не уйдет.
Он сел на бетонный пол в мастерской и горестно замотал головой. – Ах, сука…
Ни черта он не понимал, тот, кто ездил на этой машине, а другие, кто понимал, пришли потом, и, конечно, им было уже не совестно «раздевать», растаскивать по кускам искалеченное существо, которому вряд ли воротишь и жизнь, и прежнюю силу. Пронякин не стал распутывать концы, он просто пошел к тем, на кого намекнул Мацуев, и попросил их вернуть детали, снятые с его «МАЗа». Одни вернули их, стыдливо и молча. Другие потребовали доказательств и хорошо, с большим чувством, посмеялись над ним. Впрочем, они легко соглашались на обмен.
Но ему пока нечем было меняться, и он присмотрел и обшарил несколько автомобильных и экскаваторных свалок, где можно было кое-что разыскать, если не брезгать и ковыряться часами, разгребая щепкой мусор и гниль, и если потом отмыть детали в бензине, опилить заусеницы или сделать наплавку и отшлифовать на станке. Он оставлял себе то, что садилось впритирку, остальное шло в оборот и понемногу, по крохам, заполняло пробелы в дефектной ведомости.
Понемногу и все эти шесть тонн металла, пластмасс и резины приобретали рабочий облик и благородный рассеянный блеск деталей – когда Пронякин и слесари убирали с них черную маслянистую грязь и нагар, когда смывали накипь в рубашке охлаждения едкой каустической содой и прочищали миллион отверстий, каналов и трубочек щетинным ершом или ветошью, намотанной на проволоку, когда заваривали крупные трещины сталью, а мелкие протравливали кислотой, а потом зашлифовывали абразивами и наждачной теркой, когда заливали изношенные втулки баббитом и вулканизировали мясистую резину камер.
И постепенно у него отлегло от сердца. «МАЗ», конечно, не был такой машиной, которую под силу доконать самому ледащему портачу, и при всех его ранах и ссадинах в нем далеко еще не было той глубокой усталости металла, которую и не заметишь снаружи и от которой единственное лекарство переплавка.
Слесари, в мастерской, наверное, чувствовали это. Наверное, это было у них в пальцах – умение видеть металл на ощупь и знать, что ты не работаешь зря и возвратишь ему прежнюю крепость. Они были чуточку склочные и в меру ленивые ребята, эти четверо слесарей, с большой склонностью к философии, которая размагничивает руки, потому что приходится ими махать. Но они все-таки что-то умели и не задавались этим; они очень быстро поняли, что он бы, пожалуй, мог обойтись и без них, а они без него – едва ли. И, пожалуй, они не провернули бы всю эту адову работенку за неделю, если б он не торчал у них над душой и не подменял их во время затяжных перекуров.
Он приходил в автоколонну с первой сменой и вертелся до поздней ночи, убегая только на час – пообедать и пройти с Мацуевым очередной урок обращения с дизелем. Но наконец настал день, когда они прикатили оба моста, и таль поставила на место кабину и собранный двигатель. Пронякин подвел к нему патрубок топливопровода и подсоединил электропроводку. Он хотел все сделать сам. Но руки у него неприлично дрожали, потому что этот момент был исполнен для него таинственности, и теперь уже слесари торчали у него над душой, рассуждая на тему «Пойдет или не пойдет?»
Двигатель провернулся с поцелуйными звуками, потом заворчал и чихнул.
– Будь здоров! – сказал Пронякин. – Сейчас я тебя подкормлю.
Тогда он взревел, мгновенно окутавшись синим выхлопом, и Пронякин сел на пол, чтобы немного успокоиться.
– Куда ты торопишься, чудак? – спросил он и рассмеялся счастливым смехом. – Ты же еще не родился.
Но «МАЗ» уже родился. Он ревел, содрогаясь нетерпеливо, хотя еще был ободран и «не одет» и стоял всеми четырьмя ногами на домкратах и опорах. Ему хотелось на волю, и слесари, наверное, тоже поняли это; они пошли и открыли ворота пошире, и солнечный свет стеною встал на пороге, не в силах двинуться дальше, в темную и сырую глубину гаража. И все-таки «МАЗ» откликнулся вспыхнувшим блеском стали, меди и смазки и матовым сиянием белого чугуна.
Они оставили двигатель обкатываться и ушли в мастерскую, но время от времени Пронякин, сорвавшись с места, прибегал сюда и без конца что-нибудь регулировал. Он никак не мог сказать себе «хватит», он не мог наглядеться и наслушаться, хотя слесари уже посмеивались над ним. Теперь в сравнении с тем, что было сделано, оставались сущие пустяки. Оставалось собрать и поставить скаты, починить платформу и заклепать листовой сталью пробоины и ржавлины в кузове. Потом еще раздобыть дерматина и дратвы и цыганской иглой залатать сиденье. А напоследок он решил поставить новый спидометр, со счетчиком на нуле, чтобы он отсчитывал километры с первой его, Пронякина, ходки. И, конечно, он должен был сделать его трехцветным, не как у всех, потому что, ей-Богу же, «мазик» имел на это право – за все свои страдания.
Он купил несколько банок краски – серой, темно-зеленой и черной – и выкрасил машину с великими трудами, сам заляпавшись с головы до ног. Рама у него была черная, а кузов серый – подумав, он нанес еще зеленую полосу, похожую на ватерлинию, – крылья тоже серые, и такие же ободья колес, только еще с зеленой каймой, а капот и кабина, наоборот, зеленые, с черными и серыми стремительными зигзагами. Высунув язык, он разглядывал свою работу. Теперь он узнал бы свой «МАЗ» среди тысячи других.
А все-таки чего-то еще недоставало. Он подумал, почесал в затылке и понял, чего недоставало. «МАЗу» недоставало теперь оловянных зубров на капоте, великолепных барельефных зубров, напруживших немыслимо могучие загривки. Кто-то безжалостно содрал их, Бог весть для чего, и Пронякин, конечно, не в силах был примириться с тем, что зубров этих не будет. Это было бы чертовски обидно – когда у всех они есть. Этого никак нельзя было себе представить. Поэтому Пронякин отправился к «мазистам» и перенес контуры зубров на промасленную бумагу, а потом вырезал их из листового дюраля и прикрепил к боковинам капота.
За этим занятием и застал его Мацуев, когда пришел принимать работу. Молча он обошел машину со всех сторон, осмотрел силовую передачу и механизм подъема кузова. Потом запустил двигатель и поднял капот. Он слушал, наклонив голову и помаргивая, как покупатель в магазине прослушивает пластинку. Пронякин смиренно стоял поодаль, чумазый и похудевший, но весь его вид говорил о том, что ездить на этой машине должен только он и никто другой.
– Н-да, – сказал Мацуев. – В третьем цилиндре вроде как бы шумок у тебя лишний. Подрегулировать бы маленечко форсунку, а?
«Шумок, говоришь? – подумал Пронякин. – Вот был бы тебе шумок, и не лишний, если бы не нашел дурака, как я. «Мазик»-то на твоей совести».
Но бригадир был бригадиром, поэтому Пронякин наложил ключ на винт регулятора и повернул его чуть влево, а потом – слегка заслонив рукавом чуть вправо.
– Теперь хорош?
– Теперь другое дело.
– Может, на ходу попробуем? Хоть и не просох еще…
– Попробуем, – сказал Мацуев, закрывая капот. – Садись за руль.
Пронякин вывел «МАЗ» за ворота. Он вывел его прекрасно, потому что двери гаража были узковаты, а двор заставлен самосвалами, и он ни разу не ездил на таких тяжелых машинах, где ты сидишь непривычно высоко, точно на троне. Потом они повернули к дробильной фабрике, проехали мимо ее висячих галерей и ферм, мимо кассетного заводика, который делал бетонные панели для строительства поселка, и Пронякин попробовал «МАЗ» на всех его пяти передачах, покуда не уперся в закрытый шлагбаум железнодорожной ветки. На обратном пути они поменялись местами, и теперь уже Мацуев попробовал машину на всех пяти передачах, благо бетонка была пуста в этот час. Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился шофером, он просто стал им, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской.
– Педали у тебя легковаты, – сказал Мацуев, когда они въехали во двор. – Чуть тронешь, и уже слушается. Может, потуже бы сделал? А то как бы он тебя по случайности не послушался.
«Ну, это уж ты блажишь, папаша», – подумал Пронякин и ответил коротко:
– Я так люблю.
– Ну, гляди сам, – охотно согласился Мацуев. – Тебе же ездить, не мне.
– Значит, ездить все-таки?
– А то как же! Твой «МАЗ», чего и говорить. Теперь и отдел кадров препятствовать не посмеет. Да мы уж и так его уломали. Ты вот что, ступай-ка оформляйся до шести. Завтра медосмотр пройдешь и технику безопасности. А с понедельника, в первую смену, можешь и в карьер. Как раз и подсохнет машина. Ну и за ремонт я тебя не обидел. Вали, получай.
Но Пронякин еще не сделал последнего жеста.
– Ну что ж, бригадир. – Он щелкнул себя по шее пониже уха. – Обмыть надо «мазика». Ты меня не обидел, я тебя уважу. А?
– Ни-ни, – сказал Мацуев. – У нас это, понимаешь, не заведено, чтобы подносить бригадиру из получки.
– Какая же это получка? Это ж за ремонт. Можно сказать, с неба вместе с «мазиком» свалились.
– Все равно, – вздохнул Мацуев. – Прознают, понимаешь, а бригада пока что без срывов. Ни на работе, ни в личном быту. Вот какая история.
– Понимаю, – сказал Пронякин. – Третья заповедь: «Не пей сам, пои ближнего».
У Мацуева затряслись плечи и заколыхалась грудь. Толстые лохматые брови поползли вверх, открывая острые слезящиеся глазки. Так Мацуев смеялся.
– А пивка? – спросил Пронякин. – Все же культурно!
Мацуев перестал смеяться.
– Насчет пивка – это культурно. Это можно. Только один я не пойду, ты уж всю бригаду приглашай.
– А я и приглашаю. В лице бригадира. Все чинненько. В воскресный день. Пиво, закусь, то да се. Культурно. Только где?
– В «зверинце», где же.
– Принято!
«Зверинцем» именовался в Рудногорске стандартный торговый павильон типа «Фрукты – овощи», отделанный дюралевыми панелями и железной кроватной сеткой. Задняя дверь его, куда обычно ходит продавец и вносятся ящики с товаром, была, наоборот, парадной, и вся полезная площадь принадлежала посетителям – не считая угла, где стояли фанерный ларек и бочки. Здесь пили подолгу и говорили «за жизнь», роняя пивную пену на земляной пол, который в дождливые дни превращался в тягучее, смачно чавкающее месиво. Здесь сводились счеты – очень немудреные счеты, стоимостью в два-три хороших удара по скуле, которые, однако, выполнялись в замедленном темпе и в несколько приемов, с беззубыми угрозами и маханием кулаками – до и после драки, иногда и вместо нее. Впрочем, особенно резвиться здесь никому не давали и разводили обыкновенно на второй минуте.