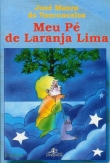Текст книги "Большая руда"
Автор книги: Георгий Владимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Ну вместе…
– Постой, – сказала она. – А кто ты мне?
Он не ответил. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей и как назвать ее, он твердо решил это к утру. Она удивилась и, жалея его, рассказывала ему все о себе, но обо всех ее похождениях он знал заранее – и настаивал на своем. Сдаваясь, она упрекнула его – еще с удивленной улыбкой, еще не веря тому, что свалилось неожиданно к ней в руки:
– Увозить ты меня, а куда – и сам не знаешь. Хорошо ли это?
Он ответил:
– Ехать – всегда хорошо.
И на третий день они уехали и долгие годы скитались вместе.
Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у «куркулей», – так он их называл, пока обида не угасла, – хотя какие уж они там были «куркули»! Он мог бы им спасибо теперь сказать, все вышло к лучшему, встретил такую, какая и нужна ему была. Вот только ничего у нее самой не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажить, хотя она умела попасть на хорошее место и неплохо заработать. Сначала, когда еще были молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то еще, этого уже трудно было добиться, потому что вместе с этим пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-то еще. И все равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.
Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что все было хорошо тогда – и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня тот, на маленькой станции, под Камышином, и сегодняшний, когда он поднимался из карьера. Он взял бы все это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу…
Но он не смог ничего взять, потому что услышал далекое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина была легковая и шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков все же завяз, но Хомяков привез врача на самолете, и в нем опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплясали на потолке, и машина остановилась. Из нее вышли двое. Они прошли под самым окном.
Он услышал простуженный голос Хомякова; сквозь приоткрытую форточку долетели обрывки фраз:
– … о чем я вас прошу… Это замечательный парень… мы завтра о нем в газете… Он верил больше всех… и даже меня, которому… по должности…
– Мне это решительно все равно. – Второй голос был высок и четок. – Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня просить не надо.
Хлопнула дверь внизу, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его чавкающие длинные шаги. Потом они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, наверное водителя:
– Ну, как думаешь?..
Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная суета, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если б оставили его в покое.
Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперед приезжего хирурга. Он ступал мягко, должно быть надел поверх ботинок войлочные шлепанцы, и сестра завязывала на нем тесемки халата, который был для него тесен. Он морщился и дергал плечом. Он был высок и толст, под халатом обозначалось мягкое брюхо. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперед, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было еще во всем поселке, и сестра поливала на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.
Вытирая пальцы, он подошел к постели Пронякина и молча уставился на него.
– Ну-с, как мы тут? – спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку. – Вы говорите, пятый и шестой?
– Пятый и шестой, – подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у нее в практике такой тяжелый случай.
– Глаз тоже поврежден? – спросил хирург. Он еще не прикасался к Пронякину.
– Глаз, к счастью, не поврежден, – ответила врачиха.
– Что же ты так, милый? – спросил хирург и, поморщившись, посмотрел на люстру. – Ну-ка, помогите мне.
Втроем они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутыли с теплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось – минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.
Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.
– Что же ты, милый? – опять спросил хирург.
Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилали слезы.
– Так вы говорите – пятый и шестой? Правильно, – сказал хирург. – Правильно, черт возьми.
И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял ее. Напряжение отразилось на его лице.
– Больно?
– Н-нет.
– А так? – Он ударил кулаком.
– Тоже нет.
Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда ушла в страхе перед этими пальцами.
– А пошевели-ка ногой. Сильнее. Он сделал все, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из нее совсем.
– Ничего, – сказал хирург. – Ничего милый, страшного.
Пронякин улыбнулся ему сквозь слезы. Надежда разрасталась в нем и заполняла вce тело, из которого уходила боль.
Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата развевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.
Они прикрыли ее очень плотно, и тогда хирург спросил, дергая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:
– Сколько ему лет?
– Еще не исполнилось тридцати, – ответила врачиха.
– Н-да. Вряд ли исполнится. Ну что ж, готовьте.
– Будем оперировать? – спросила сестра.
– Нет. Будем снимать мерку для костюма.
Он достал из-под халата сигаретницу из карельской березы и антиникотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пушистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала ее в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.
– Вы думаете, летальный исход? – спросила врачиха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.
Он помолчал и вдруг рассердился:
– Слушайте, какое вам дело до того, что я думаю! Разрежем – посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног, еще час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я еще удивляюсь его сердцу. Это просто буйволово сердце, потому что наверняка же задет блуждающий нерв.
– Но я правильно сделала, что вызвала вас? – спросила врачиха.
Он передернул нетерпеливо плечами и сбросил пепел мимо пепельницы.
– Вы все правильно сделали, коллега. Вы просто идеально все сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Сущий пустяк, вы не находите?
Он прошелся по комнате, заложив руки за спину; шлепанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.
– Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живет в районе? А районный лучше поселкового? Так?
– Простите, – сказала врачиха.
– Да я нисколько не зол, что вы меня вызвали. Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж, наверное, он знал свое дело лучше, чем мы. Что там говорить! Бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождем, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. Сам приползет. А если он умрет, так от чего? А? Позвонки! Но вот тут-то как раз и мы ни черта не умеем.
– Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? – сказала сестра.
– Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает… Ну что вы стоите, как истуканы? Я же сказал: «Готовьте!» Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.
Пронякин не слышал их и ждал, когда они вернутся к нему. Он ждал их с надеждой и страхом и даже обрадовался, услышав, как стукнула дверь внизу. Он не знал, что это Федька с Антоном принесли коньяк, за которым они ходили за восемь километров в Лозню, и решил, что его до утра оставят в покое.
Но дверь отворилась, и вошла сестра. Она включила все лампы в люстре и улыбнулась Пронякину дрожащей улыбкой. За нею вошли врачиха и санитар с носилками, тяжелый и длиннорукий, с проседью в рыжих усах и кудлатой пепельной головой. Он кашлянул в кулак и подошел к постели Пронякина. Втроем они стали перекладывать его на носилки – очень бережно и потому очень долго. А когда он снова пришел в себя, он уже лежал на столе, на боку, накрытый простыней, и потолок качался над ним. Сестра подняла шприц к свету и выплеснула несколько капель. Потом врачиха отобрала у нее шприц. Потом он увидел хмурое лицо хирурга, который подходил к нему, подняв руки, облитые желтым лаком перчаток.
И Пронякин вздохнул, закрыв глаза, и вытянулся, готовый ко всему на свете, готовый опять провалиться с рычанием в лиловую пустоту.
9
А среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдет. Это ощущение было сильнее, чем свежий надрез на затылке, и отчасти знакомо ему. Как будто он на вечеринке хватил лишнего и почувствовал себя скверно, и надо побыстрее, пока еще что-то соображаешь, выбраться – через стулья и колени соседей – на свежий воздух, иначе потом не оберешься стыда. Но тут опять боль взялась за него и не отпускала. Он хотел позвать сестру и не мог позвать, потому что перехватило дыхание.
Вокруг была темнота – наверное, все ушли и плотно прикрыли дверь, – и он не понимал, откуда берутся голоса, которые доносились к нему глухим бормотанием. Он догадался, что их там трое: сестра, врачиха и еще как будто та девочка, что работает на отвале; она теперь что-то рассказывала им, а они расспрашивали. Ее голос был самый звонкий, но она проглатывала слова, и он различал только свое имя. Но по тому, как она говорила и как дрожал ее голос испугом, сожалением и затаенной, стыдной для нее самой радостью, он понял, что она рассказывала им, как он не взял ее с собой в карьер.
– Треплются бабы – сказал он самому себе, мысленно усмехаясь. – Надо же бабам потрепаться.
Дыхание опять вернулось, и, должно быть вернулся голос, но он не стал звать сестру. Боль начала утихать. И он понял вдруг, почему молоденькая сестра боится остаться здесь одна этой ночью. Он был уже слишком обессилен, чтобы эта мысль могла его потрясти или напугать. Кто-то из них встал и вдруг оказался очень близко, и он нарочно старался дышать громче и ровнее; ведь они, наверное, хотели слышать его дыхание.
Они опять забормотали там, за глухой стеной, но он уже не прислушивался к их разговору, он прислушивался к тому, что происходило в нем самом. Если б он мог увидеть сейчас свое лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась.
Ну что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж все равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтоб быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один, в темной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния. Тебе случалось видеть, как умирают, да и рассказывали об этом достаточно, и, право же, в этом ничего красивого не было. К тому же все они говорили какую-нибудь чепуху. «Сухо» или «Давит, братцы…» Только один сказал что-то хорошее: «Вот лето придет, к морю поедем», – да и тот, наверное, бредил. Это ведь уже не слова, а так, болтание слабеющим языком, голова тут ни при чем, и жизнь тоже. Ну так и не зови к себе никого, ты только напугаешь их, а завтра все будут на разные лады повторять и перекраивать то, что ты вовсе и не хотел сказать…
Так или иначе думал он, в одиночку справляясь с болью.
А в комнате над ним горел яркий свет, очень яркий сейчас, потому что его давно уже выключили во всех домах поселка, и люди находились рядом врачиха, сестра и приезжий хирург, и не было никакой девочки, что работает на отвале, – они сидели вокруг, не сводя с него глаз и прислушиваясь к его замирающему дыханию.
Но он не видел и не слышал их, хотя они разговаривали громко. Он видел и слышал свое.
Ветер опять шумел в мокром лесу и хлопал форточкой о косяк, где-то близко прошла по грязи машина, косые отсветы фар заплясали на стенах, ломаясь на потолке. Потом стихло, и чей-то охрипший голос сказал: «Ну, кажется, все… теперь не остановишь».
Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял ее на метр от пола. Пронякин схватился за край ватной рукой и тут же потерял эту руку. У него снова перехватило дыхание. И сильно зашумело в ушах. Но он почувствовал отчетливо, как вся комната, где бродили отсветы фар, повернулась и начала кружиться, как это бывает в сильном опьянении. И только кровать висела неподвижно. Но потом и она закачалась, как на волне, когда лежишь в носу лодки и смотришь в небо.
И вдруг она поплыла вперед, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясняться, приобретая серо-голубой цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль, над мокрым лесом и над дорогой, петляющей по склону, и ему становилось все легче, все спокойнее, уже почти исчезло воспоминание о боли, когда началось мучительное падение. Его ничем нельзя было остановить, не за что схватиться, а земля стремительно приближалась, разрастаясь к горизонтам, и казалась все тверже, все страшнее. Он молил теперь об одном: чтобы его отнесло на деревья и чтоб ветви ослабили удар.
Вдруг чей-то голос, гулкий, будто в длинной трубе, закричал внизу:
– Падает, падает пульс… Вы чувствуете?
Он чувствовал только, что его несет на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутало ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра.
10
В тот день, когда серый почтовый вездеход-«фургон» увозил Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, в тот день пошла наконец большая руда.
Ближе к рассвету подул сильный восточный ветер, который подсушил глину и разогнал облака. Ранним утром показалось солнце, впервые за эти дни предосенних дождей; оно заискрилось в огромных лужах, подернутых мельчайшей рябью, и склоны карьера покрылись толстой потрескавшейся корой. К забою, где работал Антон, приползли еще четыре экскаватора, которые два часа кряду, наступая, расширяли пятачок открытого рудного тела. Шпур, заведенный на глубину в пять метров, выбросил взрывом чистую руду.
Тогда в карьер по бетонке, старательно расчищенной бульдозерами, спустилась первая смена самосвалов. А еще через полчаса первая машина самосвал Мацуева – показалась в выездной траншее. За ним шли Косичкин, Меняйло, Выхристюк, Федька Маковозов и водители других бригад, которые пока оставили вскрышу и перешли на вывоз руды. Их провожали глазами тысячи жителей поселка, облепивших берега и склоны карьера, крыши экскаваторов и фермы кранов. Маленький самодеятельный оркестр ударил во всю мощь молодецких легких, и на радиаторы первых машин посыпались охапки цветов.
Выехав из траншеи, Мацуев по привычке повернул было к отвалу, но ему со смехом указали новый путь сотни людей, стоявших шпалерами вдоль шоссе. И машины повернули к лесу, за которым высились корпуса дробильной фабрики. В одиннадцать часов была разрезана ленточка, и загрохотала щековая дробилка.
Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли. Она переполняла ковши экскаватора и кузова машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов. С двух сторон подъезжали они к опускному колодцу, упираясь колесами в деревянный брус и поднимая кузова, и руда, разом дрогнув, срывалась и падала, падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в темной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортеров.
Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло на оловянных медведях, и кузова, испачканные бурой пылью, горели, будто кованные из червонной меди.
Шла большая руда, и где-то внизу, на глубине в десять метров, попадала в щековую дробилку, которая с хрустом размалывала и перетирала многопудовые глыбы, двигая справа налево гигантскими челюстями. Оттуда, из темной пыльной глубины подземелья, резиновая лента, похлестывая на катках, несла ее наверх, на галерею, откуда она должна была трижды низринуться в конусные дробилки и трижды подняться снова, чтобы в последний раз просеяться мелкой бурой крупой в подставленную платформу эшелона.
А в четыре часа пополудни паровоз, украшенный цветами и кленовыми ветками, дал торжествующе-долгий гудок и потащил первые двенадцать вагонов лозненской синьки. Люди шли за ними вдоль полотна, а потом и по шпалам, и бросали цветы и ветви, расставаясь с вагонами, пропадавшими за поворотом в лесу.
Впереди толпы шел молодой и высокий парень в бостоновом пиджачке внакидку, в кепке, надетой козырьком назад, и пел, выкрикивая слова, нещадно мучая струны покоробившейся гитары; на лбу и на шее у него, напрягаясь, багровели жилы:
Двери славы! Ах вы, дверцы узкие…
Но как ни были бы вы узки,
Все равно войдем мы все, кто в Курске,
Ах, добыва-ал железные куски!..
Девчата висли у него на локтях и подпевали, смешливо заглядывая ему в лицо:
А судьба моя
Судьба завидная.
Притянула меня
Земля магнитная!..
Маленький паровоз непрестанно гудел утробным басом и мчал руду в южнорусскую степь, мимо тенистых рощ, перелесков и хуторов, мимо полей, речек и лугов с задумчивыми коровами и собаками, подбегавшими к насыпи с бесшумным лаем, мимо шлагбаумов и дорог с пыльными навьюченными машинами и девчат, спевающих песни в деревнях, настоянных предвечерним покоем.
Шла большая руда, и шофер, который вез Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом еще заехать на фильмобазу и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы. А дорога была вся в рытвинах и величавых лужах, обыкновенная «грунтовая средней проходимости». Иногда машина застревала в грязи, и тогда он вылезал, брал лопату и, стараясь не глядеть в кузов, швырял под колеса подсохшую землю с обочины. При этом ругался он почти шепотом.
На повороте к Симферопольскому шоссе ему повстречалась старая кофейная «Победа» с шахматным ободком, тяжко переваливающаяся с боку на бок. Они поравнялись и стали дверца к дверце.
– Друг, – сказал водитель такси в фуражке с «крабом». – Лозненский рудник знаешь?
– Сам оттуда.
– А далеко ли?
– Гляди прямо, – сказал водитель «фургона», не оборачиваясь. Деревушку на горушке видишь? С церковью.
– Ну?
– Ну так это Лозня. До нее по-человечески восемь, а по спидометру все пятнадцать. Чуешь? А до рудника еще семь. Там покажут добрые люди. Четыре кирпичных блока, десять бараков, остальное – «шанхай». Это и есть Рудногорск.
– Дорожка, значит, того?..
– Скатерть! – сказал водитель «фургона». – Обрати внимание на мои борта.
В машине сидела женщина. Сквозь стекло ему видно было, что она едет с вещами и что ей тесно среди этих вещей.
Женщина опустила стекло и выглянула. Она была красива бойкой красотой парикмахерш и продавщиц. Но если бы он посмотрел внимательнее, он бы заметил усталость в ее глазах и морщинки вокруг чуть припухших губ, какие бывают у добрых женщин.
– На работу? – спросил водитель «фургона». Женщина ему нравилась. Он с удовольствием сел бы на место водителя такси и уступил бы ему свое место.
– Да еще не знаю, – сказала женщина. – Пока к мужу. Он у вас на «МАЗе» работает.
– К мужу? – спросил водитель «фургона». – Тогда другое дело. Везет же кому-то!
Он совсем не хотел ей польстить, он просто очень хотел работать на самосвале. Но женщина кокетливо улыбнулась и тронула рукой мелко завитые волосы.
– Праздничек сегодня у вас? – спросил водитель такси. – По радио-то нынче объявляли.
– Ага, праздничек. – Он, не отрываясь, глядел на женщину. Она опять улыбнулась ему.
– Шумят небось? – спросил водитель такси. – Гуляют?
Водитель «фургона» пожал плечами, холодно заметил:
– Кто и погуляет…
И отпустил педаль сцепления. Шла большая руда, и он торопился и не хотел вдаваться в подробности.