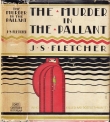Текст книги "Я убил смерть"
Автор книги: Георгий Бальдыш
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Такие «римские ночи» могли длиться неделю.
Потом однажды все менялось. Лео засаживался за письменный стол, отгороженный шкафом. И это сидение могло длиться неделю-две. Сходит в институт часа на два (и то не всегда), покажется – и опять уткнется в интегралы и дифференциалы, в свое фазовое пространство – мир таинственный и недоступный ей. Его работы сразу же по выходе перепечатывались во всех цивилизованных странах, он слыл одним из выдающихся математиков современности. Во всяком случае, так она могла понять, – к нему приходили письма и приглашения из Англии, Франции, Японии. И это не могло не вызывать уважения: она перепечатывала его рукописи, а он потом от руки вставлял туда свою математическую партитуру.
И все бы ничего, только уж очень он всегда и во всем старался принизить ее, будто это надо было ему для собственного утверждения. Он вообще говорил: «Женщины дуры» – и искренне был убежден в этом. И внушал ей и внушал, что никакого таланта у нее нет и хождение в театр (он так говорил – «хождение») – пустая трата времени. Она уже начинала верить в то, что нет у нее таланта, а может быть, и действительно: у нее и в самом деле все хуже и хуже было в театре, не получалось ничего, и роли ей стали давать третьестепенные. Ей говорили «не бывает маленьких ролей…» Офелию она так и не отвоевала, потом мечтала о Бесприданнице: думала, вот сыграю, тогда хоть что! Пока ждала и гадала, уже поздно стало – годы вышли, пробовала для себя репетировать – а сквозное действие было одно, как бы молодую сыграть двадцатилетнюю. Вначале ей даже нравилось, что Лео не был «живым укором», нравилась некоторая расслабляющая «богемность». Но потом стала догадываться, что за его холодком к ее артистической карьере стоит нечто совсем иное – не равнодушие, а даже наоборот. Он ревновал. Теперь он требовал, чтобы она ушла из театра, – это было его последним условием. То есть вначале это было даже приятно, во всяком случае, подкрепляло уверенность в крепости их союза, и она была спокойна – пить пил со своей кодлой, за юбками не гонялся, хотя сам не был обижен и даже заезжие длиннохвостые француженки искали с ним свиданий, как с фигурой весьма колоритной – типичным бородачом – «а ля рюс». А он так легонько, элегантно расшвыривал всех. Но уж и ей не дозволял ни на кого взглянуть. Приводил своих же дружков, которые слетались на его получку, как мухи на сахар, она же им прислуживала-мыла утыканную окурками посуду, подтирала после них полы, и ей же каждый раз попадало – тот не так на нее взглянул, тот не так руку пожал, тому она глазки сделала. А тут привел какого-то модернового художника, тот сел за стол и спрашивает: а есть в этом доме хрен? Она побежала, натерла, протягивает ему с улыбкой, естественно. Ну Лео и отплясался на ней за эту улыбочку. Еще и гости не разошлись – муж в коридорчике притиснул: «По художничкам соскучилась?» Больно притиснул, будто шутя.
– Да и по режиссерам, – Лео достал из кармана конвертик: – Твой почерк?
– Но это же просто заявление, просьба о роли…
– Ради этих ролишек, мне говорили… ты запираешься с ним, со своим Гоголидзе, в гримуборной. Но знай, – Лео запрокинул голову и косенько погрозил толстым пальцем, – я не потерплю… предательства.
– Какая пакость!
– Пакость, – он повел изумленно вокруг воловьими налитыми кровью глазами, облизнул губы и вдруг стал кидать стулья, пепельницы, хрусталь. Пакость? Я покажу тебе – пакость… – Потоптался, пошел в ванную, подставил голову под кран, шипел, плескался, бормотал… Проходя мимо нее с полотенцем на шее, процедил презрительно: – Пакость… Да, пакость! – и ушел в спальню.
Лика легла в гостиной на диване.
В щель между шторами смотрелась полная луна, Лика не помнила, как в ее руках оказалась эта пластинка, похожая на обыкновенную долгоиграющуютолько металлическая.
– Димчик! Может быть, приспела пора приползти к тебе на брюхе? А, Димчик? – Она сквозь слезы смотрела на пластинку; а что, если он улыбнется ей оттуда? – Димчик, а?.. Может быть, ты придешь и вынешь мне соринку из глаза…
Заворочался и откашлялся Лео. Сел, скрипнув пружинами, плюнул в плевательницу. Надел шлепанцы, накинул халат и, придерживаясь за стены со сна и подхлестывая себя по пяткам задниками, вышел в коридор. Наткнулся на кучу белья. Чертыхнулся.
– Лика! Ты где? Что за хохмы?
– Заглянул в комнату. Увидел ее тень за шторой:
– А… лунные ванны?..
– Да… вспомнила вот… нужно постирать сорочку. Завтра не в чем идти…
– Ухм. Сорочка… да… сорочка должна быть чистенькой. Белье-то давно бы постирать надо. А то действительно мыши заведутся. Чистюленька моя… Ну разумеется, разумеется, искусство превыше всего… А это… что это у тебя там – сковородка какая-то в руке?
– Да ничего, ничего у меня нет… никакой сковородки! – И она повернулась, дзенькнула пластинкой о мраморный подоконник.
– Театр теней, – оказал он и ринулся к ней. Оторопевшую, схватил ее за запястье, слегка вывернул руку и взял диск из разжавшейся ладони: – Что это, детка?
Она пожала плечом, жалко-просяще улыбнулась:
– Не знаю, какая-то железяка. Подставка… На антресолях я рылась… белье… и… искала свою сорочку… потянула и вот там… Может быть, это вообще с прошлого века еще – дом-то старый, столетней давности.
Лео рассматривал, ощупывал пластинку. – Зажег бра.
– О! Великолепный металл. Нержавейка. – Глянул на Лику. – Может быть, летающая тарелочка, пришельцы? Сплав магния и стронция?.. А волос ангела у тебя нет случаем? – Шагнул к обеденному столу, поставил диск на ребро, факирским жестом крутанул. Играя голубоватым лучиком, пластинка повернулась несколько раз вокруг оси и грузновато стала крениться набок, покачиваясь и теряя амплитуду ладони, придержав ее, подхватив ребро сильными.
Лика невольно протянула к ней уже на самом краю стола.
Лео, однако, деликатно предупредил ее, подхватив диск. Потом подбросил его, поймал за ребро сильными своими пальцами, успев заметить плеснувшийся суеверным ужасом взор Лики, непрерывно следящей за всеми перемещениями диска. Лео усмехнулся, глядя на ее распахнутые нелепо руки и растопыренные пальцы.
В следующее мгновение, повернувшись на одной ножке и надкусывая кончик ногтя, Лика хмыкнула:
– Цирк на дому, Кио?
– Aral.
«Может быть, о чем-то догадывается, – со страхом подумала она, вспомнив тот фантасмагорический день, когда Дим выпускал из чана своих летучих тварей… – Наверно! Говорил же ему Дим о своих планах, об этих записях жизни – наподобие фуги Баха… Еще амеб они тогда вместе записывали, покуда не рассорились… Неужели догадывается?»
Она подколола шпилькой волосы, пошла подбирать белье. С табуретки поглядывала в проем дверей, на Лео. Тот, усевшись на стул и откинув его на задние ножки, покачивался, посвистывал и раздумчиво постукивал ногтем по пластинке.
Потом встал и, небрежно и хватко держа пластинку, меж указательным и большим пальцами, проследовал в уборную и вернулся в спальню.
– Лео!
Он оглянулся в дверную щель:
– Ась?
– Зачем ты?.. Я думала, употреблю эту железяку как подставку для утюга.
– Да? Хм… Мне сдается, что она достойна лучшего применения. Помолчал, причмокивая. – Если не возражаешь, я возьму ее как подложку для паяльника? Ты же понимаешь, производственные интересы… – Закрыл за собою дверь.
Побросав белье на антресоли, Лика тихо, на пальчиках подошла к дивану, легла, уставясь в потолок. На потолке шевелились тени. И если присмотреться к ним, то можно увидеть то добрую морду моржа, то мечеть с минаретами, то яхту, то куделявую бородку Лео с усмешливой улыбочкой… Сон не шел. Лика могла бы принять снотворного, яо поняла, что это излишне: она просто боялась уснуть. Впрочем, под утро забылась. Стоило, однако, скрипнуть дверям – она открыла глаза. Лео вышел в одних брюках, засунув большие пальцы рук за голубые нейлоновые помочи, пощелкивая ими по облитым жирком мышцам груди.
– Лежи, лежи. Я сам себе кофейку сварганю. Мне сегодня пораньше надо. Отнести корректуру реферата. Лежи.
Она слышала, как он зашел в ванную, зашуршал душ. Скользнула в спальню и сразу нащупала в наволочке диск. А Лео уже навис над ней, держась за притолоку.
– Детка, что ты?
– Хотела постелить… вот…
– А… ну-ну. Постелить?
Извлек из наволочки пластинку.
Крутанул ее на столе – вибрирующую, приплясывающую, пластающуюся, невозмутимо прихлопнул:
– Прекрасная матрица. Тираж на первый случай – сотня штук. Сотня Димчиков. Впрочем, на первый случай достаточно и тридцати. «И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных и с ними дядька их морской»? А? Вот пойдет потеха. Пускай разберутся, кто-кто.
– Ты чего? Свихнулся уже совсем?
– Чего? Столько сразу поклонников твоего таланта! Хорошую клаку можно организовать. А? Хотя они передушат друг дружку. Но ты же это любишь, – олени, бьющиеся насмерть. Олений гон.
– Ничтожество, ничтожество. – Она зарыдала, прижав разъятыми пальцами глаза.
– Сберегла? Он всегда у тебя в печенках сидел, А я, дурак, разнюнился. Простака сыграл.
– Это подло!
– Да? А держать за гардинами любовника? – Он смотрел на нее наивно-пронзительными глазами, долго и вразумляюще. – Естественно: я беру его за шиворот и спускаю с лестницы. Так поступил бы каждый… всякий уважающий себя мужчина… Не волнуйся, детка, – никаких оленей не будет… Совсем наоборот.
Он взял пластинку за ребро, как будто хотел сломать. Лика упала на колени, впилась в его ляжки ногтями, скользя коленями по полу, не чувствуя боли.
– Не смей!
Он слегка толкнул ее. Она сидела на полу, растрепанная и обессиленная, в разодранной сорочке.
– Убийца!
– О чем ты, киса? Такие эмоции заставляют предполагать грандиозные страстишки. Как легко вы теряете голову, ай король, как рассеянны вы… Ну вот так-то. Признание не отягощает, а освобождает душу. Значит, Димчик? – пошевелил пластинкой перед носом поднявшейся Лики, раскрыл створки портфеля, элегантно швырнул пластинку в его недра. Почти не выпуская портфеля из рук, надел манишку, галстук, пиджак и, больше не сказав ни слова, вышел. Пушкой хлопнула дверь.
Лика бросилась сначала к вешалке, сорвала пальто, надела его прямо на сорочку, потом кинулась к окну, прикрываясь шторой, смотрела, как он вышел из парадной, причесываясь на ходу гребешком. Странно, однако, пошел он не к остановке автобуса, как всегда, а оглянувшись на окна, повернул в проулок.
Она выскочила на улицу. Подбежала к углу дома и увидела, как Лео опускается в подвальчик, над которым, она знала, висела вывеска: «Вторсырье»…
Он мог бы швырнуть пластинку в мусоропровод, в канал, закопать в землю, но ему, как видно, особое наслаждение доставляло сдать спрятанного в магнитных дорожках «Димчика» на переплавку. «Вахлак, жлоб, ничтожество!» Как бы сейчас она исколошматила его за это жлобское самодовольство и тупую силу. Пластинку она все-таки выручила, предложив старьевщику взамен бронзовые канделябры.
Вечером Лео пришел тихий, покорный, сказал:
– Прости. Все это больное воображение… бред параноика. – И, вынув из кармашка пиджака золотую цепочку, протянул ей в горсти: – Носи… детка… Ее носила сама Нефертити.
Он умел это – на крутых виражах вывернуться наизнанку.
Но все уже катилось под горку.
Четко, как чеканка по черненому серебру, запомнился этот вечер.
В черной воде канала кувыркались лунные зайчики.
Ликины каблуки цокали по гранитным плитам и гулко отражались от уснувших громад домов. Рука Лео лежала на ее шее, под белошерстным воротником голубой стеганки. Он слегка сжимал ее шею сзади пальцами, как будто – огромный и сильный – бережно нес ее, как несет кошка махонькую мышь, показывая всем и хвастая своей победой.
Теперь всякий раз, когда она была занята в спектакле, он непременно приходил встречать ее. Конечно, это не от великой любви, – думала она, – и не потому, что ему так уж не терпится скорее увидеть ее, а чтобы она опять, как говорил, не дернула налево с кем-нибудь из деятелей искусств. И то, что Лео приходил, как цербер, и вел ее под конвоем своей ревности, разумеется, не доставляло ей большого удовольствия. Нужен он ей, этот главреж, как рыбке зонтик – то есть в смысле мужчины. Хотя, конечно, приятно, когда на тебя еще смотрят, это прибавляет уверенности и вообще… Как-то Лео проговорился, что он, может быть, потому так уж захотел на ней жениться, что вокруг вилось столько мужиков… И ей тогда понравилось, как он об этом сказал. Да… Когда она думала о женско-мужских отношениях, ей обычно представлялся олений гон: за оленихой, ломая ветви, бегут несколько самцов, а потом бьются сильнейшие, и один из них остается надо всеми. В этом сравнении с природой ей чудилась цельность первозданности, первобытная, идущая от земли цельность, замызганная позже наслоениями человеческих табу – лжи, расчета, всяких задержек и фобий, из которых уже не выбраться. Ей нравилось, хотя бы где-то там изнутри, чувствовать в себе эту олениху, которая бежит от… Этот бег в ней – был самым веселым и пьянящим чувством. Но теперь бег кончился. Теперь своей хамоватостью, мужланским самомнением Лео вызывал желание высвободиться. Она хотела этого и боялась, и надеялась, что все еще образуется, что все повернется как-то или Лео переменится и вообще что-то произойдет, и он поймет ее, и поможет ей найти себя, хотя бы не будет мешать. Но он все давил и давил – да, это его пальцы на шее.
– Убери, пожалуйста, руку.
Лео удивленно, с высоты своего роста, посмотрел на нее. Как бы слегка приотпустил ее. Она чувствовала его недобрый взгляд – в затылок; гуляй-гуляй.
«Цок-цок» – отдавались гулкие шаги в душе. «Цок-цок», «Цок-цок». «Цок-цок».
Струился месяц в реке, как рыбья чешуя.
Так же звучали шаги в ночи: они шли с Димом – этой же набережной канала, забранного в гранит. Лет шесть назад это было?
«Цок-цок», «Цок-цок».
Была такая же тихая светящаяся ночь.
И было все впереди. И она верила в свою звезду. Вега! Она отыскала ее сейчас на небосклоне – затерянную – свою. Игольчатый луч ее шевельнулся в канале.
Вспомнила, как расставались с Димом на юге в то лето, когда они познакомились, и, лишь смутно надеясь на встречу в каком-то далеком будущем, она сказала ему;
«Когда вам захочется встретиться со мной взглядом, посмотрите на Вегу, – я обязательно почувствую ваш взгляд». Дим улыбнулся и обещал ей.
Потом – это было уже с Лео, он уезжал в командировку, она сказала ему: «Писем писать не будем, но каждый день в одиннадцать часов и ты и я давай посмотрим на Вегу, как будто скажем друг другу спокойной ночи». Это было, наверно, наивно, но зачем так нехорошо он усмехнулся и только пожал плечами?
«Цок-цок», «Цок-цок». Она идет под конвоем его взгляда.
В тот вечер, когда они шли с Димом, она сказала ему;
«Тысячи молоточков стучат в мой мозг. Если я через год-другой не сыграю так, чтобы обо мне сказали – это актриса, а не так себе, я просто сойду с ума или стану злой, как цепная собака».
«Цок-цок».
«Я не стала злой, как цепная собака, и не сошла с ума, но чего-то во мне не стало – меня не стало».
На горбатом мостике Лео окликнул Лику:
– Постоим, детка.
Она полуобернулась:
– Что тебе?
Он прислонился к решетке – в японской куртке с вывороченным воротниковым мехом:
– Какая тебя муха укусила? Муж тебя встречает, другая бы песни пела. Ну что тебе надо? Или не нравится, что встречаю?.. Ты скажи.
– Не нравится.
– Вот как.
– Надоела твоя бдительность, надоела, не хочу. – И она двинулась дальше.
Он сделал шаг, потянул ее за руку, взял затылок ее в ладонь.
– Бунтуешь? Не идет тебе.
– Ничего.
– Ищешь повода?
Она молчала, отвернув лицо.
– Захотела свободы – иди. О нем думаешь, об Иисусике, – угадал? (Она поняла, что он говорит о Диме.) Два сапога. Но знай: я человек страстей. Я могу… Ты знаешь. Во мне есть такое, чего я и сам боюсь.
Она рванулась и пошла. Он догнал. Взял за плечо, повернул.
– Пусти.
– Не пущу!
– Неужели ты думаешь, что после твоих угроз я еще буду стоять с тобой?
– Дура, – ведь люблю же. Не бегал бы за тобой.
Он сжал ей руки в запястьях. Она запрокинула лицо в небо, закусила губу, чтобы не закричать от боли.
– Давеча ты сказала, что у тебя задержка.
– Ну…
– Это правда?.. Все еще? – Он искал ее глаз.
– Какое это теперь имеет значение и вообще – какое это имеет значение?
– Не смей убивать ребенка. Мне надоело, я хочу семьи. Мне не нужна жена – кинозвезда – перекати-поле. Я хочу семьи! Ты для меня и так хороша. Я тебя и такую люблю еще больше. Я прошу – оставь. Слышишь?
Она покачала головой: нет.
Он оттолкнул ее и пошел в другую сторону – наугад, прямо по мостовой.
И тогда она, помедлив, сама не поняв себя, побежала за ним. Он убыстрил шаг. А она едва поспевала и забегала то с той, то с другой стороны.
– Не стыдно… женщину… ночью… среди города…
На них шало мчалось такси. Лео поднял руку. Машина, завизжав, остановилась. Открыл дверцу, втолкнул Лику, сам протиснулся с трудом, уселся, широко разъяв колени и сутуло наклонясь. Лика забилась в угол.
В шоферском зеркальце дрожало отражение виска и носа Лео.
Лику била дрожь, и она сжималась в комок, чтобы умерить ее. Он думает: так можно чего-то добиться… Еп хотелось пнуть его ногой: он был ей отвратителен своим самодовольным спокойствием и убежденностью в своей правоте. Она просто ненавидела его в эту минуту за то, что он заставил ее бежать за ним, как собачонку. В конце концов, это комплекс неполноценности – непременное желание унизить, чтобы самому выиграть в своих же глазах.
«Господи, я как загнанная мышь, неужели на свете нет человека, который понял бы меня?»
Они ехали мимо сада, и в сквозящих ветвях голых деревьев заними, посверкивая, ошалело гналась луна.
Кажется, Лика слишком громко вздохнула – почти простонала, – из зеркальца на нее взглянули встревоженные глаза шофера. И Лео недобро покосился.
Возле дома тронул таксиста за плечо. Вышел, распахнул дверцу рыцарским жестом:
– Адье, мадам… Я еще проветрюсь.
И вновь уселся в машину, размашисто хлопнув дверцей.
Этой ночью Лео, разумеется, не пришел. Она так и думала, что он не придет. Не впервой уже. Теперь ночь, две, три, четыре будет вынашивать свою обиду. Такое сладострастное мучительство он отрабатывал, еще на мамочке, убегая из дому с тринадцати лет. Сам провинится в чемнибудь – промотает школу, предпочтя ей Дину Дурбин в кинотеатре старинного фильма, – и дома уже не появляется: пусть мамочка помытарится, посходит с ума. Для ночевок зимой он приспособил старое кресло-развалюху, укоренив его на чердаке точечного дома, возле труб водяного отопления, и припас дешевую библиотечку Шерлока Холмса. Время от времени он все же позванивал домой из автомата уже за полночь и молчал в трубку, прислушиваясь к материнским интонациям, – дошла или не дошла до «кондиции». Если «дошла», значит, можно возвращаться и даже просить деньгу. Сначала деньга шла на мороженое или многосерийный вестерн, потом, с возрастанием потребностей, на возвращение «долга», за который могут «убить», на блок сигарет, коктейль или даже на импортные джинсы – в зависимости от количества выстраданных им (и мамочкой) ночей…
Теперь это инфантильное мучительство было перенесено на Лику.
И хотя подобные психологические экзерсисы практиковались довольно часто, Лика все равно не могла до конца уверовать в их садистское лиходейство. Она срывалась в жуткую истерику. Ее охватывал страх: с Лео непременно что-то случилось, он попал под трамвай, его пристукнули где-нибудь в проходных дворах, польстившись на его шикарный портфель или золотые запонки.
К тому же страшно было оставаться одной: пугала тишина, казалось, кто-то ходит по комнате, кто-то залез на балкон, что-то методически щелкало по оконному стеклу…
Она поднималась с постели и, накинув плед, сидела на подоконнике. С сумрачной, неверной надеждой встречала каждый светлячок такси, появлявшийся в конце улицы…
Лео не пришел ни в следующую, ни в третью ночь…
Да… как всегда: решил похлеще подсечь ее за губу, как форель… измотать? Или просто бросил? «Бросил» – придуманное слово. Что она перчатка? Ну уж ладно! Никому, как себе.
На рассвете третьего дня она «позвала» Дима.
Провела ноготком по зазору половицы за трельяжем паркет раздвинулся, и из-под пола, словно только и ждало этой минуты, выскочило устройство, подобное обыкновенному проигрывателю. Оставалось поставить на стерженек пластиночку. И направить иголочку – бережно и точненько. И пустить рычажок – «ход».
Вот тебе, Ленечка, сюрпризик!
В эту минуту она очень хотела, чтобы Димчик действительно явился. Хотя и не верила в эту «чертовщинку». Копошилась смутная боль, – явится и скажет: «Что же ты, миленькая, держала меня в пластиночке, как собака зарытую кость? Сколько лет? Что же ты, миленькая женушка, так… А? Почему – не сразу?..» А ведь она и хотела сразу, в тот же день, когда он умер, – три года назад. И был порыв. Потом подумала: а если и впрямь явится, – тот, еще ТОТ, который хранит тепло супружеского ложа, – что не будет тогда? Боже правый! И она откладывала – на день, на два, на месяц, на три… Прошел год. Потом все труднее было решиться: почему, мол, не включила пластияочку сразу?! Сразу! Коготок увяз – всей птичке пропасть, Кошмар…
А теперь уже все – одним махом: будь что будет!
Лео, не ночевавший уже несколько ночей, позвонил ей как раз тем утром, когда Дим явился к ней – явился в самом деле! Дим явился и сидел как раз в чешском креслице за чашкой кофе, когда позвонил Лео – по-телячьи дышал в трубку, ожидая ее вздоха, стона, доброго слова;
«Левушек, это ты?..»
Что бы там ни было – она все же любила его. Ненавидела и любила.
– Еще щец подсыпь, – сказал Лео, вытирая пальцами бороду возле губ.
«Да… но что же теперь будет?» – размышляла она, неся и плеская горячий борщ себе на руку.
Лео хлебнул (она поморщилась), обтер губы ладонью;
– Ты знаешь, какую штуку сыграла со мной сестренка? На защите она выступила против. И что ты думаешь она заявила? Моя работа от начала до последней буквы плагиат: уверовала, что я – вор и мошенник. А? Как тебе это нравится?
– Дрянь: сама же ведь воспользовалась Димовыми идеями и пасется…
– Ладно, не будем мельчить. Не в этом соль. А соль в том, что он… жив!
Лика, краснея; отвернулась, достала из сумочки сигареты.
– Дай-ка огня.
Лео выстрелил зажигалкой, прищурясь и глядя ей в глаза.
Она хотела сдержать прилив крови и от этого краснела все больше.
– Ты сказал какую-то чушь. Я даже не могу понять.
– Жив, Я его видел, как вот тебя. В трех шагах.
Она отвернулась, вся пылая и все еще пытаясь одолеть прилившую к лицу кровь, подошла к зеркалу, поправила волосы:
– Двойник?
– Может быть, и двойник. Однако я видел, как на этом двойнике повисла, моя сестренка.
Лика закашлялась от дыма, сгорбилась, съежилась.
– Ты сам же говорил, что это невозможно, – сказала растерянно.
– Ну, а если все же возможно?
– Дрянь. Это – она, она. Это – не я… я ничего не знаю… Спрашивай у своей сестренки.
– Ты что? – Лео швырнул ложку, и она брякнулась о край тарелки, зазвенела, перевернувшись. – Ты что?.. Он встал и всей глыбой своего тела надвинулся на Лику. А пластиночка? Пластиночка? Может быть, у тебя были дубликаты?.. Тираж…
– Лео, не надо, пожалуйста, не надо… больно же.
Она закричала. И тогда он зажал ей рот ладонью.
– Тише.
Он подтолкнул ее в кресло, где она давеча вязала…
– Ты мне должна сказать… Пойми ты, дуреха, – мы с тобой одной ниточкой виты. Я должен знать, чьи это штучки. Не бойся, мне надо просто знать.
– Ну откуда же я знаю – что ты имеешь в виду? Что? – сказала она с тайным вызовом и даже с каким-то намеком, но прикусила язык. Да, она хотела бы сказать: «Из-за тебя, идиота. Приревновал к главрежу – вот л возьми теперь за рупь двадцать». Ушел, бросил, – вот и поставила она заветную пластинку. Сама не верила, а так, а вдруг: назло!
– Теперь он представит документальные свидетельства, и накрылась моя диссертация. Это же позор! Смерть!.. Да, Ликушка, – никому, как себе.
– Нет-нет. У него ничего нет. Все черновики по этой раковой проблеме остались у меня. Для него это был частный вопрос… И он, в сущности, не довел его до конца отбросил и пошел дальше. Он разбрасывался… Он хотел к нему вернуться, но…
Лео засунул руки в карманы брюк, переваливаясь с пяток на носки:
– Чтобы не разбрасываться, ему остается одно – уйти.
– Куда?
Лика с ужасом отшатнулась, нос заострился, лицо посерело.
– Зачем ты мне это говоришь?
– А ты все хочешь на саночках кататься? Чтобы руки чистые были.
– Зачем ты мне это говоришь?
– Не бойся… Это сделает моя сестренка, своими ручками, и даже не подозревая о том. Мы его еще заколотим…
– Лео, ты ужасен.
– Да ну?
Он прошелся, играя желваками:
– Ну вот, детка, я и поймал тебя – хлоп! Зацепило? Я давно догадывался: ночью и днем – только о нем.
– Дурак ты… и даже, если в шутку… все равно – дурак.
– А ты хочешь играть в добренькую. «Бабушка, а бабушка, а почему у тебя такой большой рот?» Я человек прямой, я люблю прямо…
– Ты – злой.
– Да, а он святой, добренький! Он хочет бессмертия – не для себя? Предположим. Бессмертие индивида. А к каким это последствиям приведет, как это отразится на всем виде хомо сапиенс? Ему плевать! Демагогия. Да, я хочу бессмертия для себя и, если угодно, для тебя, но я не хочу ханжить и прикрывать эту страстишку марципаном. Один бог знает, какие фантастические мутации в ближайшие тысячелетия даст человеческий мозг… Бессмертие – это все равно за счет кого-то. Даже если ты будешь сидеть на Олимпе и питаться акридами-то ведь они тоже живые. Живые! Даже если ты будешь утолять свой аппетит не говядинкой из консервной банки «завтрак туриста», а потреблять синтетическую пищу из сине-зеленых водорослей или планктона-то ведь это тоже – живое. Хоть и одноклеточное. «Цыплята тоже хочут жить»… Я по крайней мере говорю прямо: хочу бессмертия для себя и, если угодно, для тебя, – я тебе и обеспечу его. Это дело уже запатентовано. Не будем играть в черненьких и беленьких.
– Я уже ни в кого и ни во что не хочу играть. Мне часто просто хочется умереть… Но и это, очевидно, я не могу… я и на это не способна. – Лика раскинула руки-плети.
– Ну зачем так-то?.. Ты ведь, чай, теперь удостоверилась в его гениальности саморучно… Может быть, даже тешишь себя, что он принесет тебе венец мадонны с лазерными лучиками. Бессмертие на тарелочке с золотой каемочкой… А! Что же ты не бежишь к нему? – Повел глазами по комнате. – Небось он уже здесь побывал, причастился?!
– Может быть, и был, – сказала монотонно и тупо.
Лео присел на валик кресла, притянул Ликину голову, почесал ей затылок:
– Ладно тебе. Был-не был – не суть важно. Тут не надо быть Вольфом Мессингом – дело твоих рук. Но… помни – это уже без дураков, – если ты с ним встретишься хоть раз – ноги моей здесь не будет… Ловите с ним Журавушку… Да и он не совсем уж чокнутый. Надо быть совсем… чтобы простить тебе… что ты вызвала его оттуда лишь спустя три года… это запоздалое рандеву по мимолетному бабскому капризу… Да к тому же и сестренка его уже подсекла намертво и уже не отпустит. Что же касается наших с ним деликатных отношений, могу сказать одно: дуэль продолжается… по лучшим правилам рыцарских времен – кто кого. Это даже привносит в наши будни некоторую экстравагантность… Ну ладно, будет… Вытри слезки-то… Тут мы с друзьями собираемся отметить докторскую, очень хочу, чтобы ты была… была, как всегда, украшением бала… А?
Лика слабо шевельнула головой, и даже непонятно было – «да» это или «нет».
Констанца тянула Дима за руку по крутой лестнице вверх. Она бежала, как школьница на выпускной бал.
И так это было стремительно и озорно, что спускавшиеся им навстречу девушки-лаборантки озадаченно посмотрели на свою начальницу.
На третьем этаже перед дверью, обитой черным дерматином, Констанца остановилась, и Дим прочел: «Лаборатория мозга».
Она села за свой стол с голубоватым кувшином. Из кувшина торчали веточки ольхи. «Из Пещер», – подумал он. Такие кусты всегда лезли в его окна. В кувшине дремало солнце. Размашистым и мягким, все таким же озорным жестом она предложила сесть в одно из кожаных кресел.
Констанца и Дим только что отвезли детей в детсад и примчались еюда на такси. Сюда – в лабораторию мозга, которую Констанца, оказывается, возглавляла уже два года и была ни больше ни меньше как доктор биологических наук.
– Когда ты все это успела, Ки?
– Ха. Я и не то еще успела.
Констанца стояла, закинув руки за голову, в солнечной ряби. Это не означало ничего, кроме того, что она счастлива. Счастлива тем, что он – с ней, и еще тем, что у нее есть какой-то сюрприз, который она «давно» припасла для него и сегодня, наконец-то, сможет его «обнародовать».
Он смотрел на нее и не мог преодолеть зыбкого чувства ирреальности будто все это происходило не с ним или нe в этой жизни. И не мог пересилить в себе какого-то непонятного упрямства: хотел он быть с ней лишь бы назло той? – да нет, просто потому, что от нее шло такое человеческое, родное тепло, потому что его дети были и ее детьми, что в них на веки вечные, сколько будет стоять мир, скрестились они, и это нерасторжимо, потому что он уже когда-то – хотя и не знает об этом – вдохнул в нее свою любовь, свет, который она отражает сейчас, потому что в ней есть что-то очень похожее на него. Ему даже кажется в эту минуту: когда он смотрит в ее лицо, словно он смотрит на самого себя – в зеркало. И ему кажется, что она похожа на него больше, чем он похож сам на себя, и это не бред – это действительно так, как ему кажется.
Она протянула ему руку, и они пошли сквозь залы.
В комнате, куда они вошли, Дим сразу увидел виварий с белыми мышами. У одной из головы, поблескивая, торчала диадема из золотых электродов с шариками на концах. Констанца отодвинула дверцу, и рубиноглазая царица, поводя хвостом, как шлейфом, доверчиво взошла на ее ладонь, живо обнюхивая все ее бороздки, подергивая усами.
– Эта коронованная мерзавка и не подозревает, что она – первое на планете бессмертное существо, во всяком случае, сотворенное руками человеческими.
Дим принял венценосную тварь из рук Констанцы.
Смотрел восхищенными глазами то на мышь, уютно умостившуюся на его ладони, то на Констанцу.
– Да… – произнесла та с некоторой небрежностью, – она пережила уже сто пятьдесят шесть поколений своих сверстниц… А ведь это твоя мышь!
– То есть? – спросил Дим с известной долей подозрительности.
– Ты ее создал на шестой день творения, – улыбнулась Констанца, – Нет, серьезно, совсем серьезно. Ты принес ее за несколько недель до своей смерти и сказал; «Бессмертна, как Ева до грехопадения, – во всяком случае, по-видимому, переживет нас». Ты успел объяснить мне, что в каждой бусинке ее диадемы – свой генератор, установленный на твердой волне, и каждая из них контролирует одну из клеток сетчатой формации мозга…