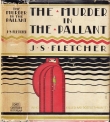Текст книги "Я убил смерть"
Автор книги: Георгий Бальдыш
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Она заправила распавшиеся волосы за уши, по лицу ее бежала огненная рябь, бровь ее серповидно напряглась:
– Женщины бегут от любви, чтобы поверить в нее.
– Но, может быть, пора мне поверить?..
Она пожала плечами и как-то странно посмотрела вбок. Вынула шпилькой из мундштука остатки пепла.
– Я не знаю… Я не верю, что я тебе буду нужна, как только… Ты все ждешь от меня чего-то, чего-то сверхъестественного, на что я, наверное, неспособна. Чего-то ждешь, требуешь, И даже не замечаешь, как ты деспотичен…
– Это я-то? Который дает тебе полную свободу?
– А может быть, мне не нужна эта свобода? Ты хочешь, чтобы я совсем растворилась в тебе… Я я так порядочная обезьяна – я становлюсь тем, с кем нахожусь…
И вообще… У нас в театре уборщица беременная ходит, и я вдруг замечаю, что начинаю, как она, ходить – живот вперед, спина прямая, боюсь столкнуться с идущими навстречу. Черт знает что…
– Значит, ты гениальная актриса.
– Тебя бы к нам главрежем, – улыбнулась примиряюще.
Лика опять закурила, а я поставил разогреваться тушенку.
– Кто это тебе такой мундштук подарил? – спросил я.
– Лео. На рождение. Разве ты не помнишь? Деревянную пепельницу я мундштук – из Закарпатья привез.
– Он хорошо изучил твой вкус, – сказал я весело.
– Да уж не в пример некоторым, которые считают, что знают меня насквозь, – сказала она тоже с веселой, задиристой ноткой.
Мы поужинали прямо из консервных банок, и Лика вдруг заспешила. Сказала, что с утренними поездами неудобно, можно опоздать. А я-то думал, она останется ночевать. Насчет поездов – это была плохо придуманная неправда. Если бы ей хотелось быть со мной, как мне с ней!
Наверно, в этот вечер я впервые почувствовал, что Лика ускользает от меня. Был даже порыв – бросить все, ехать вслед за ней, быть с ней, только бы быть с ней!
Но я остался со своим мышем.
Я похоронил его утром со всеми почестями – гражданской панихидой, которая выражалась в мысленной речи в его честь. На бугорок я положил камень.
Лика открыла дверь, немножко отпрянула, глаза ее расширились. (Я все-таки поехал к ней дня через два.)
– Вот честно – не ожидала.
– Не рада?
– Глупый. – Распахнула мое пальто, ткнулась лицом в грудь, посмотрела снизу вверх, держась за лацканы. Когда она так смотрела, было в ней всегда молитвенное, добренькое-добренькое. – Фу! Мокрый. – Отряхнула кисти рук. – Ты не представляешь, как это здорово, что ты приехал. Просто я, правда, тебя не ожидала и внутренне не подготовилась – как будто срочный ввод без репетиции, прости за профессионализм. И за правду! Я просто вся была занята иным, и ты меня застал врасплох – как будто я не причесана.
– Так и не научилась быть со мной естественной.
– Но и ты – тоже. – Она открыла дверь в комнату, повернулась на одной ножке, приглашая меня войти. Я задержался, пропуская ее вперед.
Стол был застлан газетами, под которыми ощущались вогнутости и выпуклости.
– Я тебя сейчас буду кормить… Ты никуда не спешишь? – Она посмотрела на меня с затаенным ожиданием, как будто хотела, чтобы я куда-нибудь спешил. – У меня все по-холостяцки. Прости уж, – сказала она, откидывая газеты и раскрывая залежи на столе. Тут были открытые коробки шпрот и сардин, латка с недоеденной тушенкой, плетеная корзиночка с хлебом, надкусанный эклер, кувшинчик со сливками. Она попробовала пальцем кофеварку. – Еще теплый. Иди умойся… Нет охоты прибираться: поздно придешь, а утром – каждый день репетиции, перед выпуском. Одна. Раза два был Лео. И все.
Она пользовалась этим правом быть искренней и рассказывать мне все. И я был рад этому и с благодарностью принимал ее признания. В этом мне чудилась даже какаято прочность нашей любви. И все же мне не верилось сейчас, что она совсем откровенна, А самое неприятное – игра в откровенность. Это уж хуже лжи и хуже воровства.
Умылся. Сел, налил себе кофе и сливок. Подумал: она ведь никогда не пьет со сливками – только черный.
– Ты пьешь теперь со сливками? – И пожалел, как будто шантажировал. Она покраснела.
– Нет. Это Лео. Как раз сегодня утром был Лео.
Когда она сказала «раза два был», – за этим звучало – был вообще, но не вот только же. А может быть, и ночью был? Да что это я – ревную? Нет, не хочу лжи. Мне кажется, я мог бы простить, если что и было между ними, но мне нужна только правда? Как же: сам говорил, что она имеет право и не сказать всего, если… чтобы не травмировать…
– Утром забежал, принес сливки и эклеры, говорит: знаю, будешь угощать кофе, на большее ты не способна, а я эту горечь не переношу. Он ведь сладкоежка. Это, конечно, смешно – в таком агроманном мужчине. Но он… большой ребенок.
– Ты уже говорила об этом.
– О чем?
– Ну, что он большой ребенок.
– Не придирайся. Ты несправедлив к нему…
Она стояла перед зеркалом, подводя голубым веки.
И только сейчас я понял, что она куда-то собиралась: ее плотно облегало дымчатое платье с широким стожим воротом. Волосы схвачены заколками. Она распустила их, откинула на одну сторону, закусив заколки, и каштановая волна упала на плечо.
– Отращиваю! Знаешь, я вняла твоему совету – готовлю Офелию. Покажусь художественному совету. Что я теряю?!
– Ты молодец, – вдруг обрадовался я, кажется, поверив всему, что она говорила. Я хотел спросить, куда она собралась, но она взяла в горсть заколки и, прибирая волосы, опередила меня:
– Ты надолго?
Этот внезапный, как пуля из-за угла, вопрос, сбил меня с толку, мне показалось, что я мешаю каким-то ее планам.
– Да нет… заскочил… повидать… Вообще, нужно бежать. Много всякого…
– Ну вот всегда ты… – Мне показалось – она вздохнула с облегчением. Подойди ко мне!
Она вынула из сумочки платочек, обтерла мне губы.
– Ты только знай… что бы ни случилось между нами, ты мне всегда будешь нужен. Ты – главное в моей жизни!.. Даже если ты меня бросишь… не сейчас, так потом… я приползу к тебе на брюхе, как кошка.
Она смотрела на меня серьезно и даже трагично, и глубоко в зрачках ее стыло смятение.
– Но почему ты сейчас… вдруг мне говоришь об этом?..
– Но это правда. Просто мне подумалось: ты – главное!
«Ты – главное» – такая клятва была, конечно, если и не убедительна, то приятна…
– Дим.
– Да.
– Если я тебя очень попрошу. Очень.
– Что? – Я очнулся от какой-то глухоты.
– Сейчас, что бы тебя ни держало, пойдем со мной… Не спрашивай куда, – опередила она мой вопрос. – Пожалуйста. Мне это очень важно! Я уже опаздываю.
– Но, может быть, совсем не обязательно, чтобы я шел? Я не входил в твои планы?
– Брось. Совершенно обязательно! Совершенно!
– Я рад… рад, – растерянно и с сомнением проговорил я.
Она подала мне пальто. Сама быстро оделась. Потянула меня за руку.
– Мы уже опоздали.
Куда можно опоздать? Театр – премьера, прогон? Офелия? Гертруда?
– Такси, такси!
И вот мы возле парадной. Вывеска: «Всероссийское математическое общество». Вот оно – Лео! Конечно – Лео! Опять – Лео. Кругом – Лео!
– Лео? – спросил я.
– Ты обещал ничего не спрашивать.
И опять потянула меня.
Гардероб был полон. И потому наши пальто свалили Куда-то в общую груду. Она повела меня энергично и уверенно, как циркач по канату, по узкой мраморной лестнице, на третий этаж, затем по полукруглому коридорчику и остановилась перед полуприкрытыми дверями, в которые был виден набитый доверху людьми амфитеатр-колодец. Тонкое лезвие прожектора было направлено на просцениум. На нем монументально, широко расставив свои ноги атланта, стоял Лео. Шелковисто, просвечивая розовым, поблескивала от яркого луча белобрысая щетинка его волос. Он облизывал свои лоснящиеся нежные губы, трогал себя за припухлый подбородок. Был слышен рокот его голоса, но слова были стерты, и только обрывки фраз прорывались сквозь общий гул: «…очевидно, что для всякого натурального ряда… квазиосуществима последовательность…»
– Ликушка, прости, зачем все это? Я не хочу, чтобы он подумал, что я пришел… чтобы… Зачем все это?
– Хорошо. – Она нервно сжала мою руку. – Он не увидит тебя. Просачивайся за мной. Тихонько. Встань вот за эту, ну за выступ…
– Зачем этот… спектакль?
– Неужели тебе не интересно? Послушай… ну немножко, и мы уйдем…
Вообще мне было уже интересно и любопытно: и о чем он там говорит, Лео, и зачем Лика притащила меня сюда, и чем все это кончится. Кроме того, отступать уже было нелепо. Единственно – я хотел теперь избежать здесь встречи с Лео. «Просочившись» вслед за Ликой в тамбур, я встал у косяка, за которым был недоступен взору Лео! Лика, пропустив меня, притулилась за мной.
Лео медленно, как водолаз, переступал с ноги на ногу.
– …Таким образом, выживанию протоплазмы и ядра при переходе в состояние витрификации – остекленения минуя гибельную фазу кристаллизации при замораживании соответствует такая картина, учитывая сообщенные уже мною параметры и значения…
Лео тяжеловато повернулся, выставив на обозрение свой широченный зад, раздирающий прорези на полах пиджака, и, стерев вязь формул, которыми пестрела доска, лихо принялся писать новые – строка за строкой. Он развертывал «математическую картину» процесса – как стратег предстоящую баталию. Когда же, ломая мел, отбрасывая его и беря новые куски, он исписал половину доски, неожиданно раздались аплодисменты молчащего зала.
Я не понимал ни строки, ни полстроки, ни одной формулы – для меня это был темный лес, арабские письмена. Антимир. Это была демонстрация (для меня!) моего полнейшего не то что невежества в математике – просто природного кретинизма в этой области знаний. И глядя на этих людей, которые воспринимают всю эту кабалистику как нечто совсем обыденное, как какую-нибудь самую тривиальную симфонию или балетный номер, я думал, что я очутился в какой-то стране чудес. Я даже не подозревал, что в математической аудитории, столь далекой от сантиментов и эмоций, могут рождаться аплодисменты. И я понял, что Лео здесь котируется как математическая звезда первой величины. Тем временем Лео, исписав доску, «перелйстнул» ее и продолжал на чистой. Он писал быстро и неотрывно. Несколько раз поставленная им эффектная точка сопровождалась всплеском аплодисментов.
И каждый раз при этом Лика подторкивала меня в ребро пальцем. Я косился на нее, – все лицо ее в отблеске прожектора дышало гордостью и восторгом.
– Ты видишь, какой он, – прошептала она. – Ладно, идем, – потрогала меня за плечо, будто спектакль окончился, и выскользнула в коридор, вытаскивая меня за рукав.
Помогая ей надеть сапоги, подавая ей шубу, я видел в ее подбородке, складках губ, прищуре глаз, в самом взгляде его – Лео, казалось, он отразился в ней, как в осколке эеркала. И я опять подумал о ее способности перевоплощения, когда, как она говорила, теряешь себя, забываешь, что ты есть ты, – о полном растворении в другом «Я». Мне иногда казалось, что она преувеличивает эти свои способности, но сейчас я необычайно остро ощутил, что этот дар трансформации – от мимики к каким-то глубоким гормональным изменениям – действительно нечто врожденное, что-то такое, над чем она сама не властна.
– Какой он! А? – заглядывая мне в глаза, восклицала она на улице. – Ты не думай, – он для меня мальчишка.
И никогда между нами ничего не может быть. Но я… Ты просто не понял его, не разглядел за накипью.
– Ликуша, я никогда и не сомневался в его способностях, в таланте, в его знаниях.
– Нет, ты не понимаешь… Понять – это уподобиться. Стать подобным. Им. Самим. Тебя не хватает на это… Да. Ты нетерпим, – распалялась она. – Ты только себя знаешь. И все, что от тебя отличается, – уже не истина, как любишь ты выражаться.
Я молчал: я ничего не мог ей объяснить.
– Конечно, – продолжала она, – он не золото, не ангел… Он есть то, что он есть, – ученый, а все эти штучки-дрючки – наносное. Если хочешь – маска. А душой он ребенок, ей-богу. Да, повторяюсь, большой ребенок.
– Со всем комплексом негативизма, эгоизма, инфантилизма – в двадцать-то четыре года?
– Мы все с легкостью необыкновенной обвиняем в эгоизме других – у себя же в глазу бревна не замечаем… Ну что ты против него имеешь? Сам не знаешь.
– Да в сущности – ничего.
– Вот – весь ты! Ну прости. Я хочу, чтобы вы помирились. Ведь, в конце концов, многое сделано вами вместе. Ты просто не имеешь права отмахнуться. Надо быть терпимее к людям…
– Я и не собираюсь отмахиваться. Он может взять свое.
– Да, «возьми свои игрушки», – как в детском саду… А ты не думаешь, что здесь одно от другого неотделимо, что вы только вместе могли бы… принести человечеству, может быть, не для себя, для людей. Ведь и ты без него и все твое дело… может…
– Что – мое дело?!
– Ничего. Не будем ссориться. Последнее время мы встречаемся, только чтобы поссориться. Тебя нет – я скучаю. Думаю о тебе – как ты там… А стоит тебе приехать.
– Ну хорошо, я не буду приезжать.
– Не сердись… милый. Вадя! – Она меня так никогда не называла. – Ну пожалуйста! Знаешь, – оживилась она, – знаешь что? – пойдем в ресторан! Вчера я получила получку. Я угощу тебя нормальным обедом, а то ты там исхудал на сухомятке. Пойдем, миленький. – Она крепко стиснула мою руку и не отпускала.
– А Лео? Ты, видимо, обещала… ему…
– Я ему что-нибудь скажу… А вообще, я ему сегодня даже не обещала… Такси! – закричала она, щелкая пальцами.
И таксист, разбрызгивая снежную грязь, подкатил к поребрику.
Я вернулся в Пещеры взбаламученный, искореженный, верящий и не верящий в Ликину любовь, не понимающий, что происходит. И чтобы уйти от всего этого давящего, гнетущего, постоянно бередящего душу, я погрузился в работу. Я ходил и думал беспрестанно – в чем же дело; почему у меня не получается коррекция в точке последнего «жизневорота»? Думал до головной боли, до одури, до кромешных бессонниц по ночам… Нет, у меня решительно ничего не получалось с тормозом старости, и я решил отвлечься.
У меня явилась мысль: а что, если осуществить идею «восстания из праха», но теперь уже не амеб, а многоклеточных – например, летучих мышей. Почему именно летучих? – не знаю. В этом была какая-то средневековая кабалистика, а мне хотелось фантасмагорий. Мне нужен был праздник! Мне нужно было вновь поверить в свои силы.
Чтобы осуществить это рукотворное чудо, я решил воспользоваться голографией. Немало прошло времени, пока мне удалось сголографировать мышь когерентным лучом Рентгена в коллоиде биомассы, – тут пришлось повозиться и с выдержкой (она должна быть мгновенна), и с присадками, чтобы добиться особой четкости и контрастности… И вот однажды – при направлении опорного луча на застывшие дифракционные «волны» в коллоиде – летучая мышь ожила, возникла из этой биомассы, как Адам из куска глины.
Да, в цирке я имел бы потрясающий успех. Я штамповал мышей. Они вылетали из стеклянного чана с биоплазмой, как голуби из рукава Кио. Они облепили потолок, повиснув на электропроводах, на люстре, ухватились коготками крыл за гардины. Они проносились, тихо посвистывая, и едва ли не касались моих волос.
Я был, как дирижер за пультом.
В этот час опьяняющего триумфа ко мне вошли Лео и Лика. Упоенный своим экспериментом, я сразу не заметил их прихода.
Представляю себе: я был похож на средневекового колдуна, демонстрирующего зарождение мышей из кучи помоев, или на маньяка, окруженного своими ожившими галлюцинациями. Во всяком случае, именно такое я прочел в глазах своих гостей, когда наконец увидел их. Они и в самом деле решили, что у меня нечто вроде маниакально-депрессивного психоза, и все эти мыши, вылетающие из чаяа, мистифицированы мною для удовлетворения моей маниакальной страсти, точнее – для компенсации научной несостоятельности. Что я попросту посадил в чан этих мышей загодя и теперь забавляюсь, как только могу, и бредово убежден, что силой мановения волшебного жезла вызываю этих упырей из ничего.
– Не верите?! – воскликнул я, втайне даже радуясь парадоксальности эффекта.
– Нет, что ты, что ты… верим, верим, – приторно-урезонивающе говорил Лео, осторожно приближаясь ко мне. – А что?.. Так бы вот и людишек строгать. По одной болванке. Выбрать этакого раболепного идиота, олигофрема, такое человеческое пресмыкающееся и нашлепать полмиллиончика… Чтобы за тебя – в огонь… Нет, без трепа… Посадить их на каком-нибудь острове в Великом океане. Провести всеобщие выборы… В губернаторах – сам, как и положено творцу. А?
– Блестящая мысль. Я займусь этим как-нибудь на досуге, – поддакнул я как бы между прочим.
– Да… да… шутки шутками… – Он шарил глазами, что-то соображая, а мыши тем временем зарождались в зеленоватой мути прозрачного чана, просвеченного щупающим лучиком. Я приоткрыл чан, и несколько мышей взвились под своды потолка.
Лео бочком-бочком стал приближаться к чану.
Я изящно преградил ему дорогу. Он протянул руку, кажется, пытаясь оттолкнуть меня. Я схватил его руку и сжал ее.
– Так мир, – возгласил он, отвечая на мое «пожатие». – Теперь я верю. Верую!
– Нет, Лео, – сказал я.
– Комплекс неполноценности! Мистификация! – заявил он без всякого перехода.
– Да. Мистификация, профанация, импотенция, деменция, – но мышки-то все же живые!
Лео соболезнующе подмигнул.
В проеме оставшихся незакрытыми амбарных дверей торчали любопытные лица рабочих.
– Живые! Из ничего! – И такой азарт успеха бился во мне, что хотелось дразнить всех-всех, кто усомнится в реальности свершившегося чуда.
В мгновенно наступившей тишине неопределенности прорезался вдруг голос бабки Маши – сторожихи со строительных объектов, которая по совместительству приходила по утрам прибрать в помещении для приемки оборудования:
– Давеча только сунулась – батюшки светы… Ну картина, мне не впервой, – известная… Моему тоже, как упивши домой заявится, тоже завсегда мыши видятся. Увидела я эту галлюцинацию, да и говорю племяннику своему: «Беги к участковому, не иначе – белая горячка». Ну тот и побег. На попутке.
– Дура ты. Это же и тебе видится! Значит, и у тебя белая горячка, что ль?
– Словами-то не бросайся. Я капли в рот не беру… даже по великим праздникам.
Завывая по-волчьи, подкатил милицейский газик, затормозил, взвизгнув. Голубые фонари пугающе вращались в наступающих сумерках. Вежливо расталкивая любопытных, вошел участковый. И прямо – ко мне. В это самое время, как последний аккорд, я «отпечатал» и выпустил в мир новую стаю крылатых чудовищ.
– Товарищ, позвольте ваш паспорт! – взял под козырек.
Я вытащил его из заднего кармана джинсов вместе с остатками зарплаты. Милиционер сличил физиономию с фотографией:
– Пройдемте!
– То есть?.. По какому праву?
– Было заявлено… Да и видно же… все это… все это… – Он не в состоянии был подобрать нужных слов. – Вы что, слепы, не видите сами? – вразумляюще показал глазами и растопыренными пальцами на шуршащий, и мельтешащий мышиный рой, облепивший уже весь потолок и вылетавший в открытое окно. – Налицо – состояние алкогольного бреда. Иначе – белая горячка, – диагностировал милиционер. – Пройдемте. Разберемся. Объективными методами. И потрудитесь закрыть ваш котел.
– Товарищ сержант… уверяю вас… Вот мой документ… это всего лишь несколько необычный научный опыт. – Лео элегатно взял милиционера за локоток, склонился к его уху: – Эти мыши рождены из ничего – из биоколлоида… Но ведь вы тоже в сущности – из ничего, как и все мы, – из булки, из картофеля, из мяса…
Милиционер подозрительно покосился на Лео, соображая:
– Пожалуйста, и вы… пройдемте… будете свидетелем! – сказал он с ноткой угрозы.
– Благодарю. Я все сказал, что хотел. Можете запротоколировать… У вас столько свидетелей и без меня. – Лео повел глазами на обступавшую нас толпу.
Среди сгрудившихся было уже много совершенно незнакомого люда: местные дачники, крестьяне, мальчишки с завязанными на голом пузе узлами рубах, туристы с ластами, в мохнатых панамах.
В это время я опять, всем чертям назло, полыхнул лучом по чану. Через минуту из него выпорхнуло несколько мышей. Но они тут же начали натыкаться на стены и предметы – падать: видимо, избыточное скопление углекислоты уже сказывалось на чистоте эксперимента: рожденные из «пены» теряли свои локаторные способности.
– Ну зачем ты так, – дотронулась Лика до моего затылка и отдернула руку, точно обожглась.
Публика завизжала и повалила из пакгауза.
– Прошу вас, пройдемте! – ласково, но тоном, не терпящим уже возражения, предложил милиционер. – Пройдемте, гражданин!
– Ей-богу, не вижу причин!
– Да?! Может быть, вы и не видите, но кругом вас люди… и они не слепы.
– Но я совершенно трезв.
Милиционер прикрыл нос, будто от меня разило сивухой.
– Не знаю, не знаю. Алкоголь. Марихуана. Героин. Мескалйн, Псцилобин… Лекцию по криминалистике слушал. Просачивается через кордон… всякое… пройдемте. Составим протокол, проведем объективное исследование… на это! – Он щелкнул себя по горлу. – Если надо, мы извинимся, Взял под козырек. Он был субтилен и почти нежен, этот розовый двадцатилетний милицейский мальчик. Паспорт был, однако, в его руках, и я, иронически подернув плечами, подчинился.
Толпа жужжала в палисаднике. Милицейский газик вращал своими голубыми фонарями.
– Кто пойдет свидетелем?
Скопище, как тень от дуновения ветра, слегка отколыхнулось, стало рассасываться. От общей массы отделилась бабка Маша, оправляя пояс на платье:
– Я согласна! Мне эти мыши поперек горла вставши. Надо прекращать!
– Пожалуйте, – пригласил ее сержант, рыцарски подсаживая.
Лика просяще-вопросительно вскинула глаза на Лео, словно извиняясь перед ним, решительно шагнула к участковому, торкнула его указательным пальцем в плечо.
– Позвольте и мне… я поеду… Со своей стороны я могу удостоверить (она метнула словно бы даже осуждающий взгляд в мою сторону), что Вадим Алексеевич капли в рот не берет. Даже в день моего рождения пригубил лишь… Уверяю вас!
– А вы, собственно, кем доводитесь?
– Жена… Да-да! Законная жена, не менее. – Вразумляюще подняла бровь – это у нее всегда красиво получалось: серповидно взведенная бровь.
– Простите, но именно по части законных жен… свидетельские показания… менее всего имеют силу. Не волнуйтесь, гражданка, разберемся по справедливости… Поймите и нас: мы не можем пройти мимо. – Окинул взглядом толпу и, почти влюбленно улыбаясь, козырнул. Вежливо пригласил меня в автомобиль. Я как-то рефлекторно оглянулся на Лео. Лео потрепыхал в воздухе пальцами поднятой руки, сделал двумя растопыренными пальцами что-то вроде знака «v» («victoria») или «детской козы» и изрек:
– Все это лажа, Димушка. Ну прокатишься в райцентр. Не убудет. А мы тут приглядим.
В этом «приглядим» мне послышалось нечто зловещее.
Но я все же урезонивал себя: как бы там, ни было и что бы там ни было – увлечение, психологический мазохизм, желание действительно нас помирить, – но не допустит она, чтобы Лео распоряжался здесь во зло: что-либо сломал или воспользовался записями. Уже через стекло я еще раз посмотрел на Лику: в голубовато-мельтешащем свете фонарей и отсветов от вспыхивающих фар иконописные глаза ее были полны искренней тревоги, она нервно покусывала губу. Поймав мой взгляд (шофер как раз прикуривал), она ободряюще улыбнулась и тоже помахала пальчиками сразу обеих рук, привстав слегка на цыпочки.
Газик заковылял по колдобинам и взгоркам проселка.
Хм! Все к лучшему в этом лучшем из миров, – усмирял я себя, – протокол, так протокол. Все же вроде первоначального свидетельства о приоритете и своего рода патент.
Весь этот детектив в духе современных телевизионных передач ничуть уже не угнетал меня, даже веселил, если бы не Лео.
Сидя перед лейтенантом милиции, записывающим свидетельские показания бабки Маши («Вот ить какая гадость этот проклятущий змий, всех он жрет без разбору, так и затягивает, так и затягивает. И порядочный с виду человек, и грамотный, а вот ить привяжется такая пакость…»), я писал объяснительную записку. И думал о Лео. Все казалось мне, что копается он там в моих документах, дневниках, расчетах, графиках, осциллограммах, заглядывает в чан-купель, откуда вылетают мои пенорожденные афродиты… А… ни черта он без меня не поймет. Лях с ним! Лишь бы на пятнадцать суток не загреметь потому как новейший прибор по индикации винных паров почему-то неизменно показывал, что я действительно нахожусь в состоянии крайнего алкогольного опьянения.
Протоколом дело и ограничилось. Подполковник пожал мне руку, пожелав дальнейших успехов на «поприще черной магии», как он выразился, очень интеллигентно улыбаясь.
Шофер милицейского газика в связи с окончанием рабочего дня сам оказался «под газом». Тащиться же пешком ночью в свои пенаты по лесу двадцать километров казалось мне излишней роскошью, и я решил переночевать в местной гостинице, где мне был предоставлен самый лучший номер – по броне.
Вернулся я в Пещеры на другой день к полудню. Меня встретил трепет встревоженных крыл. И полумрак задернутых штор. Кафель был надраен – кем? Поуспокоившись, мыши повисли, как виноградные грозди. Я осмотрел первородную купель. Она была, по-видимому, в полном порядке. Записи-дневники и графики были аккуратно сложены. Все было в ажуре. Но именно этот блеск и настораживал: будто все делалось в перчатках. Здесь витала тень Лео. И вдруг легкая дрожь прошлась по моему позвоночнику: в просвете между гардин я увидел Констанцу, вытягивающую ведро из колодца. Вода плеснулась на голые пальцы ее ног, она отстранилась, подоткнула подол, обнажив упругие бедра, и, расставив ноги, стала переливать воду в лейку. Да! Это была Констанца, и она явно не подозревала о моем возвращении. Что ей здесь надо? Идя своей верткой и легкой походкой (несмотря на грузность подрумяненного солнцем ее белого, я бы даже сказал – «дебелого», тела), она подошла к цветнику и принялась его поливать. Цветник тянулся возле дома в неприхотливом беспорядке, цвели красные лилии, маргаритки, ноготки. Я их не сажал, они росли сами, и мне никогда в голову не приходило поливать их.
Повесив лейку в сарайчик, Констанца подобрала рассыпавшиеся волосы, небрежно заколола их и направилась в дом.
Что мне оставалось делать – не прятаться же за шкаф?
Я быстро расшторил окно и встал посредине зала – как для моментальной фотографии, чтобы она сразу увидела меня и чтобы никаких недомолвок.
Она вошла, тихо сказала «ой», одернув подол. Выпрямилась, с легкой надменностью запрокияула набок голову, отчего волосы рассыпались и волной упали на плечо.
– А, уже выпустили?.. Вижу, вас шокирует мое появление в вашей резиденция. Объясняю: о происшествии вчера же стало известно Зайцеву. Он послал меня присмотреть, если вы… словом, там… задержались… больше, чем следует…
– Откуда ему стало известно?
– Спросите что-нибудь попроще. Мне сказали, я…
– Слуга двух господ?
– Ага! – Она сузила свои кошачьи глаза, померцала ими, нагнулась, пряча за упавшей прядью лицо, нацепила стоявшие у порога туфли. – Будьте добры, подайте мне сумочку, вон там – за вашей богоданной купелью… Мерси. – Легко и изысканно крутанулась на носках и зацокала по кафелю. Мне оставалось взирать лишь на ее дерзко покачивающиеся бедра.
– Почему же Зайцеву?.. – все же не выдержал я. Приостановилась, повернула слегка голову:
– Видимо, потому что он – и. о… Филин загорает в Ливадии. Всего доброго. Слагаю свои полномочия, – Наклонилась, взяла тряпку, бросила. Подотрите за собой. Наследили. – И исчезла, легко притворив дверь.
«Здесь витала тень Лео и Констанцы».
Я впервые с такой отчетливостью осознал, что ведь Констанца – сестра Лео. Что именно она познакомила меня с ним, то есть даже не познакомила, а как-то странно подтолкнула меня к нему. И совсем уж нелепые мысли лезли в голову, в которых я никому бы не хотел признаться: я плохо подумал об Иване Федоровиче и о всей этой затее с назначением меня зам. нач. ОКСа и «лесной лабораторией».
Мне показалось, что Лика вполне искренне обрадовалась мне, когда я нагрянул через неделю, хотя холодок какого-то недоумения царил между нами. Обижаться, конечно, надо было бы мне, а не ей. Правда, она позвонила мне в Пещеры на следующий же день после моего триумфального возвращения из мест не столь отдаленных, но лишь затем, чтобы сказать мне, что я мог бы и позвонить ей «оттуда», что она всю ночь не спала и что на генеральную репетицию ей пришлось идти с головной болью. Я ей ответил примиряющей шуткой, что-то вроде:
«Ну вот, с больной головы на здоровую». Это ее совсем разобидело, и она, крикнув, что ей надоели эти спектакли на публику со всякими крылатыми крысами, повесила трубку, моя же истерически запищала в моей руке… Да, встретила она меня радостно, подскакивая на одной ножке, размахивая соскочившей с ноги туфлей, хотя и настороженно, чуть отстранясь, будто я был все же слегка зачумлен и чем-то даже опасен. По комнате ходила, выдерживая некоторую дистанцию. На другого мужчину это, может быть, действовало бы разжигающе, но не на меня.
Я тоже стал описывать какие-то ведьмины круги…
Боязнь разлада все чаще влекла меня вечерами домой, и я приезжал с последним поездом. Просыпаясь ночью, я замечал, что она сидит, подобрав колени к подбородку, и тревожно разглядывает меня. Я спрашивал: «Что ты?» Она гладила меня по голове и говорила: «Так». И вздыхала. Прощалась со мной, что ли?.. Я чувствовал, что она все отдаляется и отдаляется от меня, но словно бы и терять меня не хочет. К тому же я все отчетливее понимал, что она чем дальше, тем больше ищет во мне не то, что сближает нас, а то, что отдаляет: так ей было легче, видимо.
– Неужели ты думаешь, что я не хочу тебе удачи?. – Она гладила меня по плечу.
– Ошибки в науке, тупиковые ситуации – те же удачи, – злился я.
– Может быть. Но если вся твоя жизнь будет только ошибкой? Тупиком?
– Пусть.
И все же я взбунтовался. Тогда-то, кажется, у меня и появилась мысль «записать себя», записать и небрежно подарить ей пластинку со своим «Я» подарить как нечто совершенно незначащее, как какой-нибудь твиг.
Да, я хорошо помню, как зародилось у меня желание преподнести ей такой подарок. Но, собственно, игра самолюбия была лишь толчком. Мне не давали покоя мои пенорожденные твари. Естественно, я обратился опять к голографии… Запечатлевшись в застывших волнах дифракционной решетки биоколлоида, как бы ждущей лишь того, чтобы на нее был направлен луч лазера-проявителя, я всю эту «композицию» записал затем на пластинку из прочнейшего металла, который боится разве только плавиковой кислоты.
Потом уже в одной из прибрежных пещер, простирающихся под насыпью недостроенной железной дороги, неподалеку от своей «лесной лаборатории», поставил семь сосудов – для надежности семь – с биоплазмой и лазеры с радиоприемниками в крутящемся карабине.
Вообще все можно было бы сделать проще: запечатлеть себя «негативно» во всех этих параллелепипедах, a когда потребуется, нажать кнопку – пустить опорный луч в один из чанов – для проявки и материализации, но я боялся, что дифракционная сетка со временем может потускнеть и вместо меня явится какой-нибудь хиляк, Может быть в черно-белом варианте, или вообще никто не явится. В пластинке мне казалось надежнее. Впрочем, я, наверно, хитрил сам перед собой. Очень уж мне хотелось преподнести эту пластинку как сувенир, как нечто вещественное.