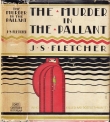Текст книги "Я убил смерть"
Автор книги: Георгий Бальдыш
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Значит, я в конце концов подарил ее Лике.
И вот теперь явился этот «Я»! Возникший из биомагмы, точный дубликат прежнего своего «Я» – со всеми потрохами, с умом, чувствами, знаниями, всем опытом своей жизни.
«Я», не знающий, куда идти, куда ехать, где найти пристанище, где преклонить голову…
Теперь оставался только вычислительный центр. Кот.
Хотя Дим с ним так и не сблизился и их связывали только деловые отношения, но именно эта нейтральность (если она сохранилась) и была сейчас нужнее всего.
Кота на месте не оказалось.
Дим шел, по-прежнему обтекаемый толпой, и навстречу ему струился поток лиц. Внезапно что-то кольнуло его – взгляд, улыбка, жест… Знакомое что-то. Так и не поняв – что, он подумал: «очень знакомое», как будто он сам шел навстречу себе. Дим оглянулся, но тот человек уже исчез в водовороте голов. «Что, если жив я – тот! Что, если я не умер? Что, если НАС, совсем одинаковых, оказалось двое – похожих до последнего атома?.. Двоеразъятых лишь в пространстве? Я здесь, он – там, в нескольких шагах от меня. Когда я один я есть я, умерший и воскресший, но когда появляется еще один такой же – то я уже не есть я? Как валет на игральной карте. И чтобы кому-то из нас стать Вадимом Алексеевичем, другому из нас надо умереть? Значит, если есть тот, я мог и не возникать вообще? Значит, рождение совсем подобного – это еще не рождение того же самого?» Это было непонятно – как непонятна бесконечность пространства, и холодило сердце тоской безысходности… Дим прогнал эту мысль.
И все же он не мог отделаться от этой мысли.
Однояйцевые двойняшки рассказывали (вспомнилось ему), что в их раннем детстве бывали моменты, когда один, глядя в глаза другому, вдруг испытывал какое-то умопомрачение, – и одному и другому начинало казаться, что они слились в одно, что каждый из них на мгновение как бы умер в другом, когда становилось непонятно «Я» это «Я» или «Я» это – «Ты». И если в минуту такого всепоглощения безболезненно умертвить одну из половинок (плоть одного из них), то они останутся жить в одном, двое в одном – как одно целое! Так?.. Так ли?..
Дим вздрогнул. Прямо на него шел в нейлоновом стеганом ватнике взъерошенный очкарик. Его давний приятель – однокашник по университету.
– Сколько лет!.. Ну как? Выглядишь на все сто. С юга? Слышал, слышал – выгнали. Так и не защитил? Неудачники мы с тобой, – досадливо цыкнул сквозь зубы. – Я вот тоже никак… Одну пьесу мою, может, слышал? «Мастодонты» – под чужим именем поставили и заголовок переменили, – судиться буду. А вообще-то все хорошо. Ну, бывай.
Нет, это все показалось. Никакого двойника не было.
Солнце ушло за дома и теперь сквозило своими пологими лучами вдоль переулков и улиц.
Похолодало. Он надел плащ, который весь день таскал на руке, не замечая.
Из-за домов прорезалась луна – красная и плоская, как картонная декорация в опере. Медленно тащилась она за ним по крышам дальних домов.
У дверей квартиры 24, где жил Кот, Дим остановился.
На звонок никто не вышел, только жалобно и едва слышно замяукал котенок. Дим спустился во двор, уселся на скрипучие железные качели, похожие на беличье колесо, поднял воротник плаща, с радостью вспомнил о припасенной сигарете. Прикурил у проходившего паренька. Задымил.
Вечер выдался теплый. Луна уже успела взобраться в самое поднебесье, побледнела и куталась в дымчатые шлейфы облаков, выглядывала и вновь прикрывалась вуалью. Дим усмехнулся, откинулся, отталкиваясь носком ботинка, раскачал качели, покачался, и ему казалось, что дым его сигареты вместе с облаками обвивает луну. На него наползла дрема, и в сознании выстраивалась картина тех дня и ночи – незадолго до того, как он ушел в пластинку, – когда он почувствовал, что Лика ускользает от него.
…В то время я упорно готовился к самозаписи. С помощью Кота совершенствовал ЭМГ – электромагнитный годограф, – который уже дал эффект на летучих мышах. Кот, как всегда, был бескорыстен, – правда, эксперименты по биозаписи были в русле его научных интересов. Был корректен, предельно пунктуален, со временем не считался, но и к себе в душу не пускал. Я ездил в Вычислительный центр, но несколько раз и Кот приезжал ко мне в Пещеры. Особые затруднения вызвала проблема передачи стереопроекции на расстояние: предполагалось, что передатчик, считывающий запись и передающий ее в чан (или чаны) с биоплазмой, и сам этот чан (чаны) должны находиться на расстоянии нескольких километров. Кот делал необходимые расчеты – впрочем, для чего и почему, его опять-таки не интересовало.
Я был обязан ему и материально – он помогал мне с электроникой. Делал это он как-то сверхэлегантно, как говорится, ничего не требуя взамен. Был он холостяком, зарабатывал хорошо, и все деньги, сверх скромного бытового бюджета, уплывали в основном на книги, но если надо было, он не задумываясь отдавал их на «незапланированный» или «непрофильный» эксперимент.
Шли последние доводки, и я безвыездно жил в Пещерах.
Как-то уже под вечер нежданно-негаданно в моем курзале появились Лика и Лео. Я в эту минуту занимался кормежкой мышат. Лео нес большую сумку с молниями, через руку его был перекинут Ликин плащ. Лика задержалась, закрывая на крючок калитку, а потом, догнав Лео, просительно выглядывала из-за его могучего плеча и словно бы подталкивала его – мол, не бойся, все будет в порядке.
Я нехотя приподнялся.
Подойдя, Лео лениво бросил сумку на скамью и поднял руки – то ли сдаваясь, то ли распахивая объятия.
– О-го-го. Старик! – Он топтался вокруг меня. – Моя милиция меня бережет. Я безмерно рад, что вижу тебя в полном боевом комплекте.
– М-да… Чем обязан?
– Не лезь в бутылку. Пойми ты, чучело, – сказал он нежно, – я тебе только повредил бы, вызвавшись в свидетели… От меня элементарно попахивало, – Лео демонстративно дыхнул, выпятив губы, – нас обоих постригли бы на пятнадцать суток, а так ты отделался легким испугом. Видел бы ты себя со стороны в те неповторимые мгновения, когда из твоего чана вылетали эти упыри, а ты, как Мефистофель из оперы Гуно «Фауст», плясал вокруг. – Лео убил севшего на его лоб комара. Лика шумно вздохнула под самым ухом и сделала безвинно-молящее личико.
– Дим, – умоляюще плеснула глазами, толкнула меня пальцем в грудь. – Лео сделал все, чтобы вызволить тебя. Ты… несправедлив. И вообще… ты непримирим к тому, что не есть ты… Хотя сам…
Нет, я все же не мог преодолеть чувства острой, как приступ тошноты, неприязни. И я знал в то же время, что это не ревность. Если действительно баба ушла – при чем здесь ревность? Ну, а если не ушла – тоже ни при чем. Он мне был отвратен, и все же я не мог послать его ко всем чертям. Он был все же гость, и надо было соблюдать этикет.
– Присаживайтесь, – бросил я. – Сейчас закончу кормежку.
Лео уселся, расставив свои колени. Уселась и Лика, непринужденно болтая ногами, хотя было видно, что взвинчена она до предела.
– Нет худа без добра и добра без худа, – заметил Лео, поглаживая себя по лоснящемуся ежику волос. – Да… – пожевал губы. – Знаешь, старик, от сумы и от… А твое пребывание в кутузке – вполне наглядное свидетельство, что твоя идея вполне сумасшедшая, то есть истинная, – шутил он, достав пилку и подправляя ногти. Без трепа… Теперь-то… – Он развел руки, задрав свой золотисто опушенный подбородок, причмокнул. – Это не то что восставшие из праха амебы. Это уже – o-гo-гo! Каюсь, не поверил в свое время И давеча было усомнился… Но если сам Эйнштейн заявлял, что он скорее откажется от своей кривой вселенной, чем согласится на прыгающие, как блохи, кванты, то, прости меня. А между тем у меня именно больше оснований носить камень за пазухой} ты отвернулся от моего… от моих исследований s области мерзлоты и ведешь себя, как Моисей на горе Синая после беседы с господом богом… Хотя и теперь, если начистоту, не убежден, что бессмертие плоти – благо в наш достаточно еще захламленный век. Сколько еще быдла, жлобов, недоумков бродит по закоулкам нашего шарика… Ими ты заселишь вселенную? Не о духовности ли прежде всего стоит позаботиться?.. Об интеллектуальном. – Лео ткнул пальцем в землю, как будто поставил восклицательный знак. – И все же привел меня к тебе тот же данный нам от господа инстинкт познания… интересы науки! Прости, конечно, за трюизм. Это без хохмы. Поверь… Ну да ладно, богу – богово, – лукаво сверкнул глазом в сторону Лики. – А слона баснями не кормят, как говорят в нашей деревне, – дернул за молнию, отверз сумку, подбросил на ладони бутылку коньяку, сдернул зубами пробку. – Где сосуды в этом доме? Впрочем, – достал три стопочки, – фирма гарантирует… Как в лучших домах Филадельфии. – Он извлек кетовую икру, янтарно просвечивающую сквозь пластик, сервелат, буженину, рокфор, несколько плиток шоколада «Конек-Горбунок». – Все мамочка приготовила. Бюро заказов на дому. Ну давайте, давайте – за вечный союз богов – языческих, христианских, магометанских. Ну, ей-богу, хорошо в лесу! Нечто языческое. С природой на брудершафт. А? Xo-xo… – Лео плеснул в три стопочки. – Прошу.
Лика покачала головой:
– Ты забыл?
– А… да. У Лики завтра премьера. И посему – табу. Прошу, Дим! Опять же – нет худа без добра: есть официально за что… За успех!
Я взял нехотя. А Лео процедил довольно властно:
– Да пригубь, Ликушка. Помочи губки. Два таких парня просят.
Лика пригубила. Встала резво;
– Мальчики, я пойду поброжу окрест – на реку… А вы… поболтайте. Вы, право, действительно оба отличные парни… чего вам делить? Мне же перед премьерой необходимо побыть наедине с собой, – Она сделала ручкой, покачав пальчиками в воздухе.
И пошла, натянутая как струна, чувствуя спиной наши взгляды.
Это было похоже на предательство: как будто меня стукнули в подбородок. В воздухе повисла тоска – заныли зубы.
Быстро опрокинув еще стопочку, Лео долгим взглядом посмотрел на меня сквозь белобрысые свои ресницы:
– Как говорится, все могло бы быть иначе… Все-таки идиотизм, – когда люди, созданные для одного дела, не понимают друг друга. Не… комму… ни… кабель… ность! И не перешагнешь.
– Бывает, и не перешагнешь, – как-то неожиданно философски ответил я.
– Ну, знаешь: тут надо Просто преодолеть. Превозмочь. Да… Все-таки чудило ты гороховое. Сделать такое сенсационное открытие и сидеть на гнилых консервах!..
Да я бы… Мужчиной надо быть, мужчиной… Почему ты не подаешь?..
– Хотя бы потому, что это только начало – этап… звено.
– Как говорили великие, дайте мне звено, и я вытяну всю цепь… Росомаха ты, – сказал Лео нежно, – психастеник. Гамлет. В конце концов, ты просто не имеешь права зарывать…
– Ничего, я не зарою!
– Бодришься… А ведь сделать мало. Семьдесят процентов усилий надо положить на то, чтобы пробить и доказать, что ты не каракатица… Ты… ты просто не уродился на это. А с тобой вместе мы составили бы прекрасную пару – пару гнедых-диполь. И чего ты закинулся? – Он мягко улыбнулся своими яркими лоснящимися губами. Глаза его напряженно мерцали – как полуночные звезды. – Да, со мной ты имел бы уже «доктора», и лабораторию, и подручных. А ты кустаришь! Индивидуалист ты, мямля! Не обижайся. Я тоже не бог весть какой Геракл. Вахлак! Но все же…
Его глаза продолжали нервно мерцать, и в этом мерцании мне почудился взгляд Констанцы. Я даже вздрогнул, как будто это она посмотрела на меня из глаз Лео. Генетическая чертовщина.
– Кошечка моя не понравилась? Моя кхмерская кошечка. Хо-хо. – Лео энергично скрюченным указательным пальцем стер судорогу с губ. – Ну так вот… Ничто человеческое… Аскетизм чужд нашему мировоззрению. – Лео чуть-чуть покривился, словно почувствовав на языке привкус несвойственной ему лексики: вообще-то он был достаточно прям и не унижал себя демагогией. – Так в чем же дело? В чем? – Избычась он смотрел на меня, выжидая и уже настоятельно требуя ответа. – Ну?
Я молчал, слишком долго, пожалуй. Что я мог сказать? Что он мне просто противен, что мне претит его безапелляционный напор, его грубость, самодовольство, что он не чувствует чужой боли и слишком любит свое тело, что он пришел в науку с отмычкой, что, не попади он в науку, он с таким же успехом мог бы отнимать у дамочек сумочки в подворотнях, вообще в нем было нечто, перед чем я пасовал, – слепая хулиганская воля. Мне казалось, что и в детстве он отрывал мухам крылышки и вешал на чердаках кошек, что он не задумался бы сбросить над Хиросимой бомбу, если бы его хорошо попросили, и, между прочим, не тронулся бы потом умом, как тот бедняга Изерли.
Впрочем, я наверняка преувеличивал, но так я думал теперь и ничего не мог поделать с собой, хотя прямых доказательств у меня не было – все чистая интуиция. Может быть, все это было не в таких категорических красках, но… Я не мог произнести разоблачительной речи, но что-то должен был ему ответить!
– Что, Димуля, тебе нечего сказать? Ты вот совестишь меня, а вместе с тем ты постарался забыть, что я некоторым боком причастен к твоим пенорожденным мышкам. И думаешь, я не соображаю, что без математика ты не мог обойтись. Меня-то ты оттер, но кто-то у тебя есть. Свято место пусто не бывает, малыш. Так?
Вообще-то так. Я молчал.
– Хо! Мессия. Чистенький! Кто кинет в тебя камнем! Ты прости меня за этот пафос, – он нервно провел скрюченным пальцем по нижней губе, – но если ты, по крайней мере, прямодушен, правда тебе не уколет глаза. Ты слишком отдаешься эмоциям. А они, как установлено наукой, возникают, когда паникует разум: при дефиците информации. Загляни-ка к себе в душу… вглядись, вглядись, – он поднял палец, – в себя вглядись, взвесь все. – В его голосе звучали проповеднические ноты. – Честно, не ждал я от тебя такого предательства. Не ждал, Димка. – Он протянул руку и тронул меня за плечо, заглядывая в душу.
– Нет, Лео. Ничего у нас с тобой не выйдет, – сказал я тихо и слишком спокойно. – Не выйдет, даже если бы я захотел…
– Мистика. Гофман. Кафка. Джойс. Почему?
– Не исключаю – может быть, и мистика, – сказал я тверже. – Что же касается тобою вложенного – ты вправе взять его вместе с моим, то, что уже не отпорешь без заплат. Это твое право!
– Спасибо, детка. Ты щедр. Ты думаешь, по скудости своего умишки, набиваюсь тебе в кумовья? Я тоже не лыком, и в твоей славе не нуждаюсь, тем более что с нее портянок не сошьешь. Дело мы с тобой начали гигантское, Обидно. Дурило ты, упрямец. Ладно, оставим вопрос открытым… Вон идет наша Гертруда. Роль, видимо, подзубривала. Береги ее, – сказал он вдруг с каким-то зловещим намеком.
Мы поднялись к ней навстречу.
Она шла как-то странно, бочком, прижимая к глазу носовой платок.
– Мальчишки, ой-ой-ой, – застонала она и запрыгала да одной ножке. – В глаз что-то попало – как толченое стекло. – Здоровым глазом она остро смотрела на нас: что тут у нас происходит?
– Дай-ка, может, мне повезет. – Лео взял платок из Ликиной руки, навострил уголок и, смешновато топчась, приоткрывая пальцами Ликино веко, пытался вычистить соринку. В его толстых пальцах была сноровистость я нежность, но у него ничего не получалось. Лика охала и тяжело дышала, топала ногой.
Вскоре ему надоело, и он сказал:
– Там ничего нет. Просто натерла. – И стал ее гладить по головке. Пройдет. Посиди. Остынь малость… Забудь.
– Как, забудь? Режет, так режет… о-о-о…
– Да брось, кажется тебе! Ничего у тебя там нет, ей-богу.
– Дим, посмотри! – Лика несколько демонстративно приблизилась.
Лео вдруг надулся, стал покачиваться из стороны в сторону, сопел:
– Не могу я… Меня от своей-то крови мутит. Чувствителен! У тебя, может быть, лучше получится, – как бы санкционировал он и зашагал за угол дома.
Я вывернул Лике веко и, по мужниному праву, провел языком. Она поморгала, прикрыла веко, прислушиваясь, улыбнулась:
– Лучше, Спасибо… Лео! Куда ты там удалился?
– Сейчас. Может же человек побыть наедине с собой? – сказал он шутейно. Но вскоре вернулся:
– Порядок?
Лика ждала его появления, словно боялась остаться со мной с глазу на глаз. Лео поймал Ликин взгляд.
– Так мы едем? – постучал ногтем по часам.
Это «так мы едем?» тем более укололо меня, что было произнесено обыденно, с каким-то властным правом и как будто меня здесь не было. Лика почувствовала бестактность Лео, заерзала плечами, посмотрела на меня извиняющимися, озабоченными глазами:
– Мы с Лео договаривались, что уедем последним поездом…
– Но вы уже опоздали. Поедете утром. – Я рад был и не рад этому. Мне очень хотелось, чтобы она осталась. Но Лео? Для нее он, кажется, был уже совсем не лишним.
Когда ложились спать, Лика шепнула мне, что со мной ей неловко. Чтобы я лег отдельно. Раньше ей не было неловко. И при Лео она ложилась со мной. Я постелил ей на широком диване, где сам спал обычно. Для нас с Лео притащил две охапки сена.
Была теплая ночь, в пакгаузе было душновато, и я открыл створки окна. Вскоре к нам заглянула высокая луна в ореоле. Она ярко горела в расшитом россыпями звезд августовском небе.
Пахло смолой, сеном, потянуло прохладной сыроватостью и сладковатым запахом болотных трав и водорослей. Лео быстро засопел, похрапывая, на его полнощеком рыхловатом лице бродило благодушие, полные губы почмокивали, могучее плечо и рука красиво выпростались из-под шерстяного голландского пледа. Я поймал себя на том, что смотрю на него как бы глазами Лики. Я чувствовал, что она, затаясь, не спала. Луна еще не коснулась ее. В темноте лица ее не было видно.
Я задремал.
Они уехали утренним поездом, а еще через день я получил телеграмму: премьера откладывалась на конец месяца.
Эти дни до премьеры – до того рокового дня, когда я увидел ее в последний раз, я все занимался обдумыванием, как лучше обеспечить надежность самовоспроизведения. Надо было заказать несколько прозрачных чанов, наполнить их биоплазмой, содержащей все необходимые компоненты: аминокислоты, нуклеоиды, микроэлементы. Несколько чанов – как несколько запасных «яиц»: если бы я не вылупился из одного по какой-то причине, то другое должно было служить страховкой, если бы и второе подвело, проекция переключилась бы на третье. Такая система, обеспечивая надежность, напрочь исключала появление близняков, чего я инстинктивно боялся больше всего.
К тому времени я уже приглядел прибрежные гипсовые пещеры, которые, по-видимому, в давние времена использовались обитателями средневекового монастыря как отшельничьи кельи. Из его развалин к пещерам шли подземные ходу. В одной из таких пещер я собирался установить по кругу семь чанов, а в середине – телеголопроектор. Само же мое «Я» могло транслироваться с пластинки, удаленной на расстояние до ста километров. По расчетам Кота, для передачи могла быть использована коллективная телевизионная антенна обычная антенна, крестами торчащая на наших домах…
…Ртутная гладь канала. В ней зыбко колышутся истонченные перистые облачка. И скользит тонко, то и дело забираясь под перышки облаков, легонькая сережка луны.
Мы идем с Ликой из театра. Я долго ждал ее у подъезда, пока она разгримировывалась. Все боялся, что подойдет Лео, которого на «генеральной» почему-то не было.
Она меня вызвала телеграммой.
Стучат ее каблучки, отражаясь эхом от сумрачных уснувших громад домов, нависающих тенями над каналом. Фонари уже притушили.
Я не держу ее под руку. Я чувствую ее плечо. И она доверчиво прижимается ко мне. Мне хорошо, и, кажется, ей тоже.
Она недовольна собой и жалуется: Гертруда, конечно, не ее роль. Возраст она преодолела – вжилась в сорокалетнюю женщину. Но все же ее подлостью, жестокосердием она проникнуться не может – ее Гертруда слишком расплывчата… Я утешаю, говорю, что хорошо иногда сыграть что-то совсем не похожее – для «преодоления материала», переступить себя… Она поддается моим утешениям, она ловит, их прямо кончиком носа. Она мне признательна.
– Только ты меня понимаешь, – говорит она и благодарно снизу вверх заглядывает мне в глаза. – Ты не думай – все это неправда. Я – о Лео. Я знаю – ты думаешь… Я твердо поняла: у меня есть только ты!
Она склоняет голову к моему уху. У меня счастливо кружится голова.
Так мы идем – рядом. И мне не хочется, чтобы кончилась эта неправдоподобно прекрасная ночь. Так бы идти и идти, и чтобы конца не было этой дороге, – плечом к плечу…
Проснулся Дим внезапно – из-за дома бил луч восходящего солнца. От Диминого шевеленияскрипнули железные ободья качелей. Он вытер лицо ладонью, встал, ежась от холода, передернул плечами, потянулся. Одна нога была как не своя – затекла и свербила мурашками. Теперь она отходила, теплела и оживала.
Нет, в такую рань к Коту было идти неловко, но и сидеть было холодно и тоскливо. И Дим опять пошел по пустым еще улицам, залитым торжествующим утренним солнцем. Распушив усы, ползали поливальные машины. На деревьях сверкали капли.
С утра Кота на работе не оказалось: «Пошел к цитологам – в соседний институт».
И опять Дим пошел бродить.
И опять ему навстречу текла людская река. Бесконечная вереница очень похожих и очень (слава богу!) непохожих мужчин и женщин, которых он никогда еще не видел и, может быть, не увидит никогда.
…А толпа все текла и текла – из прошлого в будущее, из одного десятилетия в другое, из столетия в столетие.
В общем потоке проплывали несколько необычайные группки иностранцев. За то время, что Дима не было на этом свете, их еще прибыло в общем потоке прохожих. Их можно узнать не только по говору – главным образом по каким-то «не нашим» выражениям лиц (и даже затылков), кажется, более жестковатым и любезным, по одежде, изысканно простоватой или излишне экстравагантной. Но в общем-то, в общем-то и они сливались в многоцветном и однородном течении человеческой реки, воды которой, собираясь из многих ручейков, постепенно стекались в половодье человечества…
…Кот сидел, уставив взор в блуждающие глаза электронного шкафа. Лицо его было созерцательно-трагично.
Бородка пламенела, как детский флажок. Она призвана была компенсировать полное отсутствие волосяного покрова на голове. Кот начисто не воспринял появления Дима – он, истинно, пребывал в другом измерении. В фазовом пространстве.
– Старик, – позвал Дим немножко наигранно, сам уже пугаясь своего появления.
Кот похлопал себя по бывшему ежику, вызволяясь из своего дремучего состояния.
– Привет, старина, где ты пропадал?
У Дима отлегло от сердца.
– Было тут всякое.
Кота вполне удовлетворил ответ, он мотнул головой, предлагая стул. Дим сел, а Кот, оторвав листок календаря, остервенело стал наносить какие-то формулы.
Машина тихо что-то бормотала, вздыхала, посвистывала.
Так продолжалось минут двадцать, Кот был мученически сосредоточен. Наконец он поднял оторопелые глаза.
– Посчитать?
– Посчитать, Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет… Посчитай. Выведи алгоритмы.
– Вас понял. Бузделано. Без трепа, – именно этим я сейчас и занимаюсь – эмоциями. И думаю, как бы вообще обойтись без них…
Он немного пожевал свою бороденку.
– Понимаешь, я пытаюсь теперь отфильтровать эмоции. Может быть, я уберу отрицательные – боль?.. Ведь на кой лях она? Страдания?
– Думаешь?
– Черт его знает – хочу попробовать. Вообще покрутить. Может быть, оставлю одно рацио – per se.[2]2
Per se (лат.) – в чистом виде, без примесей.
[Закрыть] В чистом виде. Впрочем, это, видимо, бессмыслица. Я думаю – бессмыслица. Хотя бы потому, что интеллект вообще неотделим от эмоций. Нет мозга без тела, которое тоже мыслит… Вот уж не хотел бы, чтобы после смерти моего тела оставили жить голову: жизнь головы без тела ущербна именно интеллектуально. Да, в первую очередь… Поэтому бессмертие духа неотделимо от бессмертия тела…
– Ах, старик, ты все о своем бессмертии… Но увы – чем долговечнее плоть, тем хуже для интеллекта. Ну живет какой-нибудь Михаил Степанович… С годами создает свою концепцию… Коснеет в ней, как улитка в своей раковине… Амортизация ума слишком дорого обходится обществу.
– Значит со… скалы, как древние своих немощных старцев?
– Не ерепенься: чтобы обновить ум, надо его сначала уничтожить… Не зря ведь мать-природа ничего или почти ничего не делает, чтобы передать знания по наследству. Смерть – охранительный рефлекс вида.
– Я уверен, что интеллект со временем возвысится до такой степени, что безболезненно сможет опровергать самого себя, – просто сегодня на это ни у кого не остается ни сил, ни времени… И именно смерть, которая постоянно гнездится в подсознании, и есть первопричина консерватизма интеллекта!
О… апперкот!
Они давно уже покинули вычислительный центр. То есть это мягко сказано: по причине позднего времени их попросту попросили и опечатали дверь. Дим намекнул Коту, что рассорился с женой, и Кот пригласил его к себе, в свою холостяцкую квартиру.
Спор кончился тем, что Кот достал бутылку венгерского искристого похожую на кеглю – и, разлив в стаканы, сказал:
– Не знаю, как ты, старик, но, когда настанет мой черед отдавать концы, я поступлю по-эллински.
– То есть?
– Как Сенека. Сяду в теплую ванну, попрошу неразбавленного вина и предамся философским раздумьям, считая этот день самым счастливым в своей жизни.
– Врешь. Слишком уж красиво.
– На этот раз все претензии Сенеке… Мне же по душе его сентенция: пока ты жив, смерти нет…
– За бессмертие плоти и ума! – сказал Дим.
– За смерть, – сказал Кот.
И они звякнули стаканами.
Несколько дней Дим прожил у Кота, собираясь с мыслями.
Съездил в Пещеры.
В кирпичном пакгаузе царили одни летучие мыши – те самые или их потомки. Пахло затхлостью и пустотой.
Когда Дим вышел из помещения, ему показалось, что между тихих берез мелькнуло лицо – глаза. Захрустел валежник. Волной засеребрилась листва. Какая-то кошачья повадка и гибкость… Ему была знакома эта изощренная мягкая гибкость…
Он вернулся к Коту со всеми предосторожностями конспиратора.
Сверхтактичный Кот ни о чем не расспрашивал. Ему, однако, не давал покоя незавершенный спор, И вечером, приходя с работы, он выдавал:
– Нужна смена поколений. Ты хочешь отнять от природы причудливую игру красок, в результате которой она, пусть случайно, но хоть раз в столетие может выдать гения. Ты хочешь отнять у нее муку любви.
– Напрасные подозрения. Я не сторонник кастрированного рая. Пусть рождаются дети. Пусть спорят бессмертные интеллекты разных поколений.
Кот усмехнулся:
– Можно подумать, что ты уже что-то такое… сообразил?
– В том-то и дело, что я не знаю этого… Мне кажется, что я все же что-то сообразил… Иначе зачем им было убивать меня?!
– Повтори – не понял.
– А… так… мысли вслух…
Кот не мог скрыть недоумения и даже, видно, заподозрил неладное, но, как обычно, не подал вида.
Дим вышел из дому, купил «Вечерку», и ему сразу в глаза бросилось объявление:
«…Состоится защита диссертации на соискание степени доктора физико-биологических наук Лео Павловичем Левченко на тему „Излечение рака печени у кроликов методом реабилитации патологического биополя“. С диссертацией можно ознакомиться в НИИ экспериментальной биологии и эндокринологии».
Хоп, вот это да!
Дим пришел в назначенный час. Актовый зал был полон. Дим уселся в заднем ряду.
Что он мог? Он был никто. Его вообще не было в природе. Он мог бы смутить «самозванца» своим появлением. Но это значило выдать себя противнику, и не так-то он прост, этот Лео, чтобы смутиться. Выйти на паперть и набить диссертанту морду? Заберут в милицию, будут судить. А как хотелось просто набить морду. Наверно, потому, от греха, решил он уйти. Не мог он слышать свои слова, свои мысли, свои методики из уст этого подонка, слышать и быть бессильным помешать этому. А впрочем;
«Что в имени твоем?» Никому не ведомо имя создателя колеса или «Слова о полку Игореве». Что мне Гекуба, что я Гекубе?..
Дим вышел. Он ездил в переполненных троллейбусах.
Ходил по городу, сидел на скамейках в скверах, опять куда-то ехал в вагонах подвесной дороги, спускался в метро, и в толпе ему было легче, он как бы действительно переставал существовать. В конце концов, непонятно как, он вновь оказался у парадной института, где шла защита. Впрочем, все уже кончилось: медики выходили, обсуждая событие. Ояи были скептичны, они сомневались, что вообще есть какое-то поле печени или что-нибудь подобное и что можно лечить, воздействуя на деформированные потенциалы этого поля. Как хотелось врезаться в эти диалоги!
И вот глаза Лео. Он, видимо, заметил Дима, вздрогнул, пожал плечами, надвинул на глаза шляпу, зашагал своей гиппопотамьей походкой. В длинном плаще, телепавшемся по икрам, бородатый, он напоминал не то народника, не то кучера, не то сельского попа. Дим смотрел ему вслед – в кургузую спину. Он смотрел, ненавидя и бессильно сжимая кулаки.
И вдруг Димову шею обвили чьи-то руки, на одной из них болталась сумочка.
– Димка, Димка, ты?
Дим стряхнул с себя то, что ему показалось – и действительно было Констанцей. Это было нелепо и сумасшедше, как будто какой-то пошлый розыгрыш или шантаж.
Она была в белом развевающемся плаще, в замшевых сапожках на высоком каблуке, волосы ее казались темнее, чем прежде. Ее глаза наполнились слезами. Они сияли счастьем, каким-то безумием счастья, и все нежное круглое ее лицо было просто наэлектризовано счастьем вопреки всему, несмотря ни на что.
– Димушка, миленький, солнышко. Не верю, не верю. Просто мне очень везет, я везучая. – Ее бессвязная речь, какой-то несусветный лепет и весь ее вид ошеломляли. – Ты не узнаешь меня? Или это не ты? Дим? Но ты пахнешь, как ты.
Она потрясла его за плечо:
– Дим!
– Нет, отчего же, я – это я. А вы – это вы. Констанца Левченко – из ветинститута и… по совместительству… Впрочем, не знаю, где и кому вы сейчас служите.
– Вы?.. Ты говоришь мне «Вы»?
Дим начал соображать: «Эта женщина хочет воспользоваться тем временным провалом, который отделял его теперешнего от того, который был? Спектакль на публику?» Он не мог одолеть неприязни… И все же ее поведение было слишком нелепым.
– Идем же – к нам… Тебя ждут Леша и Дима.
Это было уж слишком.
Загипнотизированный всей этой чудовищной нелепостью и ощутив вдруг всю беспомощность свою – в чужом мире, где он был – не он, Дим пошел с ней рядом.
Все показалось вдруг ирреальным, как бы зеркальным отражением.
Она втолкнула его в такси.
Лифт поднял их на девятый этаж.
Почти до самого окна доставали верхушки сосен. Они раскачивались – с каким-то отрешенным покоем невозмутимой вечной мудрости деревьев.
– Садись. Вот твои письма… А я сейчас… Я скоро приду…
И бросив на стол письма, быстро ушла. Щелкнул замок.
Дим остался один со своими письмами.
Одно, другое, третье…
Это были письма к ней – к Констанце. В них были ласковые слова. Он называл ее «Моя Ки».
Это был его почерк.
И все-таки он не мог поверить. В нем не было любви и нежности к этой женщине, которая, кажется…
Дверь в маленькую прихожую была приоткрыта, и оттуда, шевелясь, проникал луч вечернего солнца. И когда она вошла в плаще и, как птица, выпустила из-под своих крыл двух малышей, он сразу почувствовал и понял, что это – его дети. Им было года по три с гаком. (Значит, четыре года назад он был жив.) Один был в желтом, другой в красном, – их, пожалуй, и можно было отличить только по одежде. И вместе они были вылитый он – будто сошедший со стула той детской его фотографии, снятой где-то в «фотомоменте», с торчащей козырьком челкой, с взвихренным хохолком.