
Текст книги "Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск"
Автор книги: Генрих Бочаров
Соавторы: Всеволод Выголов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Первоначально вход в трапезную палату был через открытую лестницу с северной стороны. Уже в XVI веке появилась пристроенная вдоль северного фасада двухъярусная паперть с внутренней лестницей и аркадой в верхнем этаже, позднее превращенной в окна. В измененном виде она существует и поныне, причем снаружи хорошо видны заложенные арки. В настоящее время в трапезной, как и в церкви Кирилла, хранятся многочисленные экспонаты историко-художественного музея. Среди них выделяется своими художественными достоинствами коллекция древнерусского шитья – «воздухов», пелен и плащаниц XV–XVII веков (илл. 89).
Наряду с ними в музее есть и первоклассные произведения живописи: икона «Василий Великий» работы Дионисия, таблетки от царских врат с изображением евангелистов, по преданию написанных сыном Дионисия – Феодосием, иконы «Троица», «Успение», «Сошествие во ад» и другие памятники XVI столетия.
Вокруг монастырской трапезной концентрировались различные хозяйственные постройки, в которых либо готовили пищу, либо хранили съестные припасы. Крупнейшее среди них – здание поварни, сохранившееся до наших дней, хотя и в переделанном виде. Оно примыкает с запада к трапезной, образуя длинный, вытянутый в одну линию корпус. Здание это сложилось на протяжении XVI века, с отдельными достройками в XVII веке. Скупое и сдержанное наружное убранство подчеркивает скромность архитектуры этого хозяйственного сооружения.
Наиболее древняя часть здания расположена в середине корпуса. Она состоит из большей, почти квадратной, палаты – «яственной поварни» и меньшей – квасоварни, где приготовляли квас, излюбленный при монастырских трапезах напиток. Даже на Стоглавом соборе (1551), заботившемся о поддержании «поизшатавшихся» церковных обычаев и нравов, в противоположность запрещенным пиву, вину и меду, монахам было разрешено «пити квасы житные и медвенные». Не позже конца XVI века возникла и та часть корпуса, которая находится между древней поварней и трапезной. Большая каменная палата, пристроенная к квасоварне в XVI веке с запада служила квасным погребом. В 1655 году местные каменщики надстроили над погребом второй этаж – оружейную палату, которая просуществовала до 1786 года.
Напротив поварни, близ монастырской стены притулилось небольшое одноэтажное строение. Это – часть прежде существовавшего здесь двухэтажного здания «поваренных келий», пристроенного в XVII веке к поварне. Сохранившиеся на его западном фасаде типичные для XVII столетия кирпичные наличники свидетельствуют, что здание было довольно нарядно оформлено.
К этому же хозяйственному комплексу относится и домик келаря, или келарский корпус, между юго– восточным углом трапезной и Водяными воротами (илл. 90). Небольшое двухэтажное здание, возведенное в XVII веке, очень своеобразно. Нижний этаж состоит из двух келий с «проходными воротами» между ними, верхний – из шести небольших кладовых палаток, которые соединены на заднем фасаде галереей. На галерею ведет деревянная лестница с крыльцом на столбах.
Характерно различное решение фасадов домика келаря: главный весьма декоративен, задний, обращенный во двор, скромен и прост. Ворота со двора (так же как и окна галереи) не имеют никаких обрамлений, тогда как с парадной стороны они поражают живописностью и пластикой своих форм. Прекрасны толстые круглые столбы-коротышки по бокам ворот, как бы стянутые для прочности вверху и внизу тягами. Подстать им небольшие оконные проемы с «коренастыми» наличниками – короткими сочными колонками на кронштейнах и типичными фронтончиками.
Почти в середине стены, обращенной к Сиверскому озеру, находятся Водяные ворота с надвратной церковью Преображения, входившие в систему монастырской ограды Старого города. Обе постройки относятся к XVI веку (илл. 91). Но ворота возникли ранее храма, возведение которого датируется 1595 годом. Они имеют форму двух обычных проездных арок с палатами хозяйственного назначения по сторонам: с востока – кладовой, с запада – калачной и просвирной. Их декоративная обработка со стороны двора в виде стрельчатых архивольтов и прямоугольных, иногда с острым верхом ниш очень близка к убранству Святых ворот.
Церковь Преображения над Водяными воротами строили, видимо, местные мастера под наблюдением старца Леонида Ширшова, по образцу ранее возведенного надвратного храма Иоанна Лествичника. Она по форме аналогична своему прототипу, только несколько грубее, приземистее. Это – невысокий куб с пониженными прямоугольными пристройками с двух сторон: алтарем и папертью с первоначально открытыми арками (арочные проемы еще в XVII веке превращены в окна). Сходство довершают членения северного и южного фасадов пилястрами на три прясла, остроугольные нишки и три яруса сплошь украшенных традиционным декором (поребрик, нишки, бегунец) кокошников, из которых сейчас под четырехскатной крышей XVIII века виден только нижний. Однако венчающая часть имела иную форму. Вместо типичных для храмов Кириллова двух глаз здесь с самого начала было трехглавие: большая – в центре и две малых – над восточными углами постройки. Появление малых глав было вызвано наличием у Преображенской церкви двух приделов – Ирины и Николая, расположенных по сторонам главного престола в алтаре (один из них был посвящен царице, сестре Бориса Годунова). Само трехглавие было сильно сдвинуто с центра куба к востоку, что сразу вносило в композицию здания оттенок свободной живописности, усиленной необычным покрытием алтаря тремя двускатными кровлями, выходившими шипцами на восточную сторону. К сожалению, уничтожение еще в XVIII веке прежних глав и кровель во многом лишило архитектуру церкви былой привлекательности и красочности форм.
По-настоящему необычность архитектуры этой церкви ощущаешь, войдя через западный портал внутрь храма. Тогда сразу становится понятно, что сдвиг трехглавия на восток обусловлен оригинальной конструкцией сводов и внутренних опор. Почти в центре помещения стоят два круглых столба, с которых на стены перекинуты арки, поддерживающие коробовые своды. Более мощные подпружные арки, несущие главный световой барабан, опираются на восточную стену. Здесь как бы завершился тот длительный процесс слияния восточной пары столбов со стеной и межапсидными стенками, который в храмах Кириллова шел на протяжении всего XVI века. Подобная конструкция принципиально отличается от двустолпия в надвратном храме Прилук и позднейших вологодских церквах. Стремясь освободить помещение храма и сократить число опор, древнерусские мастера умели каждый раз находить новые, исключительно разнообразные и интересные решения.
В юго-восточном углу монастыря, вблизи Свиточной башни расположена небольшая больничная церковь Евфимия, построенная в 1653 году (илл. 92). Это последнее из возведенных в монастыре культовых зданий отличается по типу от остальных, представляя собой шатровый храм. Однако в основе своей оно явно подражает возведенной несколько ранее придельной соборной церкви Епифания, оставаясь в кругу монастырских традиций. Композиция и декор их фасадов совершенно тождественны. Иным выглядит лишь венчание: на низком восьмерике, снаружи никак не выявленном, возвышается небольшой стройный многогранный шатер с луковичной главкой, покрытый прежде поливной зеленой черепицей (современная железная кровля XIX века). Интересна маленькая одноарочная звонница псковско-новгородского типа над крышей трапезной, с южной стороны здания.
Резким контрастом по отношению к церкви Евфимия выступает находящаяся к востоку от нее Большая больничная палата XVII века, соединявшаяся прежде с ее трапезной переходом. Впечатлению монументальности этого здания способствует его прямоугольный объем с низкими массивными стенами и высокой двускатной кровлей, заканчивающейся на торцах фронтонами-щипцами. Фасады огромного сооружения лишены какого-либо декора и выглядят очень сурово. Скупая гладь мощных, побеленных стен смягчается лишь маленькими оконными проемами. Интерьер палаты традиционен для гражданских построек. Два просторных сводчатых помещения с распалубками над окнами и дверьми разделены узкими сенями. Своды поддерживают квадратные столбы, расположенные в центре, что для XVII века уже не типично; этот прием – запоздалая дань древней традиции.
К югу от церкви Евфимия, вдоль стены монастыря расположены двухэтажные кельи, относящиеся также к XVII веку, но сильно перестроенные; в них позднее находилось духовное училище.
Мимо здания монастырского архива пройдем из Большого Успенского монастыря в Малый, или Горний Ивановский. На небольшом зеленом холме, именуемом в древних документах «горой», красиво возвышается среди деревьев церковь Иоанна Предтечи с приделом Кирилла – главный соборный храм этой обители (илл. 93). Сооружен он одновременно с церковью архангела Гавриила в 1531–1534 годах на средства Василия III. Значительная близость между собой обоих зданий позволяет даже считать их работой одной и той же строительной артели и одного зодчего. Аналогично и объемно-композиционное построение храмов в виде стройного куба, увенчанного первоначально двумя главами, большой – в центре и малой – над приделом, и членение фасадов, завершенных прежде закомарами с кокошниками, и даже отдельные детали убранства (перспективные порталы, традиционный декор барабана большой главы из аркатуры, балясин, нишек и бегунца). Однако церковь Иоанна Предтечи отличает совершенно иная форма верха в виде пирамиды кокошников, обычная для храмов соборного типа. Вероятно, в этом отношении образцом для храма служил Рождественский собор Ферапонтова монастыря.
Отмеченная выше близость храмов распространяется и на их интерьеры. Пространственное построение церкви Иоанна Предтечи идентично нижнему, основному этажу Гаврииловского храма, характеризуясь такими же «итальянизмами» – зальностью решения с равновысокими коробовыми сводами и одним крестовым над западной частью главного нефа. Четыре столба, восточная пара которых почти придвинута к межапсидным стенкам, еще более четко и ясно членят все помещение, причем подкупольный квадрат находится строго в центре всего плана. Правда, западные круглые колонны заменены здесь более привычными, четырехгранными столбами, снабженными тем не менее по «фряжскому» обычаю развитыми базами и капителями. В целом в интерьере этого храма ясно чувствуется освоение новых приемов и форм древнерусскими зодчими XVI века.
Рядом с церковью Иоанна Предтечи, на склоне пологого холма стоит небольшая часовня, которую, по преданию, «срубил» Кирилл. Она, действительно, относится к древнейшему времени. Это – небольшой, примитивно сложенный сруб, ничем не отличающийся от простейших деревянных построек Севера. Внутри часовни стоит сильно изъеденный крест. Верующие считали, что он исцеляет от зубной боли. По соседству, под каменной сенью, хранится еще один деревянный крест, поставленный на месте выкопанных Кириллом и Ферапонтом келий при основании обители.
Рядом с храмом, к югу от него, на самом краю холма стоит трапезная церковь Сергия Радонежского с приделом Дионисия Глушицкого. Построена она в 1560 году, вскоре после окончательного обособления Малого монастыря, по преданию самим Иваном Грозным. Композиция и формы ее довольно типичны для подобного рода построек XVI века. Обе части здания – широкий объем трапезной и более высокий и узкий куб храма с пониженным прямоугольным алтарем – поставлены на подклет, который с северной стороны выглядит как подвал, ибо полностью «ушел» в землю. К квадратному залу со столбом в центре, расположенному во всю ширину корпуса, с запада примыкает каларская палата – узкое, поперечно-ориентированное помещение. Уникальна лишь верхняя часть храма, образовавшаяся в результате надстройки в том же XVI веке яруса звона. С каждой стороны (кроме западной) вверху была устроена широкая открытая арка, где прежде висели колокола. Над кокошниками кровли возвышались традиционные для Кириллова две главы: большая – в центре и малая – над приделом. Превращение трапезной церкви в звонницу – прием довольно редкий и, очевидно, заимствован из аналогичных сооружений Ферапонтова и Спасо-Каменного монастырей. В настоящее время лишь отдельные сохранившиеся фрагменты позволяют представить прежний оригинальный верх храма, значительно измененный в XVIII–XIX веках.
У подножия холма, близ восточной стены монастырской ограды, окруженное зеленью берез, расположено небольшое одноэтажное приземистое строение. Это – так называемая Малая больничная палата, одно из немногочисленных монастырских строений XVIII века (илл. 94). Возведена она в 1730-х годах на вклады императрицы Анны Иоанновны и судьи Адмиралтейского приказа А. Беляева. Однако архитектура здания выдержана в древних традициях, идущих еще от XVI века. Формы палаты, перекрытой высокой тесовой кровлей на четыре ската, явно архаизированы: они подчеркнуто монументальны и просты. Массивные, мощные стены прорезаны небольшими арочными окнами с сильными откосами. Лишь лопатки на углах да тяги в виде полувала, проходящего внизу и вверху на всех фасадах, смягчают ее суровый облик. Композиция интерьера традиционна и восходит к Грановитой палате Московского Кремля. Три арочных проема с разных сторон ведут в просторные сени. К сеням примыкает квадратная сводчатая палата со столбом в центре и распалубками над окнами. Все пронизано духом строгости, аскетичности и суровости, свойственной лишь ранним памятникам монастыря. И только, пожалуй, слишком правильное расположение окон – на одном уровне и через одинаковые интервалы – выдает гораздо более позднее время сооружения этой оригинальной постройки.
Ферапонтово

Из маков – красную, из одуванчиков —
желтую, из пепла – серую, из угля —
черную сделали краски, смешали, раз
вели на полотне, сотканном из трав
земли, написали портрет земли.
Э. Межелайтис
Между двух озер, Бородавским и Паским, на невысоком холме, среди темной зелени деревьев и кустов возвышается Ферапонтов монастырь – небольшая группа сияющих белизной построек. Кажется, сама природа опоэтизировала эти живописно расположенные здания. По сравнению с Кирилло-Белозерским Ферапонтов монастырь выглядит интимным и камерным (илл. 95). Масштабы его невелики, как и невелика занимаемая им территория, хотя возник он почти одновременно с Кирилловом.
Ферапонт, прожив некоторое время вместе с Кириллом после прихода их на Север, пошел искать себе новое место, «пространное и гладкое». Найдя такое, он в 1398 году основал свой монастырь в живописной местности на невысоком холме, откуда открывается чудесный вид на озера, заливные луга и леса.
Обитель эта была создана также по образу и подобию московского Симонова монастыря, где Ферапонт, происходивший из рода бояр Поскочиных, принял пострижение. Руками первых иноков, собравшихся и объединившихся вокруг Ферапонта, была выстроена в 1409 году небольшая деревянная церковь во имя Рождества богородицы, а затем трапезная и кельи. Через десять лет Ферапонта вызывает к себе князь Андрей Дмитриевич, и он уезжает в Можайск, где основывает Лужецкий монастырь. С его отъездом рост обители почти прекращается. Вся братия едва ли насчитывает более 20 человек и ведет весьма скромное существование.
Дальнейшее развитие монастыря связано уже с именем игумена Мартиниана, видного церковного деятеля XV века. Мартиниан – выходец из крестьян небольшой вологодской деревни, монах Кирилловской обители, верный ученик и последователь Кирилла. Он прошел суровую монастырскую выучку, хорошо знал все распорядки служб, все претензии и желания братии. Особое внимание уделял Мартиниан развитию своего любимого дела – переписыванию книг и созданию библиотеки. Все иноки кроме обычных церковных служб должны были исполнять и особые послушания, в том числе читать, переписывать и переплетать книги. Сам игумен также переписывал книги. В короткое время Мартиниан сумел превратить Ферапонтов монастырь в крупный общественно-культурный центр.
Пахомий Лагофет, известный писатель, составитель житий святых, посетивший монастырь около 1461–1462 годов, говорил, что он был «зело красен, много имуще братии Господеви работающих». В 1466 году здесь возводится взамен обветшавшего, новый, более обширный деревянный храм, также посвященный Рождеству богородицы.
С середины XV века Ферапонтов монастырь – один из центров просвещения Белозерского края, крупный феодал, принимающий участие в политической жизни Московского государства. Из стен монастыря вышла целая плеяда известных просветителей, книжников, философов. Достаточно упомянуть Филофея – бывшего игумена, а затем епископа Вологодско-Пермской епархии. Тесные узы соединяли со многими видными иноками Ферапонтовской обители новгородского архиепископа Геннадия. Ведя ожесточенную борьбу с еретиками, он находил в далеком северном монастыре единомышленников и необходимые ему книги.
Немало лет провел в Ферапонтове не менее известный деятель русской церкви – ростовский архиепископ Иоасаф, происходивший из рода князей Оболенских. После ссоры с великим князем Иваном III Иоасаф был сослан в далекую северную обитель, постриженником которой он когда-то был.
С именем Иоасафа связано начало каменного строительства в Ферапонтове. Возвращение его в монастырь после восьмилетнего управления Ростовской епархией почти совпало с сильным пожаром, охватившим обитель (около 1488 г.). Многие строения выгорели дотла, чудом уцелело некое «сокровище», хранившееся в келье архиепископа и предназначенное для монастырских нужд. Очевидно, именно на эти средства на пепелище сгоревших построек возвели каменный собор Рождества богородицы. Во всяком случае, в преданиях, нашедших отражение в житиях, указывается, что Иоасаф использовал свои богатые сбережения для «монастырского строения». Возможно также, что именно он пригласил для росписи нового соборного храма Дионисия, с работами которого он или был знаком сам, или знал о них по рассказам своего родственника, ростовского архиепископа Вассиана Рыло – заказчика икон для Успенского собора в Кремле, исполнявшихся Дионисием.
Конечно, каменные постройки Ферапонтова значительно уступают грандиозным сооружениям соседней Кирилловской обители. Однако строительство, развернувшееся в Ферапонтове в конце XV и в XVI веках, было по тем временам весьма значительным.
Сравнительная уединенность, относительно «тихая и мирная» жизнь обители сделали ее своеобразной «резиденцией» ссыльных. Здесь отбывали ссылку многие неугодные московским правителям лица. В конце XV века тут нашел приют опальный митрополит киевский Спиридон, а в XVII веке коротал свои дни неуемно честолюбивый, некогда могущественный и всесильный патриарх Никон.
Митрополит Спиридон, философ и богослов, человек необычайно просвещенный, написал в стенах обители два сочинения – «Изложение о православной истинной нашей вере» и «Житие святых Зосимы и Савватия Соловецких». Первое из них, во многом полемическое, было направлено против вероотступников, еретиков, выступления которых волной прокатились по Новгороду, Пскову и Москве, вызвав смятение в умах современников и даже среди самих церковников.
Польско-шведская интервенция начала XVII века мало отразилась на жизни монастыря. Захваченный неприятельскими отрядами в 1614 году, он подвергся сравнительно небольшому разорению. Однако общий экономический упадок Белозерья, вызванный нашествием, задержал дальнейшее развитие обители почти на тридцать лет. Кратковременное оживление хозяйственной деятельности и каменного строительства в Ферапонтове в 1640-х годах было вызвано рядом льгот со стороны царского дома Романовых. Впоследствии этот «духовный центр» постепенно приходит в упадок и запустение.
Тяжким бременем легла на обитель и забота о содержании опального патриарха Никона, проживавшего здесь с 1666 по 1676 год. Сосланный сюда после низложения церковным собором, Никон не переставал надеяться на скорое возвращение и требовал тех же патриарших почестей от окружающих и тех же привилегий, которыми он пользовался в былые времена. Избалованный ранее почти неограниченной властью, он постоянно выдвигал все новые и новые требования. Монастырские власти, также не уверенные в том, что судьба окончательно отвернулась от бывшего патриарха, считались с капризами этого честолюбивого и властного человека.
По указанию Никона воздвигли в Ферапонтове особые хоромы – «кельи многие житей с двадцать пять» со «сходами и всходами», среди Бородавского озера насыпали из камней остров в форме креста. На острове Никон водрузил деревянный крест и проводил долгое время в молитвах. На кресте была вырезана следующая надпись: «Животворящий крест Христов поставил смиренный Никон, Божию милостию патриарх, будучи в заточении за слово Божие и за св. Церковь на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме». Кресты с подобными же надписями были расставлены по его приказанию в разных местах на дорогах возле монастыря.
После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году положение Никона резко изменилось в худшую сторону. Патриарх Иоаким, его давний враг, предъявил ему многочисленные обвинения как смешные и нелепые, так и очень серьезные, например, сношения с посланцами Степана Разина. Этого было достаточно, чтобы перевести Никона в Кирилло-Белозерский монастырь и установить за ним усиленный надзор. Только в 1681 году Никон получил разрешение вернуться в созданный им Воскресенский Ново– Иерусалимский монастырь под Москвой, но по дороге заболел и умер.
С конца XVII века Ферапонтов монастырь окончательно приходит в упадок. В 1798 году обитель была упразднена, а ее церкви сделаны приходскими. В XVIII–XIX веках древние здания подверглись варварским ремонтам и переделкам, а некоторые были уничтожены. В 1857 году обветшавшую деревянную монастырскую ограду заменили каменной, которая частично дошла до нашего времени.
В начале XX века, в связи с пятисотлетием со дня основания, монастырь открыли вновь, но уже как женский. В 1908–1915 годах в нем были проведены восстановительные работы под руководством известных исследователей древнерусского искусства П. П. Покрышкина и К. К. Романова. Ныне здесь – филиал Кирилловского историкохудожественного музея,
Ферапонтов монастырь в отличие от соседнего Кирилло– Белозерского не был сколько-нибудь сильно укреплен и не считался крепостью. Вместо мощных каменных стен он имел лишь деревянную ограду с невысокими башнями по углам.
Главным, парадным въездом в монастырь служили каменные ворота в западной стене ограды, как обычно, называвшиеся Святыми, с кельей и сторожкой по сторонам и двумя небольшими храмами – Богоявления и Ферапонта – над ними (илл. 97). Это хорошо сохранившееся сооружение, построенное в 1649 году, составляло прежде основной фасад всего архитектурного комплекса, обращенного к дороге. По своей композиции – ворота внизу и храмы вверху – оно довольно традиционно.
Нижний ярус с двумя различной величины проездами, устои которых снаружи трактованы в виде широких граненых столбов с базами и капителями, типичен для таких построек. Гораздо своеобразнее выглядит верхний этаж, занятый двумя церквами. Это – прямоугольный объем с небольшими оконными проемами, завершенный прямым карнизом и покрытый четырехскатной кровлей. По своим формам он близок скорее к обычным гражданским, нежели к культовым постройкам, что явно свидетельствует о нарастании элементов светскости, так называемом процессе «обмирщения» в церковном зодчестве Руси в середине XVII века. Да и внутри объединенное помещение храмов плохо приспособлено для службы. Узкое, вытянутое, разделенное на две части только аркой, со слегка пониженными прямоугольными алтарями, оно явно не соответствует церковным каноническим архитектурным формам. Подобные храмы для данной эпохи представляли новшество, получив широкое развитие только в конце XVII-начале XVIII века.

95. Ферапонтов монастырь. Общий вид
Лишь возвышающиеся над кровлей на низких восьмериках два шатра, завершенные главками, указывают, что перед нами – храмы. Шатры, как это свойственно XVII столетию, имеют чисто декоративный характер. Они глухие и никак не связаны с внутренним пространством здания, ибо расположены прямо на сводах, с помощью опорных арок и столбов.
Живописны и нарядны фасады храмов. Пилястры делят их на две части соответственно проездам ворот. Узкие, длинные окна заключены в изящные вытянутые наличники с килевидным острым верхом, а вверху между ними расположены круглые проемы с обрамлением. Под карнизом идет широкая полоса из двух рядов своеобразного кирпичного орнамента с круглыми терракотовыми вставками. Она явно навеяна традиционным убранством более ранних храмов Белозерья, однако талантливый зодчий XVII века создал на этой основе свой собственный декор.

96. Ферапонтов монастырь в XVII веке. Рисунок с гравюры
С юга к Святым воротам примыкает небольшое двухэтажное здание Казенной палаты, иногда неправильно называемое «сушилом» или «мереженным корпусом». Построено оно в XVI веке и, судя по некоторым изображениям монастыря XVII–XVIII веков, входило в линию прежней деревянной ограды. Архитектура этого интереснейшего, гражданского по своему назначению сооружения проста и монументальна. Массивные стены имеют уступ на 2/з своей высоты, соответственно уровню пола верхнего этажа. Небольшие оконные проемы с сильными откосами, расположенные с южной и северной стороны, лишены каких-либо обрамлений. Особенно суров некогда являвшийся наружным западный фасад. Его глухую плоскость прорезает один проем и несколько щелевидных окон-бойниц. Лишь северный фасад, обращенный во двор монастыря, украшен скромным карнизом. Двускатная кровля венчает здание по линии север-юг. Внутри квадратные в плане помещения обоих этажей Казенной палаты перекрыты коробовыми сводами. Вход, расположенный в центре восточной стены, раньше находился внутри примыкавшей с этой стороны одноэтажной палаты.
За Святыми воротами открывается целая группа живописно стоящих зданий. Центральным в ней является соборный храм Рождества богородицы, сооруженный вскоре после пожара, в 1490 году (илл. 98). Это был второй после собора Спасо-Каменного монастыря монументальный храм на всем Севере. Естественно, что возведение его могло быть осуществлено лишь приглашенными мастерами. Таковыми, очевидно, были ростовские каменщики и зодчие. Новый собор близок по ряду деталей архитектуры к Успенскому собору Кириллова монастыря, построенному несколько позднее Прохором Ростовским. Кроме того, само его строительство связывается с именем архиепископа ростовского Иоасафа.
При возведении собора Рождества богородицы мастера блестяще использовали наиболее распространенную в то время на Руси систему четырехстолпного, одноглавого, трехапсидного храма с трехчастным членением фасадов и позакомарным покрытием. Однако они создали на этой основе глубоко своеобразное и оригинальное сооружение. Собору Ферапонтова присущи стройность и изящество, которых лишен более грузный и приземистый кирилловский храм. Поставленный на высокий подклет и окруженный с трех сторон (исключая восточную) широкой крытой папертью, кубический объем здания, вертикально вытянутый, легко и свободно возносит вверх свои массы. Своды его имеют ступенчатую конструкцию, где подпружные арки, несущие главу, сильно повышены. Это находит свое выражение и в наружных формах завершения. Торжественно-величавый характер собора усиливала крутая, устремленная ввысь пирамида из двух ярусов килевидных закомар и ряда кокошников на прямоугольном основании барабана, ныне, к сожалению, скрытая под поздней (XIX в.) четырехскатной кровлей. Наконец, поверх пирамиды располагались два световых барабана с шлемовидными главами: большой – в центре и малый – на юго-восточном углу, над приделом Николая.
Привлекают внимание отдельные своеобразные формы здания, во многом обусловившие его неповторимость. Интересна крытая паперть-галерея, сооруженная сразу после возведения собора. Она не характерна для Севера и по происхождению связана с московско-тверским зодчеством. Первоначально паперть была перекрыта тремя щипцовыми крышами, перпендикулярными фасадам храма (аналогично алтарю Преображенской церкви в Кириллове); на ее северо-западном углу находилась оригинальная небольшая звонница псковско-новгородского типа. Позднее появилась односкатная крыша, и, по-видимому, тогда же исчезла и миниатюрная звонница, ныне сохранившая лишь частично свой нижний ярус.
Не менее любопытна вторая, малая глава, барабан которой находится под кровлей. Она почти не имеет прямых аналогий в предшествующем монументальном зодчестве, но логически вполне оправдана как самостоятельное завершение придела. В дальнейшем такой прием находит, как мы видели выше, самое широкое применение в храмах Кириллова. Он во многом родствен деревянному зодчеству Севера, где каждый прируб венчается своей главой.
В Рождественском соборе очень ярко проявляется свойственное архитектуре того времени стремление к гармонической уравновешенности масс здания. Оно выражается в расположении большой главы в центре всего объема, включая апсиды. Это приводит в свою очередь к смещению столбов ближе к алтарной стене, вызывая тем самым уменьшение восточных прясел на боковых фасадах. Наружные пилястры не могут отразить этот сильный сдвиг; они перестают совпадать с размещением внутренних опор, превращаясь в декоративные членения. Эта система построения дальнейшее развитие получает в храмах Кирилло– Белозерского монастыря.
Оригинально и нарядное наружное убранство собора Рождества богородицы, в котором впервые широко использована известная нам местная система декора. Оно отличается от позднейших архитектурных памятников Белозерья своим разнообразием и индивидуальностью трактовки. Каждый фасад здания декорирован по-своему. Наиболее парадно оформлена западная сторона собора. Основу ее убора составляет декоративный пояс между пилястрами под закомарами, состоящий из терракотовых балясин в крестообразных впадинах и двух рядов изразцовых плиток с растительным орнаментом в виде кринов. Над ним – полоска бегунца, которая как бы начинает ряды поребрика, бегунца и прямоугольных нишек – обильного декора, сплошь покрывающего поверхность закомар. Композиционным центром этого фасада служит превосходный перспективный портал, вытесанный из белого камня. Форма его традиционна и напоминает о связях с раннемосковским зодчеством. Внизу стены, по обе стороны портала также проходит узкий пояс из одного ряда терракотовых изразцов. Изображения на них чередуются: гепарды и львы, помещенные в кругах, соседствуют с орнаментальными, криновидными композициями. Подобные изразцы, во многом близкие владимиро-суздальской белокаменной резьбе, не встречаются ни в одном из других памятников Белозерья.


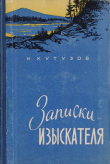




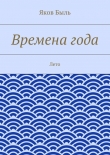
![Книга Праздник живота [СИ] автора Борис Хантаев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-prazdnik-zhivota-si-145240.jpg)