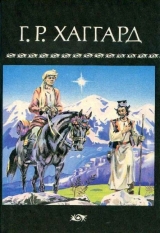
Текст книги "Собрание сочинений в 10 томах. Том 10"
Автор книги: Генри Райдер Хаггард
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 43 страниц)
Глава II. По прошествии многих лет
Разумеется, скоропостижная кончина мистера Винси сильно взбудоражила колледж, но все знали, как тяжело он болел, и по предоставлении доктором соответствующей справки решили не проводить расследование. В те годы расследование не являлось обязательным, и его старались избегать, так как нередко оно приводило к скандальным разоблачениям. При таких обстоятельствах меня не допрашивали, а сам я никому не рассказывал о нашей последней встрече, упомянул только, что он заходил ко мне, как это часто бывало. В день похорон из Лондона прибыл адвокат, он проводил моего бедного друга в последний путь и тут же уехал со всеми бумагами и документами. Разумеется, я ничего не сказал ему о железном сундучке, оставленном мне на хранение. В течение последующей недели не произошло ничего, заслуживающего внимания. Я с головой ушел в подготовку к экзамену, поэтому даже не присутствовал на похоронах и не говорил с адвокатом. Наконец я сдал экзамен, вернулся домой и плюхнулся в кресло, довольный своим успехом, а это действительно был успех, и блистательный.
Вот тогда-то, освободясь наконец от заботы, которая много дней поглощала все мои мысли, я вспомнил о событиях ночи накануне смерти бедного Винси. Что же все это означает? – вновь спросил я себя. Услышу ли я еще об этом деле, а если нет, то как следует поступить с загадочным сундучком? Я сидел и размышлял, и чем больше я размышлял, тем тревожнее становилось на душе: таинственное ночное посещение, предчувствие неминуемой смерти, моя торжественная клятва, в случае нарушения которой Винси грозился призвать меня к ответу даже с того света, – все это требовало объяснения. Уж не совершил ли мой друг самоубийства? Похоже было, что так. И что это за поиски, о которых он говорил так невнятно? Во всем этом было что-то сверхъестественно-странное, и, хотя я человек отнюдь не нервный и не склонен тревожиться по поводу событий или явлений, которые выходят за рамки реальности, в мое сердце закрадывался страх, я уже начинал жалеть, что впутался во всю эту историю. Это раскаяние преследует меня вот уже двадцать лет.
Неожиданно послышался стук в дверь, мне принесли большой голубой конверт. С первого же взгляда я понял, что это официальное послание от нотариуса, скорее всего относительно моего опекунства. Это письмо – я все еще продолжаю его хранить – гласило:
Сэр,
наш клиент, покойный М. Л. Винси, эсквайр, скончавшийся 9-го числа сего месяца в Кембриджском колледже, оставил завещание (копия прилагается), в котором назначает нас исполнителями своей последней воли. Из завещания следует, что в случае Вашего согласия принять опекунство над Лео Винси, единственным сыном покойного мистера Винси, ребенком пяти лет от роду, Вам будет выплачиваться пожизненная рента с капитала, вложенного в консоли. Если бы мы сами лично, во исполнение точных и недвусмысленных распоряжений мистера Винси, как устных, так и письменных, не составили означенный документ и если бы он не заверил нас, что руководствуется чрезвычайно вескими соображениями, мы вынуждены были бы – столь необычны предусматриваемые в нем условия – ходатайствовать, чтобы Высокий Суд, в целях защиты интересов ребенка, признал завещателя недееспособным. Будучи, однако, хорошо осведомлены, что завещатель являлся джентльменом глубокого ума и проницательности и что у него нет никаких родственников, которым он мог бы доверить опекунство, мы воздерживаемся от опротестования последней воли покойного.
Мы ждем Ваших распоряжений о ребенке и о выплате причитающейся Вам части ренты.
Искренне преданные Вам, сэр,
Джеффри и Джордан.
Отложив письмо, я пробежал глазами завещание, которое, судя по его непонятности, было составлено с соблюдением строжайших юридических принципов. Насколько я мог уяснить, в нем повторялось все сказанное мне другом накануне смерти. Стало быть, все это верно. Отныне я опекун мальчика. Тут я вспомнил о письме, оставленном вместе с сундучком, принес и вскрыл его. В письме, как и следовало ожидать, говорилось, что я должен распечатать сундучок в тот день, когда Лео исполнится двадцать пять, и что его образование должно включать в себя изучение греческого и арабского языков и высшей математики. В постскриптуме указывалось, что в случае, если Лео умрет, не достигнув двадцати пяти лет, хотя такая возможность и маловероятна, я могу открыть сундучок сам и, ознакомясь с его содержанием, действовать по своему усмотрению. Если же я не захочу что-либо предпринять, я должен уничтожить сундучок со всем его содержимым. Ни при каких обстоятельствах я не должен передавать сундучок кому-нибудь другому.
Письмо не добавляло ничего существенно нового к тому, что я уже знал, и, конечно, никоим образом не препятствовало мне выполнить свое обещание покойному другу, поэтому оставалось лишь сообщить господам Джеффри и Джордану, что по истечении десяти дней я буду готов возложить на себя обязанности опекуна. Затем я обратился к начальству колледжа и рассказал им все, что счел целесообразным, а это было не так уж много; хотя и со значительным трудом, мне все же удалось убедить их, чтобы в случае, если я буду утвержден членом ученого совета, а в этом не было никаких сомнений, мне позволили жить вместе с ребенком. Их согласие, однако, было оговорено условием, что я освобожу квартиру, занимаемую мною в колледже. После недолгих поисков мне удалось снять прекрасную квартиру рядом с воротами колледжа. Далее мне предстояло найти няню. По зрелым размышлениям я пришел к выводу, что не могу допустить, чтобы воспитанием ребенка руководила какая-нибудь женщина, которая к тому же могла похитить у меня его привязанность. Мальчик уже в том возрасте, когда вполне может обойтись без женской помощи, поэтому я принялся искать подходящего слугу-мужчину. Мне удалось подыскать очень на вид благопристойного, круглолицего молодого парня; он работал в конюшне, предназначенной для охотничьих лошадей, но сказал, что вырос в семье из семнадцати душ, с детства привык к заботе о своих многочисленных братишках и сестричках и охотно возьмет на себя попечение о мастере Лео, когда тот прибудет. Я отвез сундучок в город и оставил на хранение своему банкиру. Затем купил несколько пособий по уходу за детьми и их воспитанию, проштудировал их сам и прочитал вслух Джобу – так звали молодого слугу. Оставалось только ждать.
Мальчика доставила пожилая особа, она горько плакала, расставаясь с ним. Малыш оказался прехорошеньким – никогда не видел более прелестного. У него были серые глаза, широкий лобик, четко, точно на камее, вырезанное лицо, отнюдь не худое или истощенное. Особенно хороши были короткие золотистые кудряшки. Когда няня наконец нашла в себе силы проститься и уйти, он немного похныкал, но скоро успокоился. Никогда не забуду этой сценки. Вот он стоит, очаровательный малыш, трет кулачком один глаз, а другим посматривает на нас с Джобом. В золотых завитках его волос играет солнечный свет, льющийся из окна. Я сижу в кресле и маню его рукой, а Джоб, стоя в углу, издает какое-то странное кудахтанье, которое, по его мнению, подкрепленному предыдущим опытом, должно успокаивать детей, внушать им доверие, одновременно он катает взад и вперед преуродливую деревянную лошадку; делает он это с таким остервенением, что возникает невольное сомнение, в своем ли он уме. Так продолжается несколько минут. Затем малыш вытягивает ручонки и бросается ко мне.
– Ты хороший дядя, – говорит он. – Страшный, но хороший.
Через десять минут он поедает уже большой бутерброд с маслом, со всеми признаками довольства на лице. Джоб хотел было намазать джем поверх масла, но я решительно воспротивился, напомнив о тех авторитетных наставлениях, которые я ему читал.
В скором времени (я только-только успел стать членом ученого совета) мальчик сделался любимцем всего колледжа, куда, несмотря на все запреты, прибегал по сто раз на дню – есть такие баловни судьбы, ради которых смягчаются и самые строгие правила. На алтарь этого маленького божества возлагались бессчетные приношения, и у меня возникла даже серьезная размолвка с одним старым членом ученого совета, давно уже покойным, который считался черствейшим человеком во всем университете и терпеть не мог детишек. Какое-то время нашего малыша поташнивало. Джоб стал внимательно за ним приглядывать – и что же обнаружилось? Бессовестный старикан заманивал Лео к себе и скармливал ему несчетное множество конфет с ликером. «Как ему не стыдно! – возмущался Джоб. – А ведь он был бы уже дедом, если бы поступил как все люди». Эти слова означали, что ему следовало давно жениться, тогда бы он не приставал к чужим детям.
К сожалению, я не могу отвлекаться на описание тех чудесных лет, которые я все еще вспоминаю с глубокой нежностью. Время шло, и с каждым годом наша с Лео взаимная привязанность росла и росла. Мало кто так любит своих сыновей, как я – Лео, и мало кто из сыновей питает такую глубокую и прочную любовь, как Лео ко мне.
Мальчик превратился в подростка, подросток – в молодого человека, и все это время он становился красивее и красивее как телом, так и духом. В пятнадцать лет за ним укрепилось прозвище Прекрасный Принц, а за мной – Чудище. Каждый день, выходя на прогулку, мы слышали за спиной: «Прекрасный Принц» и «Чудище». Однажды, обиженный за меня, Лео набросился на здоровенного, вдвое больше его, мясника и задал ему хорошую взбучку. Я прошел мимо, сделав вид, будто ничего не заметил, но видя, что драка затянулась, вернулся и стал подбадривать Лео громкими криками. Шуткам поэтому поводу не было конца, и тут уж я ничего не мог поделать. Когда Лео стал постарше, студенты последнего курса придумали для нас новые прозвища. Меня они окрестили Хароном, а Лео стали называть Греческим Богом. Не буду распространяться о своем собственном прозвище, скромно замечу лишь, что я никогда не был красив и с годами моя внешность не изменилась к лучшему. Что до Лео, то он вполне заслуживал такого прозвища. В двадцать один год он мог служить натурой для статуи молодого Апполона. Никогда не встречал никого более красивого и в то же время совершенно равнодушного к своей красоте. К тому же он очень умен, схватывает все на лету, хотя и лишен задатков истинного ученого. Не хватает целеустремленности, качества, может быть, и скучного, но необходимого. В его образовании мы строго следовали отцовской воле, и общие результаты – особенно что касается греческого и арабского – можно считать удовлетворительными. Я и сам выучил арабский, чтобы оказывать ему помощь, но через пять лет он знал язык не хуже меня, почти так же основательно, как наш общий учитель-профессор. Я всегда увлекался спортом, это единственная моя страсть, и каждую осень мы отправлялись охотиться либо ловить рыбу в Шотландию, Норвегию, а как-то раз даже в Россию. Стрелок я меткий, но даже и в этом он превзошел меня.
Когда Лео минуло восемнадцать, я вернулся в прежнюю квартиру и определил Лео в свой колледж. В двадцать один он уже получил степень, не очень, может быть, высокую, но удовлетворительную. Тогда-то я и рассказал ему кое-что о его происхождении и о той тайне, которая маячила впереди. Само собой, он был очень заинтригован, и, само собой, я объяснил, что его любопытство не может быть пока удовлетворено. Я предложил, чтобы Лео подготовился к получению права на адвокатскую практику, надо же ему чем-то заняться в ожидании двадцатипятилетия, и он согласился. Учился он по-прежнему в Кембридже и только по вечерам уезжал иногда в Лондон, чтобы поужинать.
У меня была с ним лишь одна трудность: каждая или почти каждая молодая девушка, с ним знакомившаяся, непременно в него влюблялась. Отсюда плодились всякие осложнения; описывать их здесь нет нужды, но неприятностей они доставляли немало. В общем, однако, он вел себя как человек порядочный, большего я не могу сказать.
И вот наконец наступил двадцать пятый день его рождения, день, когда начинается эта странная и в некоторых отношениях ужасная история.
Глава III. Черепок вазы
Накануне дня рождения мы с Лео съездили в Лондон и получили там в банке таинственный сундучок, оставленный на хранение еще двадцать лет назад. Его принес тот же самый клерк, что и принял. Он хорошо помнил, куда убрал сундучок; в противном случае, по его собственному признанию, найти сундучок было бы очень трудно, потому что его сплошь затянуло паутиной.
Вечером мы возвращались с нашей драгоценной ношей в Кембридж; в ту ночь мы спали так мало, если вообще спали, что могли бы пожертвовать сном, не став от этого ничуть беднее. Рано утром, еще в сумерках, Лео явился ко мне в халате с предложением немедленно приступить к делу. Я ответил, что нам не пристало пороть горячку: ждали двадцать лет, подождем и до завтрака. Ровно в девять – с необычайной точностью – мы уселись завтракать; я был так поглощен своими мыслями, что вместо сахара положил в чай Лео кусок бекона. Мое возбуждение, естественно, передалось и Джобу: он умудрился отломать ручку у дорогой севрской чашки, точно такой же, по моим предположениям, как та, из которой Марат пил чай в ванне, когда его убили.
Наконец Джоб убрал посуду и по моей просьбе принес сундучок, водрузив его на стол с такой опаской, как будто он был начинен взрывчаткой. Он уже собирался уйти, но я остановил его:
– Погоди, Джоб. Если мистер Лео не возражает, я предпочел бы, чтобы при вскрытии сундучка присутствовал беспристрастный свидетель, способный держать язык за зубами.
– Хорошо, дядя Хорейс, – сказал Лео (я приучил его называть меня «дядей», хотя иногда он и прибегал к довольно непочтительному обращению «старина» или «дядюшка»).
Джоб притронулся к голове таким жестом, как если бы притрагивался к шляпе.
– Запри дверь, Джоб, – распорядился я, – и принеси мне портфель.
Джоб принес портфель, и я достал из него ключи, которые бедный Винси, отец Лео, вручил мне накануне смерти. Ключей было три: самый большой – почти современного вида; второй – поменьше, явно старинный; что же касается третьего, то никто из нас не видел ничего подобного: это была полоска из чистого серебра с несколькими прорезями и поперечиной вместо ручки. Походил он разве что на какой-то допотопный железнодорожный ключ.
– Вы оба готовы? – спросил я, как сапер перед взрывом мины. Не дожидаясь ответа, я взял большой ключ, смазал его салатным маслом и после нескольких неудачных – из-за дрожи в руках – попыток изловчился вставить в замок и повернуть. Лео нагнулся, схватил обеими руками массивную крышку и поднял ее, преодолевая сопротивление ржавых петель. Внутри оказался большой ларец, весь запорошенный пылью. Мы легко извлекли его и счистили скопившуюся грязь одежной щеткой.
Ларец был то ли из черного дерева, то ли из какой-то другой прочной древесины и окован железными лентами. Судя по тому, что тяжелое плотное дерево местами стало уже превращаться в труху, изготовили его еще в глубокой древности.
– Ну, что ж, попробуем его открыть, – сказал я, вставляя в скважину второй ключ.
Джоб и Лео нагнулись, затаив дыхание. Когда я повернул ключ и откинул крышку, мы вскрикнули разом все трое – не удивительно: в эбеновом ларце хранилась великолепная серебряная корзинка, дюймов двенадцати в ширину и длину и восьми высотой, по всей вероятности, древнеегипетской работы, ибо черные ее ножки были сделаны в форме сфинкса и на выпуклой крышке тоже возлежал сфинкс. Корзинка прекрасно сохранилась, хотя, естественно, и потускнела от времени.
Я выложил ее на стол, затем, при всеобщем глубоком молчании, вставил серебряный ключ и стал поворачивать то в одну, то в другую сторону, пока замок наконец не поддался. Корзинка оказалась заполненной по самые края полуистлевшей коричневой массой, похожей скорее на волокно, чем на бумагу, я так никогда и не смог выяснить ее состав. Выбрав коричневую массу дюйма на три, я увидел письмо в обычном современном конверте с надписью, сделанной рукой моего покойного друга Винси: «Моему сыну Лео, если он жив к этому времени». Я отдал письмо Лео, он скользнул по нему беглым взглядом и, положив на стол, сделал знак, чтобы я продолжал исследовать содержимое корзинки.
Чуть ниже я обнаружил аккуратно скатанный пергамент. Развернув его, я увидел текст, тоже написанный рукой Винси и озаглавленный: «Перевод унциальной греческой надписи на черепке вазы». Я положил свиток рядом с письмом. Ниже оказался еще один пергаментный свиток, пожелтевший и сморщившийся от древности. И это был перевод с греческого, выведенный, однако, готическим английским шрифтом, по стилю и написанию я датировал текст началом шестнадцатого столетия. Сразу же под свитком на очередном слое волокнистой массы покоилось что-то твердое и тяжелое, завернутое в желтоватое льняное полотно. Медленно и осторожно размотав обертку, мы увидели очень большой и, несомненно, древний черепок грязно-желтого цвета. Насколько я могу судить, это был обломок обычной, средних размеров амфоры. Черепок был в десять с половиной дюймов длины, семь дюймов в ширину и в четверть дюйма толщиной; выпуклую его сторону, обращенную ко дну корзинки, густо испещряли позднегреческие письмена, кое-где уже поблекшие, но по большей своей части вполне отчетливые, выведенные с величайшей аккуратностью тростниковым пером, которым часто пользовались в древности. Следует добавить, что некогда этот удивительный обломок был расколот надвое и соединен каким-то цементирующим составом и восемью длинными скрепками. На вогнутой стороне также имелись многочисленные надписи, разбросанные в хаотическом беспорядке и, очевидно, сделанные разными почерками в разные века; обо всех этих надписях, в том числе и о тех, что на пергаментах, мне придется еще поговорить.
– Нет ли там еще чего-нибудь? – взволнованно прошептал Лео.
Я порылся на дне и нашел маленький полотняный мешочек с чем-то твердым. Мы извлекли оттуда чудесную миниатюрку, выполненную по слоновой кости, и небольшого, шоколадного цвета скарабея с загадочными знаками.

Эти символы, как мы впоследствии узнали, означают «Сутен се Ра», что переводится как «Царственный сын Ра, или Солнца». Миниатюрка изображала прелестную темноглазую женщину – гречанку, мать Лео. На обратной стороне рукой бедного Винси было выведено: «Моя любимая жена».
– Это все, – сказал я.
– Ну что ж, хорошо, – ответил Лео и, посмотрев долгим нежным взглядом на портрет своей матери, положил его на стол. – А теперь прочитаем письмо. – И недолго думая он сломал печать и принялся читать вслух:
– Мой сын Лео!
Когда ты вскроешь письмо, – я уверен, что ты непременно доживешь до этого времени, – ты будешь уже совсем взрослым. Почти все, кто меня знал, забудут даже мое имя. Но ты должен помнить обо мне, помнить, что я был и, возможно, еще есть; это письмо – связующее звено между нами; я протягиваю тебе руку через разделяющую нас пропасть Смерти, взываю к тебе из несказанного безмолвия могилы. Да, я мертв, в твоей памяти не сохранилось обо мне никаких воспоминаний, но в эту минуту, когда ты читаешь письмо, я с тобой. Я не видел тебя с самого твоего рождения. Прости меня. Твое появление на свет стоило жизни той, кого я любил сильнее, чем обычно любят женщин, – и я все еще ощущаю горечь этой утраты. Если бы я остался жить, я бы, конечно, сумел справиться с собой, но я должен умереть. Мои физические и духовные страдания нестерпимы, и, как только я сделаю то немногое, что необходимо для обеспечения твоего будущего, я намерен положить им конец. Да простит мне Господь этот смертный грех! Все равно мне не протянуть и года.
– Значит, он покончил с собой! – воскликнул я. – Так я и подозревал.
– Но хватит о себе, – продолжал читать Лео. – То, что следует сказать, принадлежит вам, живущим, а не мне, давно мертвому и всеми забытому, как будто меня никогда и не существовало. Мой друг Холли (если на то будет его согласие, он станет твоим опекуном), вероятно, уже рассказал тебе о необыкновенной древности нашего рода. В корзинке ты найдешь веские тому доказательства. Осколок вазы со странной легендой, изложенной твоей дальней прародительницей, был передан мне отцом, эта легенда всецело завладела моим воображением. Девятнадцати лет от роду, на свою беду, я, как один из наших предков елизаветинских времен, решил проверить ее достоверность. Не хочу здесь описывать все, со мной происшедшее. Но вот что я видел своими глазами. На берегу Африки, в еще не исследованных местах, севернее устья Замбези, есть мыс, на самой оконечности которого высится скала с вершиной, похожей по форме на голову негра, о ней-то, видимо, и говорится в надписи на черепке. Высадясь на берег, я узнал от бродячего туземца, за какое-то преступление изгнанного из своего племени, что в глубине материка находятся окруженные бесчисленными болотами громадные чашеобразные горы и пещеры. Тамошний народ говорит на диалекте арабского языка, и правит им прекрасная белая женщина, которая редко снисходит до появления перед своими подданными и, по слухам, обладает властью не только над живыми, но и над мертвыми. Через два дня туземец умер от лихорадки, схваченной им в болотах; недостаток провианта и первые симптомы болезни, которая тат сильно прогрессировала впоследствии, вынудили меня вернуться на нашу дау.
Думаю, незачем вспоминать о пережитых мною приключениях. Судно потерпело крушение у берегов Мадагаскара, лишь через несколько месяцев меня подобрал английский корабль и отвез в Аден; оттуда я отправился в Англию, намериваясь возобновить поиски, как только сумею достаточно подготовиться. По пути я остановился в Греции, и там – Omnia vincit amor – я встретил твою будущую мать, полюбил ее и женился, но, к великому моему горю, она умерла при родах. Моя болезнь резко обострилась, и я вернулся в Англию, чтобы умереть здесь. Но надежда все еще не покидала меня, и я взялся за изучение арабского языка, с твердым намерением возвратиться (если мне вдруг станет лучше) к берегам Африки и разрешить наконец тайну, которая вот уже много веков висит над нашим родом. Но мне не суждено было поправиться, жизнь моя завершена.
Но для тебя, мой сын, жизнь только еще начинается, поэтому я передаю тебе все раздобытые мною сведения вместе с доказательствами древности нашего рода. Все это, по моему замыслу, должно попасть тебе в руки в том возрасте, когда ты сможешь самостоятельно решать, хочешь ты или нет попробовать проникнуть в величайшую тайну, какая есть на свете, или ты сочтешь все это вымыслом безумной женщины.
Я лично убежден, что это не вымысел. Есть на земле место, где открыто проявляются жизненные силы природы, его только надо отыскать. Жизнь существует, почему бы не существовать способам продлить ее надолго, если не навечно? Но я не хочу влиять на твое окончательное решение. Прими его сам. На случай, если ты продолжишь начатые мною поиски, я позаботился, чтобы у тебя были все необходимые средства. Если же ты придешь к убеждению, что все это – химера, уничтожь черепок и свитки, навсегда освободив наш род от причины вечного беспокойства. Может быть, это самое разумное решение. Неведомое обычно внушает нам страх – не потому, что, как принято считать, мы суеверны, а потому, что оно и в самом деле нередко содержит в себе грозную опасность. Человек, вмешивающийся в действие могучих тайных сил, питающих жизнь на земле, может легко оказаться их жертвой. А если ты все же достигнешь цели, обретешь вечную молодость и красоту, восторжествовав над временем и злом, вознесясь над естественным тленом, распадом души и тела, кто может поручиться, что эта поразительная перемена принесет счастье? Выбирай, мой сын, и пусть Великая Сила, которая правит всем сущим, предопределяя, насколько далеко мы пойдем, как многое сможем постичь, способствует и твоему счастью, и счастью всего мира, владыкой которого, в случае успеха, ты неминуемо окажешься, ибо могущество накопленного опыта безгранично. Прощай…
Так резко обрывалось это неподписанное, без даты письмо.
– Что ты обо всем этом думаешь, дядя Холли? – переведя дух, спросил Лео и, положив письмо на стол, добавил: – Мы предполагали, что столкнемся с тайной, – и вот она, тайна!
– Что я думаю? Что твой бедный отец лишился рассудка перед смертью, – пробурчал я. – Я понял это еще в ту ночь, когда он пришел ко мне в последний раз, двадцать лет назад. Несчастный покончил с собой… Конечно же все это вздор!
– Вы правы, сэр, – торжественно произнес Джоб, типичный образчик человека сухого, без всякой фантазии.
– Ну, а теперь почитаем, что написано на черепке, – сказал Лео, взяв в руки отцовский перевод.
Я, Аменартас, принцесса из царского дома Египта, жена Калликрата (Прекрасного в силе), жреца Исиды, возлюбленной богами и повелевающей демонами, пишу это перед смертью для своего маленького сына Тисисфена (Мстителя).
Мой дорогой сын! Я бежала с твоим отцом из Египта во времена правления Нектанеба, силой своей любви принудив его нарушить священный обет. Мы долго плыли по морю и дважды по двенадцать лет блуждали по берегам Ливии (Африка), обращенным к восходящему солнцу; недалеко от устья реки там есть скала с вершиной, имеющей форму головы эфиопа. Четыре дня мы плыли вверх по реке, затем потерпели крушение; многие утонули, многие погибли от огневицы. Десять дней дикари вели нас, уцелевших, по болотам, где водится столько птиц, что, взмывая разом, они застилают все небо. Наконец мы добрались до похожей на опрокинутую чашу горы; там, в долине, некогда был великий город, но ныне от него сохранились лишь развалины; в склонах же горы – бессчетное множество пещер. Мы предстали перед царицей народа, в чьих обычаях – казнить чужеземцев, надевая на них раскаленные горшки; царица эта – волшебница, постигшая все тайны природы, наделенная вечной молодостью и неувядаемой красотой. И она воспылала любовью к отцу твоему Калликрату и задумала убить меня, с тем чтобы взять его в мужья, но он любил меня и боялся ее, и поэтому не хотел на ней жениться. Тогда эта волшебница, владеющая черной магией, отвела нас в пещеру, перед которой лежал мертвый старый мудрец, и показала кружащийся Огненный Столп Вечной Жизни, чей голос – как раскаты грома, и царица вошла в пламя и появилась оттуда необожженная и даже еще более прекрасная. И тогда она обещала даровать бессмертие твоему отцу, если он убьет меня, ибо сама она была бессильна против волшебства моего народа, которым я обладала; и еще она пообещала, что станет его женой. Но он закрыл рукой глаза, чтобы не видеть ее красоты, и не захотел отречься от меня. И тогда, в дикой ярости, она сокрушила его силой своего колдовства, и он умер, а она горько над ним рыдала и причитала, а потом велела унести его оттуда; меня же, опасаясь возмездия, она приказала отправить в устье большой реки, где причаливают морские суда. Во время долгого обратного путешествия я и родила тебя, но мне пришлось немало поскитаться, прежде чем я добралась наконец до Афин. А теперь послушай меня, мой сын Тисисфен: отыщи эту женщину, выведай у нее тайну вечной жизни и, если сможешь ее убить, отомсти за отца своего Калликрата; но если тебе это не удастся, я взываю ко всем будущим потомкам: надеюсь, среди них сыщется отважный человек, который совершит омовение в пламени и воссядет на трон фараонов. Может быть, все это покажется тебе невероятным, но я говорю сущую правду – ни слова лжи!
– Да простит ее Господь! – простонал Джоб, который с открытым ртом слушал это удивительное послание.
Я молчал, сначала я предположил было, что мой бедный друг в припадке безумия сочинил все сам, но, поразмыслив, я отмел это предположение: выдумать такое просто невозможно! Слишком уж необычна надпись! Чтобы разрешить свои сомнения, я взял в руки черепок и начал читать греческий оригинал, написанный убористым унциальным шрифтом. Хотя и писала египтянка, ее послание – великолепный образец греческого языка того периода.
Переписываю его, как оно есть.



Для удобства чтения я переписал весь текст более привычным рукописным шрифтом.


Внимательное изучение показывает, что перевод сочетает точность с изяществом, в чем легко можно убедиться, сопоставив его с оригиналом.
Помимо унциальной надписи на выпуклой стороне черепка, в самом его верху, где находилось горлышко амфоры, тусклой красной краской был изображен тот же картуш, что и на скарабее, найденном в серебряной корзинке. Иероглифы, или символы, были, однако, перевернуты, словно оттиснуты на воске. Принадлежал ли картуш Калликрату, какому-нибудь принцу либо фараону, чья кровь текла в жилах принцессы Аменартас, – не знаю; не могу я с уверенностью сказать, и был ли он нанесен на черепок в одно время с унциальной надписью или же скопирован позднее со скарабея кем-нибудь из ее многочисленных потомков. И это еще не все. Под надписью той же краской был сделан набросок головы и плеч сфинкса, увенчанного двумя перьями, символами величия; перья довольно часто встречаются на изваяниях священных быков, но я никогда не видел их на сфинксах.
На правой стороне черепка, рядом с унциальной надписью, красной краской, наискось, было выведено следующее любопытное двустишие, подписанное голубой краской:
На земле, в небесах, в океанской бездне
Несчетно чудес, лишь очи отверзни.
Hoc fecit
Доротея Винси.
Глубоко озадаченный, я перевернул реликвию. Она была вся, сверху донизу, испещрена пометками и подписями на греческом, латинском и английском языках. Первая пометка, сделанная унциальным греческим шрифтом, принадлежала Тисисфену. «Я не смог поехать. Тисисфен своему сыну Калликрату», – гласила она. Вот ее факсимиле с рукописным эквивалентом:

Этот Калликрат (названный так, видимо, по греческому обычаю, в честь деда), очевидно, пытался начать поиски, ибо написал еле заметным, неразборчивым унциальным шрифтом: «Я хотел уже отправиться в путь, но боги ополчились против меня, и я вынужден отказаться от своего намерения. Калликрат своему сыну». Вот эта надпись:

Между двумя этими древними надписями – вторая, кстати сказать, написана прыгающими буквами и так сильно стерлась от прикосновения рук, что – не приложи Винси свою транскрипцию – я вряд ли смог бы ее разобрать, – выделялась четкая, сделанная, по всей видимости, сравнительно недавно подпись некоего Лайонела Винси. Чуть ниже чья-то рука, очевидно рука деда Винси, начертала: «Aetate sua 17». Справа были инициалы «Дж. Б. Ви.», внизу – множество греческих подписей на унциальном и рукописном шрифтах: часто повторялись написанные, как правило, небрежно слова «» (моему сыну): это свидетельствовало, что реликвия благоговейно передавалась из поколения в поколение.








