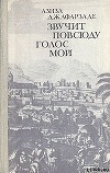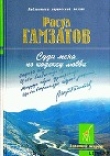Текст книги "Я возьму сам"
Автор книги: Генри Лайон Олди
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
4
– Вы что тут все, сговорились?! – Брызжа слюной, поэт прошипел это в лицо Гургину, едва сдерживаясь, чтобы не схватить старца за глотку. – Издеваетесь, да?!
– Помилуй, владыка! – Обида мага была настолько искренней, что Абу-т-Тайиб невольно сделал шаг назад: получше рассмотреть советника. – Кому ж придет в голову издеваться над шахом?!
Нет, Гургин не притворялся.
– Тогда какого шайтана эта игра в поддавки?! Он же бил, как евнух мухобойкой! Если б я сразу…
– Никто не смеет посягнуть на жизнь шаха Кей-Бахрама! – назидательно воздел палец старый жрец.
– Что?!! Шаха?!! Они все знали, что я – шах?!!
– Разумеется, – был ответный кивок.
– Но ведь я же… ведь мы же… – задохнулся Абу-т-Тайиб. – Откуда им знать?!
– Обладателя фарр-ла-Кабир за фарсанг узнает любой человек, если только этот человек не слепой от рождения и не слабоумный, – неторопливо и раздельно, как маленькому ребенку, пояснил маг.
– Но как?!!
– «И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра, и сияние Огня Небесного будет окружать чело его…» – нараспев процитировал Гургин.
– Златой Овен? Этот проклятый баран?!
– Он самый, владыка.
– Выходит, у меня нимб вокруг лба? Как у святого пророка? – ехидно поинтересовался Абу-т-Тайиб. – А крыльев ангельских случаем нету?!
– Воистину так, владыка. Нимб есть, а крыльев нет.
Маг и не думал шутить.
– Почему же я этого не вижу?
– Шаху невместно зреть собственный фарр. Зато его видят все твои подданные.
– Подданные… Значит, я – настоящий шах?! Настоящий?!! – Абу-т-Тайиб все-таки не сдержался, ухватил старца за грудки, словно стремясь вытрясти из него вместе с правдой и душу.
– Настоящий, – прохрипел Гургин, и поэт бессильно отпустил его.
– И все эти люди – на улицах, в чайхане, у костра… Тот мясник-задира, ловкачи: они все знали, что я – шах?!
– Знали, владыка!
– И все поголовно притворялись, что не узнают меня?!
– Они не притворялись, владыка, – казалось, маг донельзя удивлен, что Кей-Бахраму приходится объяснять столь очевидные вещи. – Шах желал насладиться прогулкой и беседой, оставшись неузнанным. А желание шаха – закон для подданных. Ты хотел, чтобы тебя считали обычным горожанином – тебя таковым и считали. Шах удивился, почему в толчее ему уступают дорогу – и тебя стали толкать, как и прочих; шах хотел общества подонков – и подонки приняли шаха как равного; шах захотел драки и крови предателя… Ты получил и то и другое. Омар Резчик действительно боец из бойцов: он сражался с тобой так, что ты поначалу даже поверил в серьезность его намерений. И теперь он наверняка горд: ведь руку ему отрубил не палач, а носитель фарр-ла-Кабир!
– Гордится… – простонал поэт, обеими руками схватившись за голову. – Он гордится! О Аллах, я, кажется, схожу с ума! Там был еще один, сзади. Я вроде бы зацепил его.
– Ты его убил, – просто ответил хирбед. – Тот парнишка, у которого ты брал чанг… Это был он.
– И он тоже не собирался ударить мне в спину?!
– Не собирался, мой шах. Он всего лишь встал.
– Значит… значит, они восторгались моим пением лишь потому, что я шах?! Я дрался с ними всерьез – а они давали мне руки на отсечение?! И если бы я просто стоял, опустив ятаган – все равно ни один волос не упал бы с моей головы?!
– Ни один волос, – эхом отозвался Гургин. – У шаха не бывает врагов. Во всяком случае, живых.
– Не бывает врагов? А друзья у шаха бывают?! – Свистящий шепот грозил разорвать грудь и выплеснуться кипятком.
– У шаха не бывает друзей. Разве есть друзья у солнца в небе? У шаха есть только подданные, для которых воля владыки – закон.
– Подданные… – потерянно откликнулся Абу-т-Тайиб.
Внезапно глаза его вспыхнули.
– Врешь, старый скорпион! Будут у меня друзья! Будут! И враги будут! Сам говорил: на границе с этой… как ее… с Харзой! – участились набеги на наши… на мои земли! Мы выступаем завтра же! Шах я или не шах?!
– Шах, владыка. Фарр-ла-Кабир.
– Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы – не мои подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут… – чуть слышно закончил поэт.
И отвернулся, чтобы маг не видел его слез.
Он и сам плохо верил в собственные слова.
Касыда о бессилии
Я разучился оттачивать бейты. Господи, смилуйся или убей ты! –
чаши допиты и песни допеты. Честно плачу.
Жил, как умел, а иначе не вышло. Знаю, что мелко, гнусаво, чуть слышно,
знаю, что многие громче и выше!.. Не по плечу.
В горы лечу – рассыпаются горы; гордо хочу – а выходит не гордо,
слово «люблю» – словно саблей по горлу. Так не хочу.
Платим минутами, платим монетами, в небе кровавыми платим планетами, –
нет меня, слышите?! Нет меня, нет меня… Втуне кричу.
В глотке клокочет бессильное олово. Холодно.
Молотом звуки расколоты, тихо влачу покаянную голову в дар палачу.
Мчалась душа кобылицей степною, плакала осенью, пела весною, –
где ты теперь?! Так порою ночною гасят свечу.
Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили,
жизнь моя, жизнь – богохульная проповедь! Ныне молчу.
Глава девятая,
в которой праведный гнев обрушивается на головы дерзких хургов, а шайтаны измываются над грешниками; которая вообще сплошь залита кровью и провоняла гарью – но имя пророка (да сохранит его Аллах и приветствует!) так ни разу и не упоминается здесь, хотя и он в свое время…
1
Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на копья-вертелы, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени…
Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо плодов – отрезанные головы.
Чуть поодаль, на вершине сопки, стоял сам Иблис-Противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огнь своей гордыни сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам – и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком не отражалось ничего.
Вы считаете, рок безнадежно суров? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участи мяса парного: стать жарким в полыханьи вселенских костров!
Временами, в редкие минуты просветления, Абу-т-Тайибу всерьез казалось: он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья-бесы: ржание, вопли, черные силуэты корчатся на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила – чем не ад? Это длилось уже целую вечность, изо дня в день, почему-то всякий раз – на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день – и подходит к закату чья-то жизнь.
Много жизней.
Изо дня в день.
На закате.
Противоречащий вершит суд неотвратимости.
За что он осудил этих людей? Какая разница?.. Не важно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить – но напрягаться больно, от этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей; и люди умирают.
Воля шаха – закон; будь они все прокляты – и воля, и закон, и шахский кулах!
…Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой: кочевники-хурги вторглись в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали… Конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов – и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абу-т-Тайиб и сам прекрасно знал извечный ход вещей.
Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад, на земли шахства?! – слишком долго, а главное, абсолютно бессмысленно, с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться, немедленно, сейчас, завтра, вчера; и кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство.
Если бы кто-то вслух назвал Абу-т-Тайиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился; но здесь пока не выросло языков, способных на столь вопиющую дерзость.
Он алкал войны. Настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов – и настоящих друзей.
Не цели, но средства.
Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе – а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы-спахбеды успевали получить шахский фирман, народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости; а на всех перекрестках славились мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов.
Давно пора!
От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал от спахбедов невозможного; морщась вдвое сильнее, когда те досконально выполняли любой приказ.
Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты – но Абу-т-Тайиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой. И сделал ставку на конницу. Пяти тысяч отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью, под покровом хранительницы тайн – и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и «волчьи дети» под предводительством рвавшегося в бой Суришара должны были двинуться вдогон утром следующего дня – чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем…
Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней – и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первое из становищ хургов.
Солнце клонилось к закату.
Как сейчас.
Только сейчас это было далеко не первое становище – какое по счету? какое?! не помню! – и везде повторялось одно и то же.
Огонь – и смерть на иззубренных клинках.
Сам шах не принимал личного участия в бойне. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих. Взять человек десять живьем. Проверить: не укрылся ли кто во-он за тем холмом?
Все остальное воины знали сами, знали, нутром чуя волю господина, как свою собственную.
Они пришли сюда не грабить, и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал – им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу. Не тратя драгоценного бальзама времени на удовлетворение зудящей похоти.
Великий Кей-Бахрам не хотел добычи, невольниц и золота – он хотел врагов.
И делал хургов – врагами.
Навсегда.
Впрочем, по приказу шаха дюжине пленных всякий раз оставляли жизнь. Им рвали ноздри, отсекали уши, ставили на лоб их же собственные клейма, которые хурги выжигали на шкуре лошадей – и отпускали. Даже конями снабжали, из захваченного здесь же табуна.
Чтоб быстрее могли добраться до Харзы. Чтоб султан харзийский узнал из первых рук: шах Кабира пришел на эти земли, дабы сделать их своими!
Владыка хургов не согласен со столь мудрым и справедливым решением? – оспорь, светоч фарра!
Изуродованные посланцы уносились вдаль, быстро исчезая в сумерках, падающих на степь сизой стаей кречетов – а бойня продолжалась. Отары овец вырезались подчистую, воины жарили на кострах жирную печень, набивали мясом желудки и хурджины; воины ложились спать под открытым небом, чтобы наутро снова вскочить в седло и мчаться дальше, и снова: крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени…
Ночами Абу-т-Тайибу снилась отрубленная рука Омара Резчика; мертвая пятерня впивалась в горло, и поэт просыпался от собственного крика радости.
2
Становище догорало. Ветер рвал в клочья и отбрасывал прочь последние крики несчастных, лишь где-то все никак не мог прекратиться детский плач. Абу-т-Тайиб поморщился: плач раздражал. Почти сразу до его уха донесся (или это только почудилось?) влажный хруст, словно лошадиное копыто раздавило спелый арбуз; короткий всхлип ветра – и настала тишина.
Мертвая тишина; впору было заподозрить себя в глухоте.
– Примай полон, твое шахское! – Тишь лопнула знакомым басом, и могучий юз-баши вывернулся из дыма. За собой отставной душегуб, намотав на локоть конец веревки, волок с десяток ошалевших от ужаса хургов: узрев венценосного губителя, пленные разом пали ниц.
– С этими – как завсегда? – поинтересовался Худайбег, опираясь на свое знаменитое копьецо, уже снискавшее ему немалую славу среди соратников.
Копье юз-баши, которого Абу-т-Тайиб все чаще звал просто Дэвом, было под стать владельцу: толщиной с лапищу самого Дэва, длиной также раза в полтора больше обычного, оно завершалось огромным кованым жалом – близкой родней как меча, так и топора. Хоть колоть, хоть рубить, хоть буйволов глушить – если, конечно, силенок достанет орудовать сей оглоблей.
У Дэва силенок доставало. Даже с избытком. В бою юз-баши был страшен, особенно когда, всласть окровянив жуткий наконечник, принимался охаживать врагов древком своего «копьеца» – с легкостью ломая хребты и ребра. Глядя на спасенного им разбойника, Абу-т-Тайиб частенько поминал хашемита Али, зятя пророка (хвала ему!) по прозвищу Лев Божий. Согласно свидетельству очевидцев, в битве при Хайбаре с людьми Торы святой силач бился, используя вместо щита сорванные с петель ворота. Вот это под стать Дэву, хоть и грех равнять Божьего Льва с гулящим язычником: ворота вместо щита, таран вместо копья, и – вперед!
Одно слово: Дэв. Силушка бычья, преданный, как собака – и тупой, как древко его же копья!
Тупой? Тогда почему одному лишь Худайбегу пришло в голову напрямик спросить у шаха: «Резать – это правильно, твое шахское, и пожечь остаточки правильно – чтоб ни им, ни нам… Но отчего добришком не поживиться? Вон, и табуны у них, и отары, и еще всяко-разно…»
Дэв никак не мог взять в толк, почему они пренебрегают богатой добычей. Но ведь остальных Абу-т-Тайиб тоже не посвящал в свои сокровенные помыслы! А воины в набеге мало чем отличаются от разбойников. Брать добычу – святой обычай: мечи стрелы и хватай, что цело! Приказ шаха? Да, конечно… Но почему удивился столь странному приказу один Дэв, отнюдь не блиставший умом – а остальные восприняли как должное?
Мифический фарр? Пусть так, пусть никто, кроме простака Дэва, не решился задать вопрос владыке – но ведь хотя бы удивление его приказ должен был вызвать? Должен. Косые взгляды за спиной, шепоток, попытку схоронить в хурджине золотишко или там блестяшку…
Ан нет! Ни-че-го!
Это раздражало Абу-т-Тайиба. Впрочем, в последнее время его раздражало многое; странные мысли и видения роились в мозгу, странные слова срывались с языка – и он гнал свой отряд от резни к резне, недоумевая: ну когда же харзийский султан не выдержит столь откровенного издевательства, когда же он двинет к границе свои полки?
Когда?!
– …вишь, задумался… Эй, твое шахское! С пленными – как завсегда?
– Валяй, Дэв, – кивнул Абу-т-Тайиб, барахтаясь в пучине видений и обрывков мыслей.
– Не нада завсегда! – вдруг приподнялся с земли один из пленников – толстый старик в халате из полосатого карбоса. Ветер трепал космы длиннющей седой бороды – точь-в-точь как у сказочных волшебников. Жаль, летающего кувшина в придачу к бороде у старого хурга не имелось. – Завсегда не нада! Моя выкуп дадут! Сто коней-хингов, вай! Два-сто коней-хингов, вай! Мой убивай нельзя!
– Встань, – бесцветно бросил поэт.
Старик с проворством безусого юнца вскочил на ноги.
– Говоришь, твоя нельзя убивай?
– Нельзя, моя солнце…
Деловито свистнул ятаган. Голова невезучего волшебника стукнулась оземь и покатилась вниз с сопки: страшный мяч для страшной игры-човгана. Пленники вжались в прах земной – брызги кровавого фонтана окатили их, жгучие брызги, предвестники грядущей участи, когда впору будет позавидовать убитым. Тело старика еще некоторое время продолжало стоять, словно недоумевая – что это за напасть такая, вай?! – а затем мягко повалилось ничком перед венценосным убийцей.
Дэв расхохотался и пнул труп сапогом: тот перевернулся на спину, дрогнул на крутизне – и сполз вниз следом за головой, должно быть надеясь догнать недостающую часть.
– Сто коней-хингов одним ударом уложил, твое шахское, – с уважением буркнул юз-баши, провожая взглядом труп.
– Я дал ему легкую смерть, – холодно прозвучало в ответ, и пленные разом возмечтали стать муравьями, а еще лучше – пылинками в солнечном луче. – И знаешь, за что, мой глупый богатырь? Этот старик посмел судить о том, что можно и чего нельзя делать шаху. Заслужив тем самым честный конец. С остальными – как обычно. Резать уши, ноздри рвать – и в Харзу к султану гнать. Что же касается коней… коней я возьму сам! Сам! Если они мне понадобятся…
Голубые глаза отрубленной головы тупо пялились в небо; но сопка закрывала небосвод мрачной тушей – и в прядях бороды уже копошились насекомые.
3
Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины – но это никому не портило аппетита. С другой стороны, и то и другое – попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое – смрадом.
За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи.
Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая засаленные пальцы об одежду, и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды – укусы песчаной эфы, за которой и глазом-то не уследишь!
Он видел одно и то же: искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неутомим, к врагам – беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой! На такого шаха просто молиться надо!
Его воины, похоже, так и делали – только молча, про себя.
Преданные соратники? Или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригрезившегося им фарра – и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем?
Кто они на самом деле?
Кто он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?
Ответа не было, в висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках.
Раздавалась во мраке судьбы похвальба: «Ради шутки на трон вознесла я раба, а в придачу к венцу наградила проказой!» – и смеются над шуткой скелеты в гробах…
* * *
Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, в глубь харзийских земель. И казалось: нет такой силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших дол на фарсанги вокруг.
Хурги спешили увести племенной табун подальше – но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву, без малого две тысячи всадников Абу-т-Тайиба, и расстояние между сверкающим кабирским серпом и гнедой рекой быстро сокращалось.
Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу – и пастухи слишком поздно поняли: с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу – но поди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из-за сопок кабирцев!
Они не успевали. Если бы всадники Абу-т-Тайиба шли за ними вдогон – у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались вперехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось.
С десяток наиболее сообразительных поспешно ринулись прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят – сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна.
Невозможное свершилось.
Река встала.
– Что ты там, мой Дэв могучий, о добыче говорил? – огласил степь буйный хиджазский напев. – Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир! Пой, наш стан, в стенах Арвана! Жди пришествия султана – подоткнув полу кафтана, нас Харзиец возлюбил! Хаййя!..
Отряд, гоня перед собой захваченную добычу, двигался быстро. Но без суеты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях: при ловле блох и в постели чужой жены – да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна.
Если, конечно, муж не вернулся.
До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдевшая степь с язвами пепелищ; позади осталась дюжина налетов – и дюжина дюжин обезображенных хургов, отправленных гонцами к султану.
Впереди ждала война.
Абу-т-Тайиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет приникнуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара!
Поэт мерно покачивался в седле, пушистое разнотравье споро бежало навстречу – но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось: он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому – Кабир.
Кабирское шахство.
А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжимался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплющит его в лепешку – но гибель все медлила. Абу-т-Тайиб киселем растекался по всей этой земле, он был всем: камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями – он был живущими здесь людьми, всеми сразу!
Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина: он вместе с фумэнскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался случайно, проездом, рассматривает только что выловленного спрута.
Фумэн? Муала? Где это? Что это?!
И тут же он сам ощутил себя спрутом – огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей, спрут по имени Кабир, и одно из его щупалец с жадными присосками устремилось сейчас дальше… на территорию Харзы! Многорукий гигант с шахским кулахом на голове таращил круглые глаза; и все тянул, тянул щупальце дальше – он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то ухватить – но это у него не получалось, добыча выскальзывала, несмотря на присоски…
Потом была темнота.
– …твое шахское, что с тобой?
Лицо. Озабоченное, встревоженное…
Дэв.
– Я не могу взять… не дается… – словно в бреду, бормочут белые губы.
– Эй, кошму сюда! И воды, воды, олухи!
Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка – и Абу-т-Тайиб легко вскакивает на ноги. Его чуть ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие.
Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна, лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом…
– Со мной все в порядке. Ужин. Потом выставить караулы – и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости.
Этот череп – тюрьма для бродяги-ума. Из углов насмехается пыльная тьма: «Глянь в окно, неудачник, возьмись за решетку! – не тебе суждена бытия кутерьма!..»