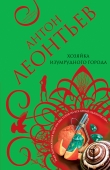Текст книги "Женский портрет"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
4
Миссис Ладлоу была старшей и, по единодушному мнению, самой рассудительной из сестер Арчер: считалось, что Лилиан отличается практическим умом, Эдит – красотой, а Изабелла – «духовностью». Миссис Кейс, вторая по счету, была женой саперного офицера, и, поскольку наш рассказ пойдет не о ней, достаточно будет упомянуть, что красавицей она слыла по праву и украшала собою многие гарнизоны, преимущественно в глухих городках на Западе, куда, к ее великому огорчению, неизменно назначали ее супруга. Лилиан вышла замуж за нью-йоркского стряпчего, молодого человека с зычным голосом и горячей любовью к юриспруденции. Партия эта, как и брак Эдит, не считалась блестящей, но Лилиан, о чем нередко шептались за ее спиной, и такому супружеству могла быть рада – из трех сестер она одна была нехороша собой. Впрочем, она чувствовала себя вполне счастливой и теперь, благославляя судьбу за эту удачу, наслаждалась ролью матери двух сорванцов и хозяйки клиновидного особнячка из дешевого бурого известняка, с трудом втиснутого в ряд домов на 53-й улице. Маленькая, коренастая, она отнюдь не притязала на стройность, некоторая осанистость у нее, впрочем, была, но величавости – никакой. Правда, многие утверждали, что замужество пошло ей весьма на пользу. Сама она более всего гордилась двумя вещами – полемическим талантом мужа и оригинальностью младшей сестры.
– Где мне угнаться за Изабеллой, – частенько говаривала она. – У меня бы никакого времени на это не хватило.
Вместе с тем она с легкой завистью следила за сестрой, наблюдая за каждым ее шагом, как следит обремененная потомством такса за ничем не связанной борзой.
– Я хочу видеть ее замужем за хорошим человеком. Вот все, чего я хочу, – не раз повторяла она мистеру Ладлоу.
– Признаться, не стал бы я добиваться чести быть ее мужем, – неизменно отвечал ей на это мистер Ладлоу чрезвычайно громко и четко.
– Конечно, тебе бы только спорить. Ты всегда говоришь наперекор. И чем только она тебе не угодила? Единственно тем, что так оригинальна.
– Ну а я не охотник до оригиналов, я люблю переводы, – обычно парировал мистер Ладлоу. – Твоя сестрица – книга на иностранном языке. Она мне непонятна. Ей бы в пору выйти замуж за армянина или португальца.
– Этого-то я и боюсь! – восклицала Лилиан, которая считала Изабеллу способной на все.
Миссис Ладлоу с большим интересом выслушала известие о прибытии миссис Тачит и стала готовиться предстать пред ее очи. До нас не дошло точных сведений о том, что сообщила сестре Изабелла, но, несомненно, ее рассказ подсказал тему беседы, которая завязалась между супругами Ладлоу, когда они в тот же вечер одевались к предстоящему визиту.
– Я так надеюсь, что она сделает для Изабеллы что-нибудь существенное. Она явно очень расположилась к сестре.
– Чего ты ждешь от нее? – спросил Эдмунд Ладлоу. – Дорогих подарков?
– Вовсе нет. Ничего похожего. Я хочу, чтобы она обратила на Изабеллу внимание, полюбила ее. Кому как не ей оценить Изабеллу. Она полжизни провела среди иностранцев – она уже много успела рассказать об этом Изабелле. А ведь ты и сам говорил – наша Изабелла почти иностранка.
– Значит, ты хочешь, чтобы тетка одарила твою сестрицу любовью на иностранный лад. Разве здесь ей не хватает любви?
– Но ей непременно надо съездить в Европу, – сказала миссис Ладлоу. – Кому как не ей.
– И хочешь, чтобы тетка взяла ее с собой?
– Это она ей уже предложила – просто не чает увезти Изабеллу. Но я жду от нее большего – чтобы там, в Европе, она открыла перед Изабеллой все возможности. Нашей Изабелле, – сказала миссис Ладлоу, – надо только предоставить возможности.
– Возможности для чего?
– Чтобы совершенствоваться.
– Силы небесные! – воскликнул Эдмунд Ладлоу. – Куда ей еще совершенствоваться.
– Ну, конечно, – тебе лишь бы затеять спор. А ведь я могу и обидеться, – отвечала ему жена. – Только ты и сам знаешь, что любишь ее.
– А ты знаешь, что я люблю тебя? – спросил шутливо мистер Ладлоу Изабеллу час спустя, водя щеткой по шляпе.
– Вот уж что мне решительно все равно, – отвечала Изабелла, смягчая улыбкой и тоном заносчивость слов.
– Ох, как мы заважничали, познакомившись с миссис Тачит, – вступила в разговор старшая сестра.
Но Изабелла с полной серьезностью отвергла сие утверждение.
– Неправда, Лили. Ничуть я не заважничала.
– Да на здоровье. Что тут дурного? – примирительно сказала Лили.
– А почему нужно важничать, познакомившись с миссис Тачит?
– Та-та-та! – воскликнул Ладлоу. – Заважничала! Заважничала! Еще больше, чем всегда!
– Если я когда и заважничаю, – отвечала Изабелла, – то по более нажной причине.
Каковы бы ни были ее чувства, однако она чувствовала себя иначе, чем всегда, словно с ней действительно что-то произошло. Вечером, оставшись одна, она сначала посидела возле лампы, сложа руки, забыв о привычных своих занятиях. Затем встала, прошлась по комнате, прошла из комнаты в комнату, держась ближе к стене, куда не достигал свет лампы. На душе у нее было смутно, тревожно, ее чуть-чуть лихорадило. То, что произошло, было намного важнее, чем могло бы показаться на первый взгляд, – ее жизнь круто менялась. Что сулила ей эта перемена, оставалось пока неизвестным, но в ее положении любой поворот судьбы был желанным. Ей хотелось – так говорила себе Изабелла – подвести черту под своей прошедшей жизнью и начать сызнова. Она давно вынашивала эту мечту, сжилась с ней, как с шумом стучавшего по ставням дождя, и не раз уже делала попытку начать сызнова.
Укрывшись в полумраке тихой гостиной, Изабелла опустилась в кресло и закрыла глаза, но не для того, чтобы забыться в дреме. Напротив, сна не было ни в одном глазу; она старалась сосредоточить свое внутреннее зрение на чем-нибудь одном. Ее воображение всегда было до чрезвычайности стремительно, и если пред ним захлопывали дверь, оно устремлялось в окно. Изабелла не умела ставить ему преграды и в критические минуты, когда лучше было бы положиться всецело на разум, расплачивалась за поблажки этой своей склонности видеть, накапливать не просеянные рассудком впечатления. Теперь, когда она знала, что стоит на пороге больших перемен, картины той жизни, которую она покидала, обступили ее со всех сторон. Часы и дни прошедшей поры вернулись к ней вновь и в тишине гостиной, нарушаемой лишь тиканьем больших бронзовых часов, проносились перед ней длинной чередой. Жизнь ее сложилась хорошо, а сама она была счастливицей – такой вывод напрашивался сам собой. Она получала все самое лучшее, а в мире, где столько людей ведут незавидное существование, быть избавленной от всего тягостного – немалое преимущество. Изабелла даже считала, что ее опыту, пожалуй, недостает тягостных впечатлений, которые, как она знала из книг, могут быть иной раз не только содержательны, но и поучительны. Отец всегда оберегал ее от невзгод – ее обожаемый красавец отец, который и сам питал отвращение ко всему неприятному. Быть дочерью такого отца казалось Изабелле великим счастьем; она искренне гордилась своим родителем. Лишь после его смерти она наконец поняла, что дочерям он открывался своей праздничной стороной, на деле же, а не в мечтах ему отнюдь не всегда удавалось избегать столкновений с уродствами жизни. Однако это открытие только удвоило ее нежность к нему: ее вовсе не угнетала мысль, что он был слишком великодушен, слишком добр, слишком безразличен к низменным расчетам. Правда, многие полагали, что в этом безразличии он заходил чересчур далеко, особенно те – а таковых нашлось немало, – кому он не платил долгов. Они не делились с Изабеллой своим мнением об ее отце, но читателю, возможно, небезынтересно будет узнать, что они думали о нем: по их мнению, у покойного мистера Арчера была отличная голова и талант занимать друзей (или, как сказал один острослов, занимать у друзей), но за всем тем жизнью своей он распорядился крайне неразумно. Он пустил на ветер изрядное состояние, отличался, увы, излишним пристрастием к веселому застолью и, что греха таить, к картам. Некоторые не в меру злые языки даже обвиняли его в том, что он пренебрег воспитанием собственных дочерей. Девочки не получили систематического образования, и у них никогда не было настоящего дома; их баловали, но толком ничему не учили. Они росли под присмотром служанок и гувернанток (обычно никуда не годных); иногда их отдавали в какую-нибудь второсортную французскую школу, откуда в конце первого же месяца они в слезах возвращались домой. Дойди эти пересуды до Изабеллы, они вызвали бы крайнее ее возмущение: в ее представлении отец открывал им блестящие возможности. Даже в том, что он на три месяца оставил ее с сестрами в Нев-шатале на попечении бонны-француженки, а та вскоре сбежала с каким-то русским аристократом, проживавшим в том же отеле, – даже в пору этой столь неблаговидной истории (случившейся, когда Изабелле минуло одиннадцать лет) она не почувствовала ни страха, ни стыда, напротив, сочла этот эпизод весьма романтическим и вполне отвечающим духу свободного воспитания. Отец был человеком широких взглядов, а его непоседливость и даже непоследовательность в поступках лишь служили тому доказательством. Он полагал, что его девочкам с самого раннего возраста необходимо как можно больше повидать свет, а потому, еще до того как Изабелле исполнилось четырнадцать лет, отец уже трижды возил ее с сестрами за океан – правда, всякий раз давая им насладиться зрелищем обещанной Европы всего каких-нибудь несколько месяцев, так что эти путешествия только разжигали в Изабелле аппетит, не давая возможности утолить его. Она не могла не защищать своего отца, ибо принадлежала к его трио, «искупавшему» те досадные стороны жизни, о которых он так не любил говорить. В последние годы его готовность уйти из этого мира, где с приближением старости он уже не мог с привычной легкостью следовать своим прихотям, сильно поуменыпилась под влиянием горестной мысли о разлуке с его необыкновенной, с его замечательной дочерью. Позднее, когда поездки в Европу прекратились, мистер Арчер все равно умел наполнить жизнь своих дочерей всевозможными радостями; если самого его и тревожило состояние его финансовых дел, девушки искренне считали, что владеют очень многим. Изабелла превосходно танцевала, хотя, помнилось ей, не пользовалась особенным успехом на балах в Нью-Йорке; ее сестра Эдит – таково было единодушное мнение – завоевала там куда больше сердец. На долю Эдит выпал такой разительный успех, что у Изабеллы тотчас открылись глаза и на то, в чем за^ ключался секрет неотразимости сестры, и на то, чего ей самой недоставало: ее умение резвиться, скакать и вскрикивать – притом с должным эффектом – было весьма ограничено. Девятнадцать человек из двадцати (включая и самое Изабеллу) полагали Эдит намного привлекательнее младшей сестры, зато двадцатый не только не соглашался с подобным приговором, но, более того, дерзал обвинять других в вульгарности вкуса. В тайниках души наша юная леди даже больше Эдит жаждала успеха, но тайники эти были так глубоко запрятаны, что сообщение между ними и внешним миром было весьма затруднительным. Изабелла встречалась с множеством молодых людей, осаждавших Эдит, но они по большей части сторонились ее, полагая, что разговор с ней требует серьезной подготовки. Слава «читающей девицы» сопутствовала ей, как облако Гомеровой богине, и создавало вокруг нее завесу; считалось, что такая репутация обязывает собеседника касаться сложных вопросов и держаться в строгих рамках. Бедняжке нравилось слыть умной, но вовсе не хотелось прослыть книжным червем; она стала читать тайком и, обладая превосходной памятью, не позволяла себе блистать цитатами. Ею владела неутолимая жажда знаний, но утолять ее она предпочитала не с помощью книг, а из любых других источников. Ею владел огромный интерес к жизни, и она не переставала зорко всматриваться в нее и размышлять. В ней самой таился великий запас жизненных сил; для нее не было большего наслаждения, чем чувствовать неразрывную связь между движениями собственной души и бурными событиями окружающего мира. Поэтому ей нравились людские толпы и бескрайние просторы, книги о войнах и революциях, картины на исторические сюжеты – картины, которым, сознательно идя на этот грех, прощала плохую живопись ради их содержания. Во время войны Юга и Севера[10]10
…во время войны Юга и Севера… – имеется в виду Гражданская война между промышленными северными штатами и рабовладельческими южными штатами США, длившаяся с 1861 по 1865 г.
[Закрыть] Изабелла была еще девочкой; тем не менее все эти годы она жила в крайнем возбуждении и нередко (к величайшему своему смущению) в равной мере восхищалась доблестью обеих армий. Разумеется, бдительность ее недоверчивых кавалеров никогда не заходила так далеко, чтобы объявить Изабеллу вне закона: у тех, кто приближался к ней, не настолько сильно бились сердца, чтобы они теряли голову, и наша героиня все еще не прикоснулась к тем главным наукам, которые соответствуют ее возрасту и полу. У нее было все, что только могла пожелать молодая девушка: родительская ласка, восхищение, конфеты, букеты, сознание неотъемлемого права пользоваться всеми привилегиями своего круга, неограниченные возможности танцевать на балах, ворох модных платьев, лондонский «Спектейтор»,[11]11
Лондонский «Спектейтор» – общественно-литературный еженедельник, выходивший в Лондоне с 1826 г. и имевший распространение в США; публиковал наряду с текущими общественными и политическими новостями рецензии на новые художественные произведения и книги по различным отраслям знаний.
[Закрыть] книжные новинки, музыка Гуно,[12]12
Гуно, Шарль Франсуа (1818–1893) – французский композитор; его оперы «Фауст» (1859), «Ромео и Джульетта» (1865) и другие, а также кантаты и музыка к спектаклям пользовались большой известностью.
[Закрыть] стихи Браунинга[13]13
Браунинг Роберт (1812–1889) – английский поэт. Стихи Браунинга отличаются психологической и философской глубиной; написанные сложным языком, они считались трудными для восприятия.
[Закрыть] и романы Джордж Элиот.[14]14
Элиот Джордж (псевдоним Мэри Энн Эванс, 1819–1880) – английская писательница. Романы Джордж Элиот отличались серьезной социально-философской проблематикой.
[Закрыть]
Все это, оживленное игрою памяти, мелькало перед нею пестрой смесью сцен и лиц. Многое, уже забытое, воскресало вновь, другое, еще не так давно казавшееся особенно значительным, стерлось и исчезло. Она словно смотрела калейдоскоп и только тогда остановила его движение, когда вошла горничная и доложила, что ее желает видеть некий джентльмен. Этим джентльменом был Каспар Гудвуд, прямодушный молодой бостонец, который познакомился с мисс Арчер год назад и считал ее красивейшей девушкой своего времени; согласно правилу, упомянутому нами выше, он бранил это время за крайнюю глупость. Каспар Гудвуд нет-нет да писал Изабелле, и недели две назад прислал из Нью-Йорка письмо. Изабелла предполагала, что он вполне может появиться перед ней, и в этот пасмурный день, не отдавая себе в том отчета, ждала его. Однако, услышав, что он уже здесь, не обнаружила большого желания его видеть. Каспар Гудвуд был самым достойным из всех ее поклонников, он был превосходнейший молодой человек и внушал ей чувство глубокого, необычайного уважения. Никто из ее знакомых не вызывал в ней подобного чувства. Толковали, что он хочет жениться на Изабелле, но об этом, разумеется, лучше было знать им двоим. Доподлинно же было известно только то, что, приехав на несколько дней в Нью-Йорк в надежде застать там мисс Арчер и узнав, что она все еще в Олбани, он отправился туда с единственной целью повидать ее. Изабелла не поспешила ему навстречу; еще несколько минут она ходила по комнате в предчувствии новых сложностей. Когда наконец она вышла в гостиную, Каспар Гудвуд стоял возле лампы. Высокого роста, крепкого сложения, он держался слишком прямо, был сухощав и смугл лицом. Природа наделила его не столько романтической, сколько неприметной красотой, но что-то в его физиономии остановило бы ваше внимание, и, если вас привлекают голубые глаза с особенно пристальным взглядом – глаза словно с другого, более светлокожего лица – и почти квадратный подбородок, который, как принято считать, говорит о решительном характере, это внимание было бы вознаграждено. Изабелла отметила про себя, что и на сей раз подбородок его говорит о принятом решении, однако полчаса спустя Каспар Гудвуд, явившийся к ней действительно полный надежд и решимости, вернулся к себе с горьким чувством человека, потерпевшего поражение. Остается добавить, что он не принадлежал к числу тех, кто легко мирится с поражением.
5
Ральф Тачит относился ко всему на свете философски; однако он не без волнения постучал (без четверти семь) в комнату матери. Даже у философов бывают свои пристрастия, и, не будем скрывать, из двух людей, которым он был обязан жизнью, сладость чувства сыновней привязанности даровал ему отец. Отец – как нередко отмечал про себя Ральф – питал к нему скорее материнские, а мать – напротив, отеческие чувства или даже, выражаясь нынешним языком, начальнические. Вместе с тем она была вполне расположена к своему единственному чаду и неизменно настаивала на том, чтобы сын проводил с нею три месяца в году. Ральф отдавал должное ее материнской нежности, не закрывая, однако, глаза на то, что в ее безупречно налаженном и обслуженном доме он занимал второстепенное место – после ее присных, на которых лежала обязанность неукоснительно и в мельчайших подробностях исполнять ее волю. Когда он вошел, миссис Тачит уже оделась к обеду, тем не менее обняла сына затянутой в перчатку рукой и, усадив возле себя на софу, принялась расспрашивать о здоровье мужа и его собственном. Получив не слишком утешительный ответ, она сказала, что лишний раз убедилась в мудрости своего решения не подвергать себя превратностям английской погоды. В этом ужасном климате она, пожалуй, и сама бы сдала. Ральф улыбнулся при мысли, что его мать может в чем-либо или кому-либо сдаться, и счел излишним напоминать ей о том, что климат Англии вряд-ли повинен в его недуге, поскольку большую часть года он проводил вне ее пределов.
Ральф был еще ребенком, когда его отец, Дэниел Трэси Тачит, уроженец города Ранленда в штате Вермонт, прибыл в Англию в качестве одного из компаньонов того самого банка, который он возглавил десять лет спустя. Дэниел Тачит понимал, что в новом отечестве ему предстоит прожить долгие годы и отнесся к этому обстоятельству просто, здраво и с готовностью к нему приноровиться. Однако он решил ни в коем случае не вытравливать в себе американца и не обнаружил желания обучать сему тонкому искусству своего единственного сына. Он не видел ничего мудреного в том, чтобы жить в Англии, применяясь, но не переменяясь, и считал само собой разумеющимся, что после его смерти Ральф поведет дела в старом угрюмом здании банка все на тот же новый американский лад. Он приложил усилия, чтобы настроить мальчика на этот лад, отправив его учиться на родину. Ральф пробыл в Америке несколько лет, закончив там сначала школу, а затем университет; когда он вернулся, отец решил, что от него даже слишком отдает американцем, и поместил на три года в Оксфорд. Гарвард был поглощен Оксфордом,[15]15
Гарвард – старейший американский университет, основанный Джоном Гарвардом (1607–1638) в 1636 г. Оксфорд – один из старейших английских университетов, основанный в 1167 г.
[Закрыть] и Ральф наконец стал достаточно англичанином. Внешне он как нельзя лучше вошел в окружающую его среду, однако это было лишь маской, под которой скрывался независимый ум, легко отбрасывавший чужие влияния и по природе своей склонный дерзать, иронизировать и предаваться безграничной свободе суждений. Ральф подавал немалые надежды; в Оксфорде, к несказанному удовольствию отца, он шел среди первых, и все вокруг не переставали сожалеть, что перед таким талантливым юношей закрыта политическая карьера.[16]16
…закрыта политическая карьера… – имеется в виду, что, как гражданин США, Ральф Тачит не мог баллотироваться в английскую палату общин.
[Закрыть] Он мог бы ее сделать, возвратившись на родину (хотя трудно сказать, как сложилась бы там его судьба), но, даже если бы мистер Тачит согласился расстаться с сыном (чего он вовсе не хотел), Ральф и сам не пошел бы на то, чтобы между ним и отцом, которого он считал лучшим своим другом, всегда лежала бы водная пустыня. Ральф не только любил отца, он восторгался им и почитал за счастье быть свидетелем его успехов. Он считал Дэниела Тачита человеком гениальным и, хотя не питал ни малейшего интереса к тайнам банковского дела, изучил его единственно для того, чтобы иметь возможность оценить, до каких вершин поднялся в нем его отец. Но более всего он восхищался в старом джентльмене его умением хоронитьея в тончайшую, словно отшлифованную воздухом Англии, слоновой кости броню, которая при любых обстоятельствах оставалась непроницаемой. Дэниел Тачит не кончал ни Оксфорда, ни Гарварда; ему некого было винить, кроме самого себя, что в руках его сына оказался ключ к современному скептицизму. Однако Ральф, в чьей голове роились сотни мыслей, о которых понятия не имел его отец, бесконечно уважал его за самобытный ум. Американцы, по праву или нет, славятся легкостью, с какой они приноравливаются к жизни в чужой стране; но мистер Тачит не шел в своей гибкости дальше определенных пределов, чем отчасти и создал почву для своего успеха. Он сохранил в первозданной свежести большинство свойственных ему изначально черт и, к неизменному удовольствию сына, говорил по-английски в образном стиле, характерном для склонных к красноречию районов Новой Англии.[17]17
Новая Англия – шесть северо-восточных штатов США: Мэн, Вермонт, Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. Культурным центром Новой Англии на протяжении первой половины XIX в. был Бостон. Поселенцы района Новой Англии сохранили в языке традиции шекспировского периода с его свободным словообразованием, большим числом заимствований и отсутствием пуризма. Американский английский язык подвергался насмешкам со стороны английских пуристов.
[Закрыть] К концу жизни он не переменился, но обрел мягкость, равную разве его богатству; он сочетал совершенное знание людей с умением держаться со всеми как ровня, и его «общественная репутация», ради которой он не шевельнул и пальцем, была без единого изъяна, как налившийся соком нетронутый плод. То ли из-за недостатка воображения, то ли из-за отсутствия так называемого «чувства истории», многие особенности английского образа жизни, обычно поражающие образованных иностранцев, остались для него за семью печатями. Некоторых различий он так и не заметил, некоторых обычаев так и не усвоил, в некоторых темных сторонах так и не стал копаться. Впрочем, что касается последних, он много утратил бы в мнении сына, если бы стал в них копаться.
По выходе из Оксфорда Ральф на несколько лет отправился путешествовать, а затем ему пришлось взгромоздиться на высокий табурет в банке отца. Важность и значительность подобного поста определяются, надо полагать, не высотой табурета, а иными соображениями; поэтому Ральф, на редкость длинноногий, с удовольствием стоял и даже прохаживался в часы работы. Однако ему не суждено было посвятить этому занятию долгие годы: восемнадцать месяцев спустя он серьезно занемог: сильная простуда, которую он схватил, поразила легкие и привела их в плачевное состояние. Пришлось оставить банк и, подчинившись печальной необходимости, в буквальном смысле заняться собой. Вначале Ральф отнесся к этой задаче спустя рукава – ему казалось, что занимается он отнюдь не собой, а какой-то никому не интересной и ничем не интересующейся личностью, с которой у него, Ральфа, решительно нет ничего общего. Однако, сойдясь с незнакомцем поближе, он смягчился к нему и кончил тем, что научился скрепя сердце терпеть его и даже до некоторой степени уважать. Кого только не роднит несчастье! Ральф, понимая, как много поставлено на карту, и сам поражаясь своему благоразумию, стал исполнять свои безрадостные обязанности с достаточным вниманием. Усилия его не остались втуне и были вознаграждены: бедняга по крайней мере остался жив. Правое легкое начало заживать, левое обещало последовать его примеру, и, по уверению врачей, проводя зимы в теплых странах, куда стекаются страдающие грудной болезнью, он мог рассчитывать еще на десяток и более лет. И хотя Ральф нежно полюбил Лондон и клял судьбу, обрекшую его на изгнание, но сколько бы он ее ни клял, другого выхода у него не было, поэтому, мало-помалу убедившись, что его больные легкие благодарны даже за скудные милости, он стал на них не в пример щедрей. Зимовал, как говорится, в теплых краях, грелся на солнце, в ветреную погоду не покидал дома, в дождливую – постель, и несколько раз, когда ночью выпадал снег, чуть было не уснул в ней навеки.
Он призвал себе на выручку безразличие, и этот скрытый ресурс – словно большой кусок сладкого пирога, украдкой сунутого в детский ранец доброй старушкой няней, – помогал ему мириться с утратами; ведь при всем том он был серьезно болен, и сил хватало лишь на то, чтобы вести свою нелегкую игру. Он говорил себе, что в мире нет дел, которые привлекали бы его всерьез, и поприща славы ему, во всяком случае, не пришлось отринуть. Но теперь на него снова нет-нет да веяло ароматом запретного плода, напоминая, что подлинная радость дана нам только в кипучей деятельности. Жизнь, которую он вел, походила на чтение хорошей книги в плохом переводе – жалкое занятие для человека, понимавшего, что в нем пропадает блестящий лингвист. У него бывали хорошие зимы и плохие зимы, и когда болезнь отпускала его, он даже тешил себя надеждой на полное выздоровление. Но за три года до событий, с которых мы начали наше повествование, надежда эта окончательно рухнула: он задержался в Англии дольше обычного, и холода настигли его прежде, чем он укрылся в Алжире. Он прибыл туда еле живой и несколько недель находился между жизнью и смертью. Он чудом поднялся на ноги, но при первых же шагах понял, что второму чуду не бывать. Он сказал себе, что час его близок и нужно жить, помня о нем, но по крайней мере в его власти провести остаток дней с наибольшей – насколько это удастся в таком положении – приятностью. В ожидании близкого конца возможность просто пользоваться способностями, которыми наградила его природа, стала для него величайшим наслаждением; ему даже казалось, что он первый открыл радость созерцания. Время, когда ему горько было расставаться с мечтой о славе – мечтой навязчивой при всей ее неясности, мечтой обольстительной, несмотря на постоянную борьбу с весьма здравыми вспышками критического отношения к себе, – осталось далеко позади. Друзья нашли, что он повеселел, и, приписывая эту перемену уверенности в скором выздоровлении, многозначительно качали головами. На самом деле безмятежность его была лишь диким цветком, пробившимся среди развалин.
Запретный плод, как известно, сладок, и, надо думать, именно это обстоятельство послужило причиной того, что появление молодой леди, явно не относившейся к разряду скучных, вызвало в Ральфе внезапный интерес. Что-то говорило ему: если распорядиться собою с умом, здесь его ждет занятие на много дней вперед. Добавим мимоходом, что возможность любви – т. е. любить, а не быть любимым – все еще значилась в его урезанной жизненной программе. Он только запретил себе бурное проявление чувств. К тому же, было мало вероятно, чтобы он мог внушить кузине пламенную страсть, да и она вряд ли смогла бы, даже если бы попыталась, возбудить в нем подобное чувство.
– А теперь расскажите мне о нашей гостье, – сказал он, обращаясь к матери. – Что собственно вы намерены с ней делать?
Миссис Тачит не замедлила с ответом.
– Я намерена просить твоего отца пригласить ее провести несколько недель в Гарденкорте.
– К чему такие церемонии, – заметил Ральф. – Отец и без того ее пригласит.
– Не знаю, не знаю. Она – моя племянница, а не его.
– Однако, матушка, вы стали изрядной собственницей! Тем больше у отца оснований ее пригласить. Ну, а потом? После этих нескольких месяцев – невозможно ведь приглашать такую милую девушку всего на несколько жалких недель? Что вы намерены с ней делать потом?
– Взять с собой в Париж и заняться ее туалетами.
– Разумеется. Ну, а кроме туалетов?
– Пригласить на осень к себе во Флоренцию.
– Это все частности, дорогая мама, – сказал Ральф. – Я спрашиваю, что вообще вы намерены делать с ней.
– Исполнить свой долг! – провозгласила миссис Тачит. – Ты, надо думать, очень ее жалеешь.
– Вовсе нет. Она не произвела на меня впечатления особы, которую нужно жалеть. Скорее я ей завидую. Впрочем, чтобы мне решить этот вопрос, объясните хотя бы в общих чертах, в чем вы видите свой долг.
– В том, чтобы показать ей четыре европейских страны – две из них пусть сама выберет – и дать возможность в совершенстве выучить французский. Она уже и так его неплохо знает.
– Звучит суховато, – слегка нахмурился Ральф. – Даже при том, если две страны она выберет сама.
– Суховато? – сказала миссис Тачит, смеясь. – Предоставим Изабелле сбрызнуть наше путешествие живою водой. Ее присутствие освежает, как летний дождь.
– Вы считаете ее одаренным существом?
– Не знаю, одаренное ли она существо, но девица она умная, с характером и пылким нравом. Она понятия не имеет, что такое скука.
– Охотно верю, – сказал Ральф и вдруг добавил: – А как вы ладите между собой?
– Не хочешь ли ты сказать, что со мной скучно? Она так не считает. Другие девушки – возможно, но не она – она слишком умна для этого. По-моему, ей очень занятно со мной. И мы превосходно ладим, потому что я ее понимаю; я знаю девушек этой породы. Она во всем прямодушна – я тоже. Мы обе знаем, чего нам друг от друга ждать.
– Милая мама! – воскликнул Ральф. – Кто же не знает, чего ждать от вас. Меня вы ни разу не удивили. Разве что сегодня, подарив мне хорошенькую кузину, о существовании которой я даже не подозревал.
– Ты и в самом деле считаешь ее хорошенькой?
– Прехорошенькой. Впрочем, это не главная ее прелесть. В ней есть что-то необычное, что-то свое – вот это-то меня и поразило. Кто эта своеобразная девушка? Что она такое? Где вы нашли ее? Как познакомились?
– Я нашла ее в старом доме в Олбани. Шел дождь, и она сидела в мрачной зале с толстенной книгой в руках и умирала от скуки. Правда, она не понимала, что скучает, но, когда я уходила, она, по-моему, была весьма благодарна мне за то, что я открыла ей на это глаза. Ты скажешь, незачем было это делать – незачем было вмешиваться в ее жизнь. Возможно, ты и прав, но я сделала это намеренно: мне показалось, она предназначена для лучшей доли. И я подумала, что сослужу ей добрую службу, если возьму с собой и покажу белый свет. Она считает себя весьма осведомленной особой – как и многие девицы в Америке. Однако, как и многие девицы в Америке, она глубоко заблуждается. Кроме того, если хочешь знать, я подумала, что с ней не стыдно показаться на люди. Приятно, когда о тебе существует хорошее мнение, а в моем возрасте ничто так не красит женщину, как хорошенькая племянница. Ты знаешь, я много лет не встречалась с дочерьми моей сестры: у них был отвратительный отец. Но я всегда намеревалась что-нибудь для них сделать, как только он переселится туда, где всем найдется местечко. Я навела о них справки и без предупреждения отправилась к ним сама. И объявила, кто я. Кроме Изабеллы, там еще две сестры, обе замужем; я познакомилась только со старшей и ее мужем – крайне неприятный субъект, к слову сказать. Его жена, по имени Лили, очень обрадовалась, узнав, что я заинтересовалась Изабеллой; она утверждает, будто ее сестре как раз и нужно, чтобы ею заинтересовались. Лили говорила о ней так, точно это непризнанный талант, который нуждается в поощрении и поддержке. Возможно, Изабелла и в самом деле непризнанный талант, только я еще не разобралась, какой. Миссис Ладлоу пришла в восторг, когда я сказала, что возьму ее сестру в Европу. Они все там смотрят на Европу как на прибежище для эмигрантов, для ищущих спасения, как на край, куда можно сбыть излишек населения. Изабелла с радостью откликнулась на мое приглашение, и дело сладилось без хлопот. Правда, некоторые затруднения возникли, когда речь зашла о деньгах – Изабелла, насколько я могу судить, решительно не желает ни у кого одолжаться. Но у нее есть небольшие средства, и она думает, что путешествует на собственный счет. Ральф внимательно выслушал этот пространный отчет, который, однако, только в незначительной мере утолил его любопытство.