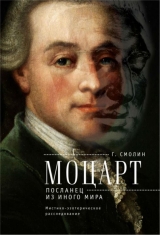
Текст книги "Моцарт. Посланец из иного мира (Мистико-эзотерическое расследование)"
Автор книги: Геннадий Смолин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Noblesse oblige[4]4
Благородное происхождение обязывает (фр.)
[Закрыть]
«Самым непримиримым образом люди ненавидят освободителей духа, самым несправедливым – любят…»
Ф. Ницше
Наконец, с последним presto победа достигнута. Да, дитя родилось на свет; но муки родов были ужасны. То была не триумфальная песнь, но вздох усталости, вздох облегчения, вздох сомнения в ценности победы – любой ценой.
Едва коснувшись моего слуха, музыка захватила меня целиком, проникла в каждую клеточку тела: океан звуков хлынул сквозь меня, смывая на своем пути все преграды, разъедая мою плоть, мою кровь, мои кости, все мои мысли, все чувства. Тело мое – в привычном виде – больше не существовало. Его подхватила энергия, имя которой – Вольфганг, закрутила в бешеном вихре, смяла, разорвала на части и принялась лепить сызнова, придавая ему все новые формы. Так превращается в бабочку гусеница, заточенная в коконе, так море бьется о песчаный берег, меняя его облик. Но те перемены, что творились со мной, были во сто крат сильней. Ибо я и был морем звуков. Волны – нет, огромные валы! – радости, страха, отчаяния подхватывали и швыряли меня. Меня? Но что есть я? Меня не было!
Тем временем моя собственная жизнь шла своим странным чередом.
Раз в неделю, по понедельникам, в восемь двадцать утра я выбирался из своей квартиры, что находилась в Лиховом переулке, садился в метро и отправлялся до станции «Белорусская». Пешком преодолевал расстояние в километр – полтора – шел к своему лечащему врачу. Поликлиника была в старом здании, там шел какой-то вечный ремонт. Смотрелся у врача, который продлевал мне больничный лист и возвращался домой. Мне нельзя было надолго покидать Моцарта.
С каждым новым выходом в мир я тяготился им все больше и больше и всякий раз чувствовал огромное облегчение, когда возвращался к себе в Лихов переулок. Бросал выписанный эскулапом рецепт в ящик стола, а больничный лист водружал на видное место.
Удивительно, но мне хватало на сон всего четырех-пяти часов. И в одежде я не делал особых изысков: носил одно и то же – потертые синие джинсы и такую же куртку. Спал я, часто не раздеваясь, – в кресле у стола или заваливался под плед на диване. Подремав и восстановив силы, я вставал и, загрузившись очередной порцией кофе, принимался за работу.
Постепенно стало теряться ощущение времени. Меня вообще ничто не волновало, кроме моего расследования и какой-нибудь весточки от Веры Лурье.
И вот случилось: я обнаружил в почтовом ящике конверт из Германии, подписанный каллиграфическим почерком, мне уже хорошо известным. Именно этой рукой был выведен перевод писем от профессора Гвидо Адлера композитору Борису Асафьеву.
Разорвав конверт, я стал читать:
«Мне нанесли визит двое отвратительных мужчин в сером. Они знают про Вас и пакет с рукописями, которые я передала. Существуют и другие документы, но они хранятся не у меня. Думаю, что Вас найдут и передадут все до листочка. Настройтесь еще на одну поездку в Вену. Место встречи у храма св. Стефана.
Вам ничего не говорит имя графа Дейм-Мюллера?
Берегите себя, Макс. По моим предчувствиям ваша жизнь в опасности. Постарайтесь не выходить на контакт со мной. Я у них под надзором. Не хочу впутывать вас в новые неприятности. Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы простили меня за то, что я втянула Вас во все эти смутные дела.
Дорогой Макс, да хранит вас Господь. В. Лурье».
Открытка, присланная Верой Лурье, показалась мне тяжелее куска кирпича. Как раз тогда, когда мои мысли стали выкристаллизовываться и оформляться в нечто законченное, и забрезжила реальная надежда расшифровать «моцартову» головоломку, возникли новые препятствия, барьеры, а вязкая, липкая трясина неопределенности снова стала засасывать меня в свою воронку.
Изучая жизнь графа Дейма, я узнал, что он тоже помешался на Моцарте. Я решил как-нибудь при случае расспросить Веру Лурье об этом скульпторе, художнике и неординарном человеке.
Время текло незаметно, как вода в реке. На изучение Моцарта было потрачено полтора месяца, и все только начиналось. Погружаясь в сферы, связанные с жизнью и смертью великого композитора, я с покорным равнодушием замечал, как угасает мой интерес к моей вчерашней жизни. Меня волновало лишь то, что было связано с Моцартом.
Меня уже перестала занимать проблема: почему именно мне, а не кому-нибудь еще, Вера Лурье отдала эту рукопись?
Мысленно я возвращался то к беседе по душам у шефа, то к тому человеку в сером, который прицепился ко мне в Шереметьево-2, или к астматику с его прямыми угрозами в мой адрес на Ваганьковском кладбище. Вопрос – кто эти люди и чего им от меня нужно?
Мне приходилось встречать тайных агентов всех мастей, рядившихся то под спортсменов, то под коллекционеров книг, картин, икон и прочего антиквариата – да под кого угодно! Но эти люди в сером не подходили ни под один из стереотипов, включая даже киношного персонажа американского триллера с комедийным уклоном.
Что там, в депеше от Веры Лурье? Ах, да! Ей нанесли визит «двое в сером», причем не для светской беседы, а судя по письму – по более серьезному делу. С точки зрения дилетантов, все это походило на дурацкий телевизионный «Розыгрыш». Ну, кому понадобилось гоняться за рукописью из прошлого века, касающегося давно умершего композитора? Мне этого было не понять, даже если остроту вопроса разбавить рюмкой водки. Кстати, у протокольной службы есть такая форма официального решения: ответа не будет. Так и в моем случае с Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Во мне боролись два начала: наряду с пламенной страстью к изучению Моцартовой проблемы, я был недоволен баронессой Лурье за то, что она втянула меня в эту историю.
На память пришли воспоминания об особняке графини под Берлином, где я почувствовал и осознал себя настоящим человеком, и где я растаял от счастья.
А что сейчас?
Я, будто сыскарь из частного бюро, ушел с головой в работу, в это детективное расследование, и с одержимостью диссертанта строю подлинную биографию Моцарта. Прошло несколько недель, а квартира моя стало более походить на прибежище бомжей, нежели интеллигентного человека, занимающегося научными исследованиями. Завалы из исписанных бумаг, журналов, книг, неубранного бытового мусора. Куда ни посмотришь – пустые бутылки вперемежку с грязными тарелками, чашками и остатками еды.
Не найдя нужной статьи из медицинского журнала, в которой говорилось о болезни Вольфганга, я пришел в неописуемую ярость. Опрокинул полки с книгами, которые как домино рассыпались на полу. Я еще долго кричал, топал ногами, проклиная всех сразу: Веру Лурье, незнакомцев в серых одеждах и, разумеется, свою персону. Еще такой срыв – и можно записываться к психиатру на прием.
Я почувствовал, что сторонюсь дневного света, и оживаю в сумерках, особенно ночью. Поэтому в яркий солнечный день я старательно драпировал окна, чтобы ни лучика света не проникало с улицы. То ли это была мания преследования, то ли светобоязни. Зато когда на небе царила полная луна, я раздвигал шторы и через щелку тщательно всматривался в свой двор-колодец с коллектором для мусора, стараясь заметить подозрительных субъектов.
Я перешел на иное поведение – строгую конспирацию. Вечерами, ночью или, когда был день, особенно сумрачный, я использовал настольную лампу или ночник над кроватью. Они давали света столько, чтобы разобрать слова на странице листа или книги.
Так я жил-существовал во тьме-забытьи, в которое проваливаешься под тяжестью страшной усталости. И вообще внешний мир потерял для меня свой смысл. Как бы перестал существовать. Я хотел одного: оставаться одному, чтобы ничто и никто не отвлекал меня от моей работы над документами, книгами и рукописью.
Я внушал себе, что терять мне нечего, кроме своих цепей. Тем более, что до России им, голубчикам, не дотянуться – руки коротки. Хотя, что это я? Они наверняка уже обложили меня, как сибирского медведя в берлоге: за мной ведется «наружка» – наружное наблюдение, телефонные переговоры прослушиваются, передвижения контролируются. Так что за моим самовнушением скрывался подленький страх, страх перед неизвестностью, какого я никогда прежде не ведал. Я, возможно, тронулся бы, если бы не работа, за которую я крепко ухватился: некогда было продохнуть. Много усилий требовалось по сбору всей возможной информации, касающейся великого маэстро.
Мне до нестерпимости хотелось досконально познать тот мир и то время, в котором Моцарт родился, вырос и стал великим. Гением. Чем больше я читал о нем и о том времени, тем быстрее он оживал, превращаясь в реального человека.
На мои глаза попалась имя 33-летнего Игнаца фон Борна ученого-минералога. За полгода до смерти Моцарта, 25 июля 1791 года, в жестоких конвульсиях погиб этот борец с престолами и католическими князьями. Мне нужно было разузнать все о тайных обществах, масонских ложах, движущей силой которых в Вене, да и в Австрии, был неподражаемый Игнац фон Борн.
Итак, Моцарт, обосновавшись в Вене, считался с духом своего времени и вступил в столичную масонскую ложу. Вряд ли его сущность претерпела изменения после этого.
5 декабря 1784 года ложа «К благотворительности» известила венские сестринские ложи о приеме в свои ряды «капельмейстера Моцарта», последовавшем 14 декабря (ученик). Стремительно пройдя низшие градусы, знаменитый адепт уже 7 января 1785 года стал подмастерьем, а 22 апреля того же года Вольфганг получил доступ в ложу мастеров. Это позволяет заключить о присуждении ему тогда 3-го градуса посвящения, – поистине головокружительная карьера всего за несколько месяцев, тогда как простому смертному для этого понадобилось бы неизмеримо большее время! Магистром ложи, куда вошел Моцарт, был писатель Отто Франц фон Гемминген-Хорнберг, мангеймский покровитель Моцарта в 1778 году.
Чисто по масонской тематике Моцарт коснулся эзотерических сфер в шести сочинениях – всего лишь сотой части его музыкального наследия. На время первого масонского взлета приходят и соответствующие сочинения. В основном это песни и кантаты, например, «Gesellenreise» («Путешествие ученика» (масона)), «Die Maurerfreude» («Радость масона»). В ноябре 1785 года, по случаю смерти одного из братьев масонов, было исполнено оркестровое сочинение «Maurerische Trauermusik» («Масонская траурная музыка»).
Впрочем, еще исследователь-биограф Отто Ян указывал, что принадлежность к масонству не принесла великому мастеру никакой ощутимой пользы.
Более того, смерть Моцарта попадает в настораживающее соседство с двумя особыми событиями: премьерой «Волшебной флейты» 30 сентября и освящением второго храма венской ложи «Вновь венчанная надежда» 18 ноября 1791 года.
Вернемся ко времени правления императора Иосифа II, который, по инициативе Игнаца фон Борна, отдал распоряжение о слиянии восьми лож в две. Каждая из этих двух тайных организаций насчитывала по 180 членов! Ложа Моцарта «Благотворительность» растворилась во «Вновь венчанной надежде». Это произошло в середине января 1786 года. Магистром здесь был барон Филипп фон Геблер. Во главе другой сохранившейся ложи стоял виднейший минералог Игнациус Эдлер фон Борн, который помимо естественнонаучной деятельности в «Journal fur Freymaurer» («Журнал для масонов»), им же и основанном, отдавал дань своему нешуточному увлечению Древним Египтом и таинствами. Надо сказать, большинство значительных фигур из окружения Моцарта – как друзья, так и враги – входили в какую-нибудь ложу. Доказано, что Готтфрид ван Свитен был иллюминатом. Антонио Сальери, соперник Моцарта, как и все высокопоставленные государственные чиновники, мог входить в одну из лож, тот факт, что его имя отсутствует в их списках, ни в коей мере не противоречит такой возможности.
Присутственные протоколы других лож также характеризуют Моцарта рьяным адептом, по крайней мере – вначале. Но этот энтузиазм, по-видимому, уже в 1785–1786 годах пошел на убыль. За это время написаны пять масонских сочинений из шести, затем подобных опусов в списке Моцарта не значится, за одним, правда, исключением. Незадолго до смерти по случаю освящения храма прозвучала кантата «Laut verkunde unsre Freude» («Громко возвестим нашу радость», К. 623), – что с вероятностью, граничащей с истиной, произошло не без внешнего давления (менее всего Моцарт должен был скончаться как Христос, но обязательно «правоверным братом».
Когда в 1786 году на подмостках прошел «Фигаро» и аристократия увидала, как этот молодой человек самым унизительным образом позволил себе проявить к ней пренебрежение, то от великосветского бойкота его уже не могло спасти никакое идеологическое пальтецо.
Стал ли впоследствии Моцарт противником ложи? На этот вопрос вряд ли можно ответить утвердительно. Скорее всего, он просто стал безучастным к ее делам. 20 февраля 1790 года умер император Иосиф II – по достоверным источникам, «братом» он не был, но ложи-то терпел! – на трон вступил Леопольд II, и вскоре подул ледяной ветер перемен. Масонов стали называть. врагами порядка, религии и императорского дома. Большинство членов ордена просто покинули ложи. Весьма возможно, что под давлением именно этих обстоятельств форма «Волшебной флейты» претерпела свой решающий поворот.
5 декабря 1791 года исполнялось ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в «Благотворительность». Семь лет созидательной работы над так называемым «Соломоновым храмом» (См. Третью книгу Царств (6, 38)), завершились, день в день. Справившись в срок, архитектор храма Адонирам – именно под таким именем, наделенный отличиями высшего градуса шотландского обряда, неожиданно является Моцарт в циркулярном письме ложи от 20 апреля 1792 года – закончил свой жизненный путь.
На могиле Моцарта не было ни одного из его братьев по ложе, и никто не сказал ему слов благодарности за «Волшебную флейту».
На следующий день после смерти Моцарта покончил жизнь самоубийством его друг и «собрат» Франц Хофдемель; и конечно, не потому, что, как утверждали злые языки, «госпожа Хофдемель ждала ребенка от покойного Амадея».
Устав проекта моцартовского «Грота» утерян безвозвратно.
Музыковед Бошо говорит о маленькой «Sonate facile» («Легкая соната») C-dur следующее:
«Это чудо простоты и волшебной выразительности. Можно ли с меньшим количеством нот быть более трогательным и разнообразным?»
В сонате все время слышатся только два голоса. Внешне – прозаическое ничего, а вот внутри, в глубинах! Под простейшей оболочкой заключен целый Ниагарский водопад формы и содержания.
Я понял только, что изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры и прежде всего подготовки. Чем больше я читал о музыке Вольфганга, тем больше хотел ее слушать. Как иначе можно понять суть личности композитора – того, кто жил работой, музыкой?
День и ночь я слушал его произведения, слушал и боялся, что теперь не смогу без нее и минуты прожить. Музыка же Моцарта почти в полном объеме остается абсолютно доступной для каждого, слушающего ее сердцем – независимо от его культурного уровня и музыкальной образованности. Легкий и приятный стиль, который сохраняется даже в самых трагических и таинственных фрагментах музыки, приводит к тому, что она остается открытой и народной, то есть понятной всем без исключения.
Сознавал ли Моцарт, кто он вообще есть? Знал ли, что писал? Можно ли, требовать от него отчета за содеянное в жизни? Некий ранний почитатель связал с ребенком Моцартом слова гомеровского гимна Гермесу: пораженный Аполлон внимает чуду игры на арфе младого Гермеса и вопрошает, кто дал ему этот благородный дар божественного пения, смертный или Бог: никогда доселе не звучали столь чудные звуки. Так и мы поражаемся сначала ребенку, затем взрослому Моцарту: он был и остается посланцем из другого мира.
Право же, было от чего свихнуться. Втыкаешь в уши наушники – и твое тело, разламывающееся на части, и голова, страдающая от диких головных болей, – все это вдруг приходило в некую гармонию и согласие. И я продолжал слушать Моцарта, время от времени задаваясь вопросом: что за дивная энергия поддерживает меня? Ведь требовалась масса сил, чтобы продолжать заниматься тем, чем я занимался. Без устали и практически без сна!
Доходило до курьезов. В период напряженной работы, чтобы передохнуть, я закрывал глаза и воочию видел его великолепную голову с большими голубыми глазами и мясистым носом, – маэстро что-то колдовал над моим кухонным столом.
Иногда я видел его маленьким изящным вундеркиндом Вольферлем, одетого в костюм из тончайшего драпа лилового цвета, с таким же муаровым жилетом; и весь комплект был отделан широким золотым галуном. Он играл в четыре руки в Шенбрунне с сестрой Нанерль под одобрительные взгляды жены императора Марии Терезии. Как хотелось маленькому вундеркинду выглядеть аристократом, но он был всего лишь диковинной забавой или игрушкой для высокопоставленных особ. В великосветских гостиных вундеркинда Моцарта, наверное, держали за ряженую обезьянку. Встань, зверушка, на задние лапки, сыграй нам на клавесине втемную, без нот и клавиатуры. Ну-ка, ну-ка. Ай да, молодец!
Представляя себе эту картину, я вспоминал великого Гете, который в молодые годы бывал на представлениях маленького волшебника из Зальцбурга. Удивительно, что юный Вольфганг прекрасно понимал: его просто-напросто использовали! Вот почему он с такой страстностью разорвал отношения с деспотом и самодуром архиепископом Зальцбурга Иеронимом фон Коллоредо.
Читая книгу за книгой, я перелистывал страницы жизни Вольфганга, изучал его письма и не мог избавиться от мысли о том, что он всегда стремился пройти все тернии в своей судьбе, поскольку знал, что он велик и недосягаем. Мечтал найти для своих шедевров подмостки и поклонников. Но творческая атмосфера, царившая на столичной сцене с ее интригами, заговорами и подковерной борьбой приводили к тому, что Вольфганг постоянно оказывался у разбитого корыта.
Мы стали так близки с Моцартом, что я иногда спрашивал себя:
«Господи, может, Вольфганг – это я, а написанные книги, статьи, эпосы – все это обо мне?»
Как-то раз мне на глаза попалась репродукция Зюсмайра. Она, естественно, была сделана в девятнадцатом веке, в конце столетия. Зюсмайр выглядел напыщенным и самовлюбленным человеком, на лице которого было написано, что он тщеславный карьерист и доносчик. Франц Ксавер к тому же был молчун или был тем тихим болотом, где черти водятся. А поза, в которой он был запечатлен художником, заложив одну руку за борт сюртука, – ни дать, ни взять его учитель А. Сальери! В другой руке он сжимал дирижерскую палочку. У Зюсмайра были оловянные рыбьи глаза, которые оживлялись, наверное, только в присутствии вельможных особ. Такими глазами на мир смотрят люди хитренькие, себе на уме. Когда я разглядывал фото с редкой репродукции Зюсмайра, мурашки пробежали у меня по телу. Неудивительно, что Моцарт называл своего секретаря Свинмайром и рекомендовал домашним подвергнуть его экзекуции: отвесить ему пару-тройку затрещин и побольнее – с оттяжкой. Чем так прогневил ученик своего учителя, откуда такой черный юмор?
Чем больше я читал о Вене того периода, когда в ней жил Моцарт, тем больше убеждался, что Моцарт любил этот город. Скоро и я уже грезил по той австрийской столице, которая безвозвратно канула в Лету.
Думаю, Вольфганг жил там по одной-единственной причине: Вена в то время была музыкальной столицей мира. Понятно, что Моцарт при всяком удобном случае выбирался из Вены в Прагу, в города-княжества Германии, в Италию, Англию и даже собирался к нам, в Россию. Естественно, это не была страсть к путешествиям, а реальная возможность найти место капельмейстера у какой-нибудь высокопоставленной особы. Но все было тщетно.
Я лишь мог гадать, где прогуливался композитор. Конечно же, в Пратере – об этом написано везде. Тогда по каким местам совершала променад баронесса Вера Лурье?..
Чем больше я узнавал о Зюсмайре, о его адюльтере с Констанцией, тем яснее становилась картина. Сразу же после смерти маэстро он и вдова композитора стали разбирать архив Моцарта, принявшись немедленно уничтожать письма, документы, бумаги, хоть как-нибудь компрометирующие Констанцию. Поскольку они тогда еще действовали сообща, то тем очевиднее становилось: Франц Ксавер действовал преднамеренно, стараясь утаить правду о Вольфганге Амадее. Все, что касалось отношений Вольфганга с коллегами по сцене, женщинами, с секретарем Зюсмайром. И то, где было видно, что композитор состоял в тайном обществе. И все это делалось, наверняка, по указке сверху.
Моя миссия была однозначной: узнать хоть мизер этой правды, пусть даже необходимые документы оказались уничтоженными.
О Магдалене Хофдемель мне удалось выяснить в основном то, что Вольфганг ее боготворил и любил ее. Я настолько сильно привязался к этой загадочной фигуре, что она тоже стала являться в моих сновидениях. Поначалу это был лишь смутный образ. Она «приходила» в мою квартиру в Лиховом переулке, как мимолетное видение – обворожительная фея, черты лица которой я не успевал толком разглядеть.
Но со временем визиты Марии Магдалены стали продолжительнее. Иногда я просыпался, отчетливо помня: да, я только что виделся с ней. Это отнюдь не доставляло мне радости. Напротив, я испытывал страх – помимо моей воли какая-то сила увлекала меня в пропасть, в бездну. И хотя эта бездна сулила обернуться половодьем наслаждений, я сопротивлялся, ибо боялся, что все это меня поглотит.
И вот однажды ночью мне удалось довольно хорошо рассмотреть Магдалену Хофдемель. Мне снилось, как будто я иду по улицам Вены, той Вены, в которой жил Моцарт, и прохожу мимо высокого здания – скорее всего, то была городская ратуша. Город отмечал роскошный праздник. Скорее всего, это было Рождество, так как ратуша была украшена золотыми, зелеными и красными тканями; изо рта шел пар и воздух казался студеным. Я одиноко брел по улице, повсюду высматривая Вольфганга. Неожиданно из-под высокой железной арки со стороны фасада навстречу мне вышла женщина и взяла меня за руку. Я узнал Марию Магдалену. Ее наряд поразил меня: длинное, мягко облегающее фигуру платье тех же цветов, что и украшения на ратуше. Плечи почти полностью обнажены. Бежевый лиф контрастировал с нижней частью платья – по цвету и по текстуре. Он был выполнен из необычного материала и сверкал на солнце, словно сусальное золото куполов. Я почувствовал, что меня тянет к ней, и нет мочи противиться. Магдалена Хофдемель влекла меня к себе подобно тому, как влекут джунгли, изумрудно-таинственные, непроходимые, полные животных и птиц. Я подался вперед, чтобы коснуться сверкающего кофейного лифа Марии Магдалены, но моя рука прошла сквозь ткань, как, впрочем, и сквозь тело женщины, не встретив препятствия, как будто передо мной находилась поверхность волшебного зеркала, открывающего путь в параллельный мир.
Внезапно я проснулся. Неужели Магдалена Хофдемель, есть частица иной субстанции, или, проще говоря, недосягаемый идеал женщины вообще? А может, само провидение было заинтересовано в том, чтобы представить Марию Хофдемель чуть ли не пенорожденной Афродитой. Я решил расспросить об этом баронессу Веру Лурье, когда мы вновь встретимся.
Чем дольше я вчитывался в текст писем самого Вольфганга, в написанные о нем книги, чем дольше наслаждался его музыкальными сочинениями, тем сильнее задумывался: практически все, что создал Моцарт – это громадная, неслыханная по размерам галактика. И чем дольше его изучаешь, тем более обнаруживаешь сложность и божественность его музыки, которая только начинает открываться.
Легкое и беспечное на поверку оказывается пессимизмом, скорбью – проблемой, тайной за семью печатями. «Прозрачность» и «легкость» Моцарта – это «прозрачность» и «легкость» внешняя, как у Пушкина – только обманчиво-кажущаяся, а в ней заключена величайшая значительность и полнота. Моцарт – самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический композитор. Загадочность его личности, скрывавшей под оболочкой грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, соответствуют загадочности его музыки. И чем больше я вникал в его вселенную, тем более убеждался: как мало еще осмыслил ее, как мимолетно ощутил душой.
Кстати сказать, я день ото дня погружался все глубже и глубже в состояние отрешенности от мира, в некий психологический анабиоз.
Нетрудно было догадаться, что я оказался и физически и нравственно порабощен. В первую очередь, конечно, Моцартом, его музыкой, душой маэстро, но не только этим одним. Пожалуй, в не меньшей степени – проекцией его гигантской тени от его могущественного образа, сотканного за двести прошедших лет моцартоведами всех мастей.
Мне стало страшно. Причем, этот был другой страх, – не тот, конкретный, что я испытывал в критические минуты жизни. Там страх был управляем, его можно было преодолеть – нужны были только психофизические тренинги. Преодолеешь страх – и ты благополучно достигнешь цели. Но этот, теперешний, страх был иным. Он не имел вектора и более того, был бесформенным, всепроникающим – достигал каждой клетки души и тела. По мере того как я выстраивал свою собственную версию биографии Моцарта, мой страх превращался в беспощадный молох или гнет.
Я спасался работой и рассчитывал, что при таком подходе не останется сил для «размышлений на лестнице», особенно по поводу: что произойдет со мной, когда в жизнеописании Вольфганга Амадея Моцарта будет поставлена точка?
Наконец, этот момент настал. Для этого пришлось проглотить и переварить дюжину фундаментальных трудов, перелопатить гору первоисточников: документы, письма, свидетельства современников, записи музыкальных произведений Моцарта. Сведения зачастую были противоречивыми, но все-таки удалось собрать кучу фактов. Вот какую работу понадобилось проделать в поисках ответов на вопросы: кто такой Вольфганг Амадей, кем он был и что за тайна скрывается под именем «Моцарт и его жизнь». Вероятно, это очень большая тайна, иначе, зачем было Зюсмайру и Констанции уничтожать письма композитора, перетасовывать его музыкальное наследие, прятать «неудобные» документы или свидетельства современников композитора? Надо признать, что не вся интересующая меня информация была уничтожена или засекречена.
Когда я заканчивал излагать тезисы по теме «Жизнь и смерть Вольфганга Моцарта», у меня вдруг отлегло от души. Непонятная болезнь отступила, или же дала мне передышку. Перестали мучить мигрени, ушел звон в ушах, перестали мельтешить мушки перед глазами.
Мне пришлось честно признаться: методика, которой я владел, и весь мой опыт технаря и гуманитария ни на шаг не приблизили меня к цели: я не сумел избавиться от своей навязчивой идеи, от преследовавшего меня образа Вольфганга Амадея – образа человека, которого я никогда не знал.
Но какие-то могучие силы принуждали меня копаться во всем: в деталях, нюансах той далекой жизни Вены эпохи великого Моцарта. Но взамен потраченным усилиям я получал не эстетическое наслаждение, а наоборот – ощущал себя выбитым из привычной колеи, зависшим между небом и землей. Но стоило мне сделать перерыв в моем марафоне, как вернулись мучительные проявления болезни. Пришлось продолжить свои изыскания по Моцартовой теме.
Два месяца я не листал газет, не смотрел новостные программы по телевидению, а общался лишь со своим беспрерывно курящим врачом, которого продолжал посещать раз в неделю. Пару раз встретился с Анатолием Мышевым, интересуясь, когда он закончит перевод рукописи. А он не торопился и тянул резину с моим заказом.
Раз или два в неделю я выбирался из своей мрачной обители в Лиховом переулке на свет Божий и направлялся либо в «Иностранку», либо в «Ленинку», либо в Центральный архив литературы и искусства. Все эти объекты были надежно защищены от моих преступных посягательств – оттуда украсть мне ничего не удавалось. Вороша документы, извлекая на свет божий письма, написанные сто лет назад, я диву давался святой наивности тех людей, которые жили, смеялись, любили в начале прошлого века.
Занимаясь масонской темой в центральном архиве литературы и искусства, я наткнулся на предсмертное письмо Виктора Петровича Обнинского, да-тированное 20 мартом 1916 годом. Член Государственной Думы В. П. Обнинский состоял в масонской ложе, написал пророческую книгу «Последний самодержец». Его «лебединая» депеша было обращена к Рашель Мироновне Хин-Гольдовской, писательнице и близкому другу Обнинского.
«Еще и эту беду приходиться Вам пережить, – сообщал он Р. М. Хин-Гольдовской, пометив на конверте, чтобы сию депешу вручили адресату после того, как гроб опустят в могилу. – Но отнеситесь к моему уходу с мудростью. Вы все знаете. Вы видели, как долго я боролся с судьбой, и Вы знаете, что утрата большой привязанности может разбить и более крепкое сердце, чем моя жизнь. Благодарю Вас за все, за дружбу, за мягкость, за постоянное снисхождение к своему эгоистическому другу. В моей жизни Вы занимали очень большое место. Мне очень тяжело оставлять немногих людей и Вас, конечно же, в том числе. И Вас тяжелее оставлять, потому, что оставшимся, я твердо верю в это, своей смертью я приношу счастье. Я умираю без злобы на кого бы то ни было. Виновных, поистине нет, и Вы, милый друг, никого не вините за меня. Обнимаю Вас всех. Устал, не могу жить, простите. Ваш всей душой Викториша».
Как человек интеллигентный, по-своему болеющий за Отечество, часто совершавший ошибки, а потому и сомневающийся, В. П. Обнинский видел недостатки самодержавия и оппозиции. Волею провидения он встал в ряды того славного ордена русской интеллигенции, которая, по словам Н. А. Бердяева, прозорливо сказавшего в эмиграции: «Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм».
С точностью до наоборот случилось в 90-х годах прошлого века, когда, перефразируя Бердяева: вся история советского диссидентства подготовляла приход и становление нынешней олигархии, а Россия в который раз вновь оказалась на краю физической гибели.
Мне было тяжело переживать все это вновь – ворошить в памяти то, что я когда-то постарался забыть раз и навсегда. Увлекаясь в молодости тайными правительствами и изотерическими обществами, сплошь состоящими из высокомерных господ, взявших на вооружение мораль: цель оправдывает средства, к тридцати годам я был по горло сыт масонскими заговорами, потугами современного мондиализма. По сути своей коммунизм вышел из всего этого варева. Но когда он стал трансформироваться в нечто иное, вновь вступил в игру тот же Орден Русской интеллигенции. Все это я видел изнутри, поскольку значительную часть жизни я провел среди таких же членов «ордена». И они нарасхват использовали меня в своих целях, да я и сам во многом был таким же. Самое страшное в них было их кредо: презрение к жизни простого отдельно взятого человека, животного, растения и мира в целом.








