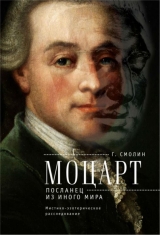
Текст книги "Моцарт. Посланец из иного мира (Мистико-эзотерическое расследование)"
Автор книги: Геннадий Смолин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Часть первая
Noblesse oblige[1]1
Благородное происхождение обязывает (фр.)
[Закрыть]
«Что значит знать?
Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней».
Иоганн Гете, «Фауст»
Возвращение в «Шарлоттенград»
«Ночь! Обольщенье! Кокаин! – Это Берлин!..»
Андрей Белый, «Шарлоттенград», 1924 год
Мой вояж в Германию был обставлен как надо. Мы с Николаем Митченко, моим однокашником по институту, планировали его уже давно, но до реализации наших планов все никак не доходило. Тогда, в апреле, я чувствовал себя довольно неважно. Сказалось все: и пресловутый червь сомнений касательно нынешней работы и призрачность моего будущего. Все это подтачивало мой организм изнутри, а тут сошлось все воедино: меня неожиданно легко отпустили с работы на две недели. Николай прислал вызов, а я в экспресс-манере прошел стихию оформления необходимых документов в германском посольстве.
У меня был неразлучный компаньон, старый мой приятель-технарь Виктор Толмачев, работающий на кафедре МИФИ. Он был страстно влюблен в творчество великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, организовал музыкально-исторический и просветительский клуб «Кенгуру», рассказывая там о композиторах Германии, России, Италии и Франции. Толмачев много переводил с немецкого и горел единственной страстью – напечатать в России как можно больше книг по истории музыки. Узнав, что я собираюсь в Берлин, Виктор поинтересовался, не смогу ли я оказать ему любезность – заехать к его дальней родственнице, очень старой и больной женщине, жившей в Вильмерсдорфе, пригороде германской столицы и отвезти ей небольшую бандероль с лекарствами.
Уже дома, собирая сумку и наткнувшись на розовый сверток от Толмачева, прочитал адрес на бумажке: фрау Вера Лурье, проживает в предместье Берлина – Вильмерсдорфе, (такая-то улица, № дома). Бандероль от друга из Москвы Виктора Толмачева (Цветной бульвар, дом №, квартира №, Россия).
Немного подумав, я зашвырнул бандероль на самое дно. И тут же о ней забыл.
И вот документы при мне, спортивная сумка приятно оттягивает правую руку. Мчусь в экспрессе в аэропорт. Слава Богу, самолет не поезд или автобус. Не успел я занять кресло в салоне аэробуса в Шереметьево-2, как уже приземлился в берлинском аэропорту «Шенефельд».
Еще до паспортного контроля приметил однокашника по питерскому Политеху Николая Митченко. Да, это был он, мой славный, немного возмужавший онемеченный Николай фон Митченко! Вот он подходит ближе, уже с тележкой, улыбается, говорит что-то, берет за руку, здоровается. Мы троекратно целуемся, он опять говорит, а я не слышу. Идем вместе за багажом, долго – почти вечность ждем мою нехитрую поклажу. И я начинаю рассказывать ему о полете, о наших друзьях-товарищах по Политеху, с которыми связь потеряна окончательно, еще о какой-то ерунде. Он внимательно и вежливо слушает, рассматривая меня большими, немигающими глазами, и не перебивает.
Получаем наконец-то багаж, и идем в буфет пить кофе.
Он принес две чашки кофе и круассоны, уселся напротив.
Пьем кофе, расправляемся с круассонами, а я исподволь, с некоторым любопытством рассматриваю его лицо, движения рук, вслушиваюсь, как он говорит. Николай почти не изменился, тот же облик, те же большие печальные глаза; возраст не наложил свой отпечаток: кожа не утратила молодости, а во взгляде пробиваются знакомые искорки радости. Приобретенная немецкость пошла ему на пользу: он кажется высоким, спортивным: еще ладным и крепким гренадером. Аккуратно одет, вышколен. Европеец что надо!..
Выходим на улицу, садимся в его машину, в салоне – запах хорошего парфюма; мягко трогаемся и несемся из аэропорта в Берлин. Я поглядываю в окно, всматриваюсь и хочу увидеть то, что ожидалось; и мои надежды не обманывают: красивые улицы, сверкающие машины, хорошо одетые люди. Какой великолепный симбиоз построек из старинных и в стиле модерн, а главное – ухоженных домов, зданий – все, как представлялось по иллюстрациям, роликам из кино, телерепортажам.
Ехали долго, или показалось так. Дом, обыкновенная многоэтажка, каких в Москве полно на окраине. Жена – молодая, красивая брюнетка. Никакая не фрау, а почти что фройляйн.
Николай знакомит нас.
– Ich heißе Lotta («Меня зовут Лотта»), – холодновато представилась фройляйн и, извинившись: («Entschuldigen Sie!») – ушла.
Меня это не обескуражило, я расплываюсь в счастливой улыбке, выпаливаю свое имя:
– Макс! – и почтительно склоняю голову.
Побросав вещи, мы решили по стародавней русской традиции помыться и попариться… Николай повез меня в термены в «русско-румынские» бани…
Чтобы развязать себе руки и не быть обузой герру фон Митченко и его юной жене, я поселился в недорогом номере гостиницы недалеко от Митченко. На следующий день я вспомнил о просьбе Виктора – навестить его дальнюю родственницу, графиню Веру Лурье, живущую в предместье Западного Берлина – Вильмерсдорфе, и передать ей пакет с лекарствами. Созвонившись с Верой Сергеевной Лурье, мы договорились встретиться на следующий день. Пунктуально, по-немецки: в девять ноль-ноль. Я попросил Николая, подбросить меня до нужного места на его вишневом «Опеле».
С утра пораньше, я принял душ, побрился и полил распаренную кожу крепким французским одеколоном. Посмотрелся в зеркало ванной комнаты: выпрямился, втянул живот, расправил плечи – вроде бы, сносно. Форму надо держать, и я дал себе слово, что по возвращении в Москву возьмусь за гантели, штангу, оседлаю тренажеры; буду бегать трусцой или рысцой до Самотеки или – чем черт не шутит! – по Воробьевым горам.
Николай был по-немецки точен; и мы минута в минуту въехали в Вильмерсдорф и остановились у сельского типа коттеджа – в получасе езды от центра Берлина. Небольшой дом, расположенный в тени деревьев, – типичный для этих мест пейзаж, отличался безукоризненной немецкой опрятностью и вылизанностью.
Николай предупредил:
– Буду нужен, позвони – приеду за тобой, и он мягко отъехал, оставив меня совершенно одного.
В глаза бросился пейзаж в стиле «а-ля-рюс»: напротив коттеджа у забора русская поленница – она была сложена настолько аккуратно, будто с картин художников-передвижников из России.
Итак, мне предстояло навестить женщину, о которой Виктор сообщил много интересного. Ее звали Вера Сергеевна Лурье. Возраст – фантастический: около ста лет. Дочь крупного российского чиновника, дворянка, она мало что смыслила в свои юные годы в политике, когда с родителями спешно покидала Петроград. Лирическая поэтесса Вера Лурье, была в здравом уме и твердой памяти. Чтобы подчеркнуть историзм своего бытия, она окружила себя памятными фото начала прошлого столетия и экспозициями европейских столиц того же периода. С графиней проживала ее помощница, Наденька, внучка казачьего генерала Науменко.
Четыре огромные комнаты своего вильмерсдорфского дома старой постройки Вера Лурье сдавала в наем русским студентам. Но ненадолго – в последние годы она работала над книжкой и малейший шум раздражал ее, не давал сосредоточиться.
По словам Толмачева, мадам долгие годы трудилась над мемуарами, а сейчас подыскивала издателя для публикации истории своей жизни, которая у нее началась в 1902 году в Санкт-Петербурге. В своем грандиозном побеге с родителями в 1921 году из советской России юная Лурье попала, как говорится, с корабля на бал. И на берегах Шпрее столкнулась со всем великим, что вынес поток эмиграции из России. Молодая графиня отмечала шумные праздники с известными художниками Иваном Пуни и Элом Лисицким или проводила философские беседы с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом, Виктором Шкловским. Позже в круг ее друзей вошли многие видные деятели русской православной эмиграции, крупные философы: Бердяев, Франк. Перед самой войной Вера Лурье близко познакомилась с известным генетиком из СССР Николаем Тимофеевым-Ресовским. Она поддерживала дружеские отношения с ним и его семьей до падения гитлеровской Германии.
У Лурье сложился тесный круг друзей, среди которых был эксцентричный писатель Андрей Белый, заостривший внимание общественности в 1924 году на «Шарлоттенграде» – местности по обеим сторонам Курфюрстендамм, следующими рифмованными строками:
«Ночь! Обольщенье! Кокаин! – Это Берлин!»
Такие русские, как Андрей Белый, порой поражались олимпийским равнодушием берлинцев. Он пытался спровоцировать прохожих-немцев на маломальское удивление, а для эпатажа мог сделать стойку на голове или вывесить на свой спине какое-нибудь абсурдное изречение. Но все оказывалось тщетным. В конце концов, русский поэт пришел к пессимистическому выводу:
«Берлинцам этого не постичь. Эта их немецкая приземленная проза жизни не может охватить того, что выше их разума, а уж тем паче – запредельного, на гране помешательства».
Ныне, как и в 20-х годах берлинцы принимают новых русских из далекой России. Так же равнодушно и даже со смесью безропотности и наплевательства сегодняшние горожане столицы лицезреют на то, как Берлин распухает от эмигрантов, становясь провосточным и даже русским. И это не трогает наследников тевтонских рыцарей.
…Я подошел к сосновой двери под стилизованной крышей и повернул изящным ключом. На звук валдайского колокольчика тотчас отозвалась прислуга – девушка с утонченным славянским обликом – открытым красивым лицом, живыми глазами и пухленькими губами. Она проводила меня в прихожую, залитую дневным светом.
Я сменил обувь, оставил куртку и планшетку и прошел следом за девушкой.
Переступив порог комнаты, я ослеп от яркого луча весеннего солнца, ударившего вдруг из окна. И почувствовал скованность; меня поразила немота. Ошеломление длилось в течение нескольких секунд. Пока глаза не привыкли, я различал лишь очертания женской фигуры, устроившейся передо мной на диване, спиной к окну.
Помещение было декорировано приглушенными тонами: от кофе с молоком – потолок и стены – до темно-коричневого – мореный дуб антикварной мебели. Длинношерстный ковер на полу, накидка на креслах и покрывало на софе вместе с коричневыми ламбрекенами на окнах тоже не выбивались из общей цветовой гаммы.
Я разглядел хозяйку особняка более внимательно. Это была элегантная старая леди с аккуратной прической льняных волос – высокая, бледная, с правильными чертами лица. Вероятно, она плохо чувствовала себя – ее движения были степенными, но как будто давались с трудом.
Я подошел ближе, представился:
– Фрау Лурье, я – друг Виктора Толмачева из Москвы. Он передал вам низкий поклон и пожелания всего наилучшего. И вот небольшая бандероль с лекарствами, тут целебная мазь и витамины – ретеноиды. Все это, как он надеялся, поможет вам.
Я вручил женщине небольшой пухлый пакет. Она протянула руку с роскошным серебряным браслетом на запястье с дивными инкрустациями из яшмы, малахита, сапфира. У нее были изящные руки с длинными пальцами и маникюром, над которым трудился профессионал.
Она мягко усмехнулась и сказала низковатым, будто прокуренным голосом:
– Благодарю вас, сударь из России. Присаживайтесь. Только ради Бога, не называйте меня фрау Лурье, а просто Вера Сергеевна.
По крайней мере, сейчас. Никогда я не была фрау и, надеюсь, что уже не буду.
Мне стало неловко.
Но Вера Сергеевна стала говорить дальше:
– Боже ты мой, как приятно видеть у себя в гостях соотечественника! Безусловно, это в духе нашего славного Викториши (она делала ударение на «о») – послать мне с оказией лекарственные снадобья из заповедных русских мест. Он ведь хорошо знал, что я на дух не перевариваю ту «химию», которой потчуют здешние врачи, особенно этот ужасный концерн медпрепаратов, раскинувший щупальца по всему миру. Берлинские доктора невежественны изначально, ни в одной болезни не разбираются, зато так и мечут заумными терминами, что бы скрыть свой непрофессионализм. Да, Вам пришлось истратить на меня свое время. Прошу извинить.
Глядя в ясно-зеленые глаза старой дамы из высшего петербургского света, которая, несмотря на возраст, говорила очень живо, а передвигалась с изумительной грацией, я понемногу успокоился и перестал ощущать себя неуклюжим и неповоротливым чурбаном.
Скоро я был в своей тарелке, сохраняя внешне некое подобие приличных манер. Лаконизм и простота комнаты в неброском английском стиле казались уже своими, по-домашнему покойными. Комната, залитая солнечным пронзительным светом, создавала ощущение покоя и тихой радости. А интеллигентное лицо почтенной графини почему-то казалось до боли знакомым, словно я видел ее где-нибудь в поезде или на картине русских классиков в Третьяковке. А может быть во сне?.. Как говорят французы, включился синематограф под названием déjà vu («я уже где-то это видел»)
Я стал рыться в кладовых своей памяти, возрождая то, что еще Виктор поведал мне о Вере Сергеевне Лурье. Делая вид, что внимательно слушаю графиню, я невольно размышлял о хозяйке этого сказочного коттеджа. Я вспомнил о побеге юной Веры с родителями из роскошных гостиных старого Петрограда через Прибалтику в Германию, вернее – в ее столицу, в этот район Западного Берлина. Но для каких высших предназначений? Для бескорыстного служения некоей идеи фикс, скорее самопожертвованию во имя высокого чувства, например любви?..
Вера Лурье вышла замуж за отпрыска барона Вальдштеттен, получив титул баронессы Вальдштеттен-Лурье, вошла в превосходную семью, но скоро стала жить отдельно от мужа, в окружении несколько сомнительного сообщества русских эмигрантов. Эта романтичная чудаковатая женщина, довольно экстравагантная, принимала у себя пестрое многоцветье тамошней богемы, состоявшее из самых различных людей. Разумеется, мадам Лурье часто приходилось выслушивать нарекания по поводу ее «эксцентричного стиля жизни, нарядов и суждений». Именно в ее доме играли в «невинные игры свободных граждан мира», что, по сути, походило на заседания масонских лож. Ко всему этому с подозрением относился как тамошний свет, так и политический истеблишмент. Тем не менее, Вера Лурье преуспела во всех делах: даже выучилась ткать и прясть не хуже местных бюргерш, потакая традициям и менталитету тогдашних берлинских аристократических кругов. Правда, политический окрас в Германии менялся, уступая место кондовым черно-коричневым тонам.
Жизнь резко изменилась в конце июня 1941 года, как только стал реализовываться план «Барбаросса» (в отношении Советского Союза). В период Третьего Рейха фрау Лурье использовала свое высокое положение в обществе, чтобы помогать и спасать перемещенных лиц и, конечно же, ученых. Образовался своеобразный тандем: Лурье – Ресовские. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, крупнейший генетик, был заместителем директора Института исследования мозга. Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма не убоялся носить в кармане пиджака до конца войны советский паспорт.
Почему немцы его не трогали? Тут много неразгаданных тайн.
Тимофеев-Ресовский был величайшим ученым-генетиком, он входил в верхний эшелон руководства НИИ, опекаемого самим фюрером и занимался проблемами антропологии – вопросами рас, евгеникой. С приходом нацистов к власти, Николай Тимофеев-Ресовский стал прятать перемещенных европейских ученых и даже военнопленных, помогал многим, кому грозила опасность, предоставляя им спокойную работу в своем институте.
Но его старший сын Дмитрий (по-домашнему – Фома), тогда 18-летний студент физического факультета Берлинского университета, участвовал в делах, действительно, опасных. Он сотрудничал с группой молодых людей, помогавших иностранным рабочим, попавших в нацистское рабство, бежать и скрываться. Полиция напала на след этой «молодогвардейской» организации. Старший Тимофеев-Ресовский был арестован в начале 1945 года и брошен в тюрьму. Вера Лурье, используя свои великосветские связи, пыталась вытащить Дмитрия из застенков гестапо, но безрезультатно. Фому Ресовского перевели в концентрационный лагерь Маутхаузен, где он погиб еще до прихода Красной Армии.
Николай Владимирович до последней минуты надеялся, что сын выживет, а потому был в некоей прострации. Чтобы помочь ему, Тимофеев-Ресовский остался в Берлине после капитуляции Германии и не уехал в США, куда его звали, а передал Институт в руки полпредов из СССР. Из-за гибели Дмитрия он пал духом. Вера Лурье, как могла-умела, утешала его, но вскоре ученый, его жена Елена Александровна и младший сын Андрей пропали из ее поля зрения.
Они были арестованы и отправлены в СССР. Так же, как и ее возлюбленный – казачий офицер Кубанского казачьего войска Александр Ивойлов, успевший передать ей документы и реликвии, связанные с великим Вольфгангом Моцартом. Казачий офицер значился в списках «Казачьего стана» генерала Тимофея Ивановича Доманова; это формирование оказалось в зоне оккупации британцев и, как она узнала позже, все казаки были выданы англичанами советскому командованию под Линцем и препровождены в СССР. Многие были расстреляны или сгнили в Сибири.
Только в 60-х годах прошлого столетия имя знаменитого ученого-генетика Николая Тимофеева-Ресовского вновь всплыло в международных научных кругах в связи с присуждением Кимберевской премии США, а Вера Лурье, узнав об этом, написала в СССР письмо на имя Николая Тимофеева-Ресовского. Но ее весточка осталась без ответа; и только через десять лет Веру Лурье нашла короткая депеша из подмосковного Обнинска, где Николай Владимирович сообщал, что работает в Институте медицинской радиологии, и вновь интересовался о своем сыне Фоме: нет ли каких-либо документальных следов его окончательной судьбы в Маутхаузене (хотя бы, в захваченных американцами архивах). Вера Сергеевна отправила открытку в Обнинск; но более никаких вестей из СССР на ее имя не поступало.
Грозное «мяу» Василия, любимца Веры Сергеевны, кота сиамской породы, нарушило царившую в комнате тишину. Я стряхнул с себя оцепенение и вернулся к разговору.
– Благодарю вас, Вера Сергеевна, за беспокойство обо мне.
Но эта услуга для вас – сущая для меня безделица, – заверил я графиню. – Более того, я, конечно же, премного обязан Вам. Выдали мне только повод, чтобы сбежать из хаоса скучной и беспокойной столицы. А то сидел бы я сейчас в прокуренном кнайпеи под звон пивных кружек слушал разноголосицу завсегдатаев, болтающих бог знает о чем.
Вера Лурье искренне рассмеялась.
– Вы, Макс, более, чем правы, – деликатно заметила она. – У нас одни и те же критерии и постулаты в жизни.
Кожа Веры Сергеевны была настолько бела и гладка, что казалось, будто это не старая-престарая графиня, а молоденькая студентка. И эти ее изумительные глаза – ярко-зеленые, ясные!.. Никогда не видел таких очей. Чистые, как изумрудные всходы озимых под ясным весенним небом. До умопомрачения прекрасные глаза! Похоже, и морщинки были не фактом ее возраста, а игрой света и тени. А смеялась она с той загадочностью и тайной, которые делали ее похожей на Джоконду Леонарда Да Винчи.
Искушению смеяться поддался и я. И в тот же миг у меня исчезло чувство неловкости. Утренняя мигрень и внутренний дисбаланс будто улетучились. Все печали ушли без следа. Только роскошное весеннее солнце в промельках вековых деревьев за окном гостиной да покой, разлитый в мягко освещенной комнате.
Чем дольше я был у Веры Сергеевны, тем становился раскованнее, умнее и обаятельнее. По крайней мере, так мне казалось.
Лурье интересовалась всем без остановки: Москвой, Россией, переменами в обществе, нынешней властью. Потом еще раз поинтересовалась, как поживает мой друг из Москвы, герр Виктор Толмачев?
Я как-то неубедительно отозвался одним, но емким:
– О’кей! – и для верности выставил вперед большой палец.
Вера Сергеевна кивнула и как-то пристально посмотрела мне в глаза, но тут же переключилась на воспоминания об Андрее Белом.
Внезапно старая леди спохватилась, вызвала девушку-прислугу Надежду, одетую в стародавний казацкий наряд, и попросила подать чай.
Буквально через пять-десять минут Надежда, пылая пунцовыми щеками, вошла с подносом, на котором уместился компактный самоварчик, заварочный чайник из фарфора и большие кружки.
Скоро мы пили крепкий, приправленный пряностями чай, восхитительный на вкус, и беседовали обо всем на свете. Я расспрашивал Веру Сергеевну о состоянии ее здоровья. Узнал, что у нее больное сердце, что вот уже в пятый раз врачам приходится подключать аппарат, стимулирующий работу сердечной мышцы. Здоровье ухудшилось в начале года, а до той поры все было неизменно хорошо. Тем более фрау Вера старалась проводить большую часть дня на природе или как она с усмешкой говорила: «на моем огороде».
– Люблю моционы на свежем воздухе, – призналась она. – Все началось с моего небольшого приусадебного участка. Еще до войны. Там приходилось много работать физически, отрабатывать добровольную барщину. Все это, несомненно, закаляло организм, а главное врачевало душу. Сейчас так никто не делает. Слишком многое перепоручалось машинам, или другим людям. Организм слабел и дряхлел.
Ну ладно, дождемся лета. И я снова окунусь в природу, в садово-огородные дела.
В солнечные лучи высвечивали невесомые пылинки.
Сладкий и крепкий чай с бергамотом вдохнул в меня порцию энергии, и я почувствовал себя необыкновенно бодрым, – даже голова слегка закружилась.
Я зажмурился и представил Веру Сергеевну, бредущую по чащобам Подмосковного леса, – ее высокую, худощавую фигуру в простеньком ситцевом платье. Захотел представить рядом с ней ее соседей – берлинских бюргеров, но не получилось: что-то было неестественное в воображаемой картинке: «правильные» немцы в упрощенном и дешевом молодежном одеянии а-ля-рюс.
И вновь послышался голос Веры Сергеевны:
– В последнее время я немного сдала. Но я не ропщу. Он всегда был добр ко мне, поддерживал меня во всем, даже в мелочах. И я надеюсь, что теперь, когда я так нуждаюсь в его поддержке, он не оставит меня.
Поначалу я решил, что под именем «Он» старая женщина подразумевала моего друга Толмачева. Только потом сообразил, что Вера Сергеевна имела в виду Господа Бога.
Тут я был полностью разделил сторону Веры Сергеевны.
Как только мне становилось плохо или что-то мерзкое оживало во мне, и все кругом портилось и блекло – меня спасала одна только мысль, что существует Всемогущий Спаситель. И я шел в ближайшую церковь или отправлялся на метро до станции Бауманская, в кафедральный Елоховский собор. Еще в разгар оголтелого материализма в эпоху СССР я всегда искренне удивлялся: отчего был наложен запрет на Бога? Ведь немощным, сирым и обездоленным или когда человеку мерзопакостно на душе – нужна вера как надежда и опора.
Хотя, в самом раннем детстве, в классе первом мы со смехом спрашивали у однокашника, родители которого верили в Спасителя: кто главнее – Бог или наука. К нашей вящей радости однокашник искренне отвечал: разумеется, Господь Бог. И мы оголтело хохотали, уверенные в своей правоте: что Наука, а вернее – ее законы, формулы и расчеты правят бал на Земле и в Космосе.
Разумеется, Вольтер был абсолютно прав, когда сказал, что если бы Бога не было, то его нужно было обязательно выдумать.
При всем моем уважении к религиозным чувствам старой леди (по крайней мере, полагаю, что относился к ним с должным уважением), я не устаю поругивать себя за то, что недостаточно педантично верую, плохо соблюдаю посты, не исповедуюсь батюшке, дабы осознать весь божественный смысл своего существования. Вот о чем думал я, глядя на русскую баронессу Веру Лурье.
Она молчала. Ее лицо оказалось наполовину в тени. Контрастность тени и света, заливавшим комнату, была так причудлива, что мне стало не по себе. Пауза затягивалась. Фрау Лурье повернулась к окну и с минуту глядела в него, словно ожидая чего-то или кого-то. Затем вновь устремила взгляд на меня и продолжила разговор о Германии, но, похоже, потеряла свою предыдущую мысль и принялась развивать новую.
Вера Лурье поведала о том, как во времена нацистов она выучилась сучить овечью шерсть, выращивать овощи на маленьком огородике и даже шить и прясть; о том, как она вставала ежедневно в четыре часа утра, чтобы помолиться в православном храме.
И вновь Вера Лурье, потеряв нить разговора, замолчала.
Помолчав с минуту, она спокойно, с тонким юмором и с каким-то затаенным наслаждением заговорила о смерти.
– Смерти я не боюсь, – категорично заявила Вера Сергеевна.
Невооруженным глазом было видно, что она истово верила в то, что ее душа непременно улетит в небеса, а там встретится со всеми, кого она знала, любила и за кого молилась.
После паузы, баронесса заговорила наставительно, будто священник с амвона:
– После смерти, всем нам предстоит заново родиться – духовно.
Смерть только кажется чудовищной нелепостью – это взгляд профанов со стороны, в действительности – она наш старый добрый друг.
А разве можно бояться друзей?..
Честно говоря, я почувствовал себя не в своей тарелке: страшный и неестественный уход из жизни преподносился, как о что-то само собой разумеющееся в бытии каждого конкретного человека.
Вера Лурье, немного помолчав, продолжила говорить, но уже с какой-то тихой радостью:
– Я прожила три жизни, вы меня понимаете, дорогой мой?..
Не уловив смысл ее слов, я только пожал плечами.
– Первую – вместе с Моцартом, вторую – с Пушкиным и Россией, о которой у меня туманные представления; а нынче вот эту, третью, – опять с Моцартом.
Она снова замолчала. Взгляд ее умных проницательных глаз обжигал мою душу, словно в нее тонкой струйкой вливался раскаленный металл.
Мне уже становилось интересно: куда клонила графиня.
– В принципе, я полагаю, что Моцарт и Пушкин очень похожи или даже идентичны, – сказала она, не спуская с меня пытливого взгляда. – Знаете, великий Шиллер великолепно сказал в своем гениальном «Деметрии»:
Сорвать хочу я паутину лжи, Открою все, что мне известно. Вновь пауза и уже другая мысль Веры Сергеевны:
– Можно ли выразить словами то, что творил Бог музыки – Моцарт, преисполненный духовного подъема и искренности, когда исполнял на фортепиано свою фантастическую музыку. Сам Господь удостоил его такой благодати.
Чуть подавшись вперед, ко мне, Вера Лурье добавила:
– Люди, никогда не знавшие близко тех, кто велик душой, могут не понять этих слов поэта. Для других, например, для меня, много лет находившейся в лоне Православия, смысл сказанного абсолютно ясен.
Знаете, душа человека излучает нечто невидимое глазом, создавая некое биополе или ауру. Все зависит от того, у кого какая аура: у одних она несет позитив в окружающий мир, у других напротив, имеет другой знак – устремлена в собственное «я» или эго.
И тут окружающий мир вокруг стал уменьшаться, скукоживаясь словно шагреневая кожа, – религиозные пассажи-откровения старой леди и неожиданно прозвучавшая тема по иному обустроенному параллельному миру, – все это выбивало меня из привычной колеи.
Вера Лурье не дала времени на раздумье, а перешла в атаку.
– Конечно же, вы считаете, что тут оказались чисто случайно? – спросила она и сама же ответила: – Нет, мой русский друг. Я точно знала наперед, была просто убеждена, что вы – именно тот самый посланник. Разумеется, я не ведала, кто вы и как будете выглядеть – это стопроцентная правда. Попытаюсь вам пояснить.
Я невольно вздрогнул: тема о предчувствиях, подсознании – все это было знакомым и близким, поскольку я в последнее время стал увлекаться этими категориями. В беллетристике, в оккультной или околонаучной литературе. Правда, поверхностно – на уровне терминологии или расхожих определений.
Пока Вера Сергеевна делилась со мной своими воспоминаниями, мне было приятно с ней беседовать. Однако, выслушивать рассуждения о тонкостях христианской веры, о вечной человеческой душе или про некие потусторонние силы и ее религиозные воззрения было для меня не вполне интересно. И я даже стал откровенно скучать.
Но не успел я вымолвить придумать предлог, чтобы откланяться и уйти, как Вера Сергеевна резко поменяла тему, переключив разговор в иной ключ.
– Вы можете мне возразить, если я скажу: душа Моцарта чудесным образом реинкарнировалась в Пушкине, – неожиданно заявила она и пояснила: – Александр Сергеевич об этом догадывался и пытался рассчитать траекторию своей судьбы, когда работал над своим шедевром «Моцарт и Сальери». Действительно, между Моцартом и Пушкиным много общего. Они даже внешне похожи. Современник маэстро, повстречав Вольфганга Амадея в Берлине в 1789 году, сказал:
«Маленький, суетливый, с туповатым выражением глаз, в общем – непривлекательная фигура». Действительно, располневший, небольшого роста – чуть более 150 сантиметров, этот вечно находящийся в движении человек с большой головой, крупным носом и изуродованным оспой лицом с желтоватым оттенком – внешность, конечно же, не фотогеничная. Чувствуете, какая идентичность? Ну а по темпераменту, остроте языка, нонконформизму – у Моцарта и Пушкина – совпадения просто разительные!
Ну и самое главное – бесспорная гениальность Композитора и Поэта!
Но верно и то, что их сходство выявляется на совсем другом, более высоком уровне. Идентичность душ. – Вера Сергеевна умолкла и вновь заглянула мне в глаза да так, будто собиралась вывернуть наизнанку мою душу. Мне стало не по себе, я даже подумал: «А не схожу ли я с ума, не посетила ли меня шиза?». А может, сама Вера Сергеевна не в себе, психически больной человек?
И я уже был готов встать, откланяться – уйти.
Как вдруг фрау Лурье неожиданно спросила:
– Моцарта вы любите?
Я был огорошен. Вопрос был задан в такой форме и таким тоном, словно Вера Лурье интересовалась: а был ли я когда-нибудь представлен Моцарту, поддерживал ли с ним знакомство и знал его накоротке.
– Чрезвычайно, без всяких границ! – выпалил я и пояснил: – Божественная музыка великого маэстро мне по душе – нет слов. Бесспорно, Моцарт – гений! Но. но я почти ничего не знаю о его жизни да и музыку не всю, а фрагментарно.
– Значит, так тому и быть, – кивнула Вера Лурье и тяжело вздохнула. – Мы с вами, действительно, очень разные люди, вам не кажется? С Моцартом я вступала в жизнь и, видно, с Моцартом скоро ее закончу. К тому же, эти ужасные берлинские врачи довершат свое никчемное предназначение.
Вера Сергеевна замолчала и видимо надолго. Она сидела, не шелохнувшись, положив руки на колени, и смотрела на меня, как строгая учительница на разочаровавшего ее ученика.
Затем она неожиданно спросила:
– Признайтесь, он вам ведь снился?
Ее вопрос заставил меня вспомнить нечто почти забытое. Мне действительно снился Моцарт. Точнее, я каким-то фантастическим образом оказался задействованным в фильме «Амадеус», американского режиссера Милоша Формана. Причем я играл роль королевского капельмейстера Антонио Сальери. Сновидение было настолько необычным, что полностью так и не изгладилось из памяти.








