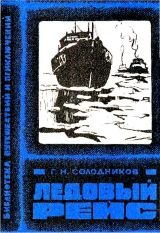
Текст книги "Ледовый рейс"
Автор книги: Геннадий Солодников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Разгрузка

Каждое утро начиналось с перестука топоров. Пока грузчики сидели подле складов на солнышке, позевывали, лениво рядились с орсовским начальством, плотники наводили сходни. Ладили их старательно, чтобы к каждому трюму был удобный подход.
Потом был день – сосредоточенная беготня согнувшихся под тяжестью фигур. Со стороны все они казались Сане на одно лицо. Одинаково шутливыми, одинаково бойкими вначале и одинаково усталыми под конец.
К обеду на берег приходили жены или дети постарше. Приносили еду и обязательно – питье. Много питья. Кто квас, кто брусничный или клюквенный настой, кто круто заваренный остуженный чай. А запасливые счастливцы – бражку из овсяного солода.
Сане уже довелось попробовать ее. На вид неприглядная: густая, мутная, с шапкой серой плотной пены. Но ядреная, хорошо и быстро бодрящая и к тому же еще и сытная. Это национальный напиток коми-пермяков, к которому быстро привыкают все живущие здесь. Только узнав об этом, понял Саня, почему в Усть-Черной женщины настойчиво спрашивали овсянку.
Ели грузчики долго, много и обстоятельно. Опрокидывали в рот сырые яйца. Шкурили колбасу. Резали белое, в три пальца, домашнее сало, пахнущее чесноком. Ломали на колене краюхи хлеба. И запивали, запивали, припадая к эмалированным чайникам, берестяным туесам, жестяным бидонам.
Потом снова бегали. Снова прогибались под ними скрипучие сходни.
На первый взгляд все они были в работе одинаковыми. И лишь когда носили мешки с мукой с Саниной самоходки, он заметил, как разнятся грузчики один от другого.
Он стоял в дальнем конце высокого мрачного склада, освещенного двумя керосиновыми фонарями, и считал мешки. Их клали длинными рядами, столбик к столбику по восемь мешков друг на друга. Пахло керосином, мукой и потом.
Грузчики проходили по складу нескончаемой замкнутой вереницей. Бросали один мешок, на него второй, третий, четвертый; потом рядом клали три, дальше – два, один. Получалась лесенка. По ней поднимались и забрасывали мешки на самый верх рядка.
Одни шли с прибаутками, напевали, разок-другой пробегали по трапу бегом и все норовили кинуть мешок повыше, хотя не хватало нескольких «ступенек». Это были люди сильные и, как правило, молодые.
Вторые несли и клали мешки молча. И наверх лезли, и до самого пола кланялись, строго соблюдая порядок лесенки. Они все делали обстоятельно, не тратили на лишние движения понапрасну сил. Это был народ пожилой, еще в силе, не хуже молодых, но искушенный в жизни, умудренный опытом.
Третьи – среди них были и старые, и молодые – ругались по поводу и без повода. Зацепит мешком за стойку, шатнет его – он матюкнется. Поторопится освободиться от тяжести, спихнет мешок неудачно – опять разевает рот. Такому все неладно: трап неровный, в складе темно, мешок и тот попал неудобный. Эти все норовили делать средние ступеньки. Самое легкое – как со своего плеча на плечо другого мешки перекладывать.
У Сани работа не сложная: знай палочки на бумажке проставляй. Смотрел он, смотрел на этих третьих и подумал о Петре, тоже грузчике. Вчера еще видел его – таскал ящики с «сотки». А в сегодняшней бригаде нет. Видно, металлолом на порожние самоходки грузит…
Познакомился с ним Саня в клубе, в тот день когда проводил Лену. Он сразу обратил внимание на этого незнакомого парня. Городская модная стрижка, чистый костюм. Видно, что изрядно выпил, а глаза светлые, грустные.
Он первый подошел к Сане и спросил:
– Чего не танцуешь, старик?
Саня и вправду не танцевал в этот вечер. Да и в клуб он пришел просто так, даже не переоделся.
– Разве в таких потанцуешь, – ответил он и выставил вперед ногу в тяжелом рабочем ботинке.
– Ты, я вижу, не здешний? Закурим…
Саня глянул на мятый «север».
– Нет, с самоходки. – Торопливо вытащил пачку «щипки».
– О-о! Давно их не курил. Я ведь тоже из Перми. Звать меня можешь просто – Петро. Только я по-другому сюда попал…
Саня чувствовал, что сейчас начнется длинный разговор. С этим ему уже приходилось сталкиваться: и в техникуме слушать ребят постарше, и со стариками разговаривать «за жисть». Ему было немножко неловко вот так стоять на виду у всех и слушать. Но еще труднее было сказать: «Отвяжись!» – и уйти.
– Вот ты о ботинках сказал. Я тоже о них сегодня вспомнил… Разве это танцуют! Мне бы мои черные туфельки, фирма «Джон Уайт», английские. Голубой костюмчик, белую сорочку, бабочку. И еще бы мою Алку сюда. Эх, мы бы с ней дали!
Он пьянел прямо на глазах, и взгляд его еще больше грустнел.
– Ты что, тунеядец? – глупо хохотнул подошедший враскачку здоровенный парень с одной из самоходок.
– Тунеядцы дальше, – бесстрастно ответил Петро и, не договорив с Саней, казалось забыв о нем, шагнул к соседней группе парней.
С минуту он стоял, как бы раздумывая, и все смотрел на директора леспромхоза. Тот разговаривал с местными ребятами, хохотал вместе с ними, не скупился на шутки.
Петро наконец сделал еще шаг, решительно тронул его за рукав, как бы приглашая отойти в сторонку.
– Товарищ директор! Я грузчик, завербовался на год… Вы не подумайте, что я выпил, так поэтому. Я уже пятнадцать дней здесь; мог бы и раньше подойти. Не хотел. А теперь приперло. Помогите с жильем, всего одно место в общежитии.
– Вас же всех на квартиры устроили.
Саня хотел уйти. Но что-то заставило его остаться. Директор слушал Петра спокойно, не перебивал, лишь чуть-чуть одними глазами, иронически улыбался.
– Живу у стариков, – Петро резанул ладонью по горлу, – сыт, не хочу… Сорок пять рублей в месяц. Это с кормежкой. А чем кормят? Редька, квас, картошка. День поел, два поел – надоело. Да и брезгую я их. Старуха руки, наверное, не моет… Прошу, помогите! Я зайду к вам после праздника.
Оставив директора, Петро снова повернулся к Сане.
– Вот она, моя жизнь. А все почему? Пью много. Ах, какая у меня жена! Разве бы я ее оставил? Да сам понял, что надоело ей все. Сказала она мне: поезжай, поживи один – может, одумаешься. Уехал я, все ей оставил. А здесь опять то же самое…
Саня смотрел на него. Не ухарь, не блатяга. Побитый какой-то. В глазах собачья тоска… Жалко такого.
Захотелось уйти. Саня поискал глазами своих и обрадованно шагнул к дверям. Из зала, сосредоточенно глядя под ноги, словно боясь оступиться, медленно шел Анатолий. По-обычному невзрачный, маленький. Все в той же куцей кепчонке, простеньком пиджачке. Только брюки почище да вместо сапог – ботинки. Он тоже увидел Саню, заулыбался. И Саня вдруг почувствовал себя легко.
Сейчас, целый день наблюдая грузчиков, Саня думал о том, что в жизни, пожалуй, люди разделяются так же. Одни хотят прожить поярче, поинтересней, пусть и потрудней. И едут такие отчаянные головы хоть на край света. Другие, где бы они ни были, везде трудятся хорошо, на совесть. И еще подумать надо, кто из них – первые или вторые – больше достоин уважения. А третьи… Третьи – так, всегда в пристяжке. И дело вроде делают, да все через пень-колоду… Сами свою жизнь устроить не могут. Как Петро… Этот и в грузчиках-то, наверняка, не поднимается выше третьей ступеньки.
Из разговоров в обед да в короткие перекуры узнал Саня, что большинство из сегодняшних грузчиков – отличные механизаторы: трактористы, шоферы, лебедчики. Пока на лесозаготовках весеннее бездорожье, и сплав еще не начался по-настоящему – отчего не поразмяться, не подработать. Ведь раз в год приходят суда, стоят всего несколько дней. А уйдут – тогда снова в лес, на основную работу, до следующего половодья.
Уже вечерело, когда, с трудом отмывшись от мучной пыли, Саня по привычке отправился на площадь. Почти четверо суток пролетело в одночасье. Завтра чуть свет – в обратный путь. Хотелось пройтись по поселку, зайти напоследок в клуб. Он все эти дни думал о Лене, и ему очень хотелось побыть в тех местах, где они бродили вдвоем.
Еще издали он увидел на заборе две афиши. Вспомнил прилетавший дважды за день вертолет, леспромхозовскую самоходку с необычными пассажирами, пришедшую из Гайн… Приехали артисты Кудымкарского драматического театра. Сегодня спектакль. Саня пошел к большому клубному крыльцу. А навстречу ему высыпали люди. Они расходились по домам. Они очень торопились. Больше всего было женщин. Они пересекали площадь и скрывались в улицах.
Возле клуба гомонила молодежь, степенно дымили папиросами мужики. Саня заметил немало знакомых лиц. Сегодня они целый день ходили мимо него с мешками. Потом обратил внимание на афиши. На одной – «Стряпуха». На другой – «Стряпуха замужем». А число и там, и тут одно.
И Саня все понял: сегодня два спектакля. Люди взяли билеты на оба. И женщины бежали домой, чтобы успеть за полчаса проведать ребятишек, подоить коров и снова вернуться в зал. Вернуться и войти в чужую жизнь, смеяться и плакать, по-житейски следить за происходящим на сцене.
Площадь опустела. Саня хотел было вернуться на берег, где последний вечер стояла самоходка, но увидел Адама Левковича. Тот размашисто шагал ему навстречу с приветливой улыбкой. Подошел, раскинув руки, стиснул Саню.
– Чего грустишь, мореход? Ведь утром домой. Или кто из местных царевен по сердцу царапнул?.. Не горюй, такая уж судьба наша. Пойдем-ка лучше к нам в общежитие. Посидим, языком потравим.
Он подхватил Саню под руку и тихо запел:
А завтра, может быть, проститься
Придут девчата, да не те.
Ах, море – синяя водица.
Ах, голубая канитель…
И они пошли рядышком: один – еще не определившийся в жизни, восемнадцатилетний, а другой, лет на десять старше, – уверенный в себе и щедрый от этой уверенности человек.
Земля эта – мать или мачеха?

Общежитие – сборный щитовой дом: четыре скрипучих крыльца, четыре двери, по две на каждом торце дома. Квартира – кухонька с плитой и комната на три койки со столом посредине.
Адам достал из тумбочки бутылку рислинга, прозрачного, искристого, с красной целлофановой маковкой.
– Мой любимый Абрау-Дюрсо. Пять лет по соседству с этим винным комбинатом провел в Геленджике да Новороссийске. Пристрастился там к сухому: полезно и голову не туманит, чистый виноградный сок. А здесь этим редко балуют.
Разлил по стаканам, пододвинул Сане:
– Ну, давай за вас, речников. Вы доставили. Какой-то торгаш ящиков двадцать этого добра послал.
На крыльце кто-то затопал, рванул дверь. Ввалился грузчик Петро.
– А-а, знакомая публика. Привет, старики! – Сел на аккуратно заправленную койку, вздохнул: – Ты, музыкант, не гони меня. Ребята сказали, что тут временно койка пустует. Пустишь?
Адам чуть заметно поморщился, поставил третий стакан.
– Живи…
Не вставая с койки, Петро лениво дотянулся до стакана. Отпил, перекосил губы:
– Кислятина марки «Старая дева». Ничего не мог придумать получше?
Адам, видно, смирился с присутствием незваного гостя, добродушно сверкнул глазами:
– Ты и без меня уже придумал.
– Было. Засосали на двоих.
Устроился поудобнее, закинул ногу на ногу.
– А как обойдешься без этого? День вкалываешь, потом что? Скукота. Все по своим углам, как медведи в берлогах. Суббота, хоть танцульки бы… Спектакль – кому он нужен? Тоже мне, Кудымкарский театр. Кое-что и получше их видели…
Адам спокойно крутил в сильных пальцах тонкий прозрачный стакан, снисходительно глянул сквозь него на грузчика:
– Это ведь кому как. Иному и в большом городе скучно, среди шумной толпы – пусто. Мается, бедный, не знает, куда себя деть.
– Ну, не скажите вы мне… Вот ты белорус. Знаю я, много вас тут таких переселенцев, Лосеровичей-Ничиперовичей. Чего ты здесь киснешь? Минск, говорят, не город, а хрустальная мечта моей юности. Вечер – всеми цветами огни сверкают. Девочки по гладенькому асфальтику гвоздиками туки-туки… В ресторанах – музычка. Мотал бы туда и жил во все свои тридцать три удовольствия.
– Чего мне Минск. Не бывал и не тянет. Вот закончим сплав, поеду в октябре опять в Геленджик. Море! На теплоходе с ребятами в рейс схожу. Целый месяц вольному воля. Хватит мне. А потом снова сюда – в эту берлогу, как ты говоришь. Зимой на тракторе, с весны – на катер.
Поглаживая светлые волнистые волосы, Адам смотрел на Петра и разговаривал с ним явно насмешливо, но старался не показывать этого. Он сдерживал свои губы, готовые без конца улыбаться, и потому очертания его маленького рта казались сухими, строгими.
Петро поднялся, нетвердой рукой ухватил бутылку, плеснул в стакан. Заходил по комнате.
– Да я не об этом. Одно мне непонятно. Выселили вас сюда. Кого – за дело, кого – за здорово живешь, за компанию. Но ведь срок-то давно прошел. Отжил свое и хватит. Валяй на землю предков, где жизнь потеплее, – наслаждайся. Чего вы тут приросли?..
Сначала Саня не понимал, о каких белорусах, о каких выселенных идет речь. Теперь вдруг все разрозненное и недоговоренное, что пришлось услышать за последние дни, слилось воедино.
Девушка-приемщица из береговых складов мимоходом обмолвилась, что построены они давно, еще поляками в тридцатом году. И на самом деле, среди белорусских фамилий жителей поселка немало встречается и польских… Едва различимая надпись на дверях склада: «Расписуюсь на долгую память. Гражданин Лентовский. 10/V 31». В книге о Коми-Пермяцком национальном округе, изданной Академией наук СССР в 1948 году, той самой, что дал ему почитать Анатолий, тоже говорится об этом. «Островки русского населения встречаются по Верхней Каме, вдоль ее долины – выше Гайн, по Весляне и в низовье Косы. Здесь много переселенцев 30-х и более поздних годов XX в.». «Нынешний поселок Усть-Черная возник в 1930 г. с организацией здесь лесозаготовок…»
Значит, родители Адама тоже были среди первых поселенцев, приехавших сюда не по доброй воле. Это были кулацкие да поповские семьи, а вместе с ними много таких, кто не разобрался еще в обстановке, четко не определил своего отношения к молодой Советской власти, к коллективизации, и потому противился новому. О них, надолго попавших в северные суровые края в общем-то за здорово живешь, и говорит Петро…
Только чувствует Саня, что не туда гнет этот недовольный жизнью человек. Услышал звон, а разобраться толку не хватило. Вон и Адам сидит слушает его, не перебивает, а сам все больше и больше хмурится. В глазах уже ни одной насмешливой искорки. И пальцы по столу беспокойно заходили.
А Петро опять развалился на койке, подушку под спину жамкнул, глаза под козырек кепки спрятал, трясет пепел сигареты на одеяло.
– Ну и земля! Кого только тут нет. Сплошной интернационал. Нет, я бы ее на вашем месте лютой ненавистью ненавидел. Дня бы не задержался, как разрешили. Мачеха ведь она вам, земля эта… Я сам каюсь теперь: приехал сдуру. Срок договора кончится – умотаю отсюда к чертовой маме… Ах, ах, энтузиасты, обживатели новых мест!
И Петро запел, гримасничая:
– Станем новоселами и ты и я…
Согласен: ты – пожалуйста, а я – увольте!
– Слушай, ты, всезнающий пуп земли! – не выдержал Адам. – И откуда в тебе столько злости, кто тебе на хвост наступил?
– А что, не нравится? Правду режу – не нравится?.. Едут. Обживают. За денежки. За рублики. Звонкая монета. Понял? И нечего тут красивые слова говорить…
Вот ты здесь за лето на сплаве сколько калымишь? Два куска с лишним. А уедешь – что? Только-только единица два нулика. Вот и держишься здесь. Так и скажи прямо, а то…
Адам побледнел, стиснул кромку стола – побелели суставы пальцев.
У Петра осунувшееся небритое лицо еще сильнее заострилось. Узенькое нервное лицо с оскалом желтых неровных зубов. Руки, вылезшие из коротких рукавов выгоревшей гимнастерки, подрагивают. Немытые руки с траурным ободком под ногтями.
И уже не жалость, как в тот раз, в клубе, вызывает его вид у Сани, а гнев. Ишь ты, разорался. Да он мизинца Адама не стоит. Смазать бы ему по губам, чтобы попридержал свой язык.
Петро вскочил с койки, голос его сорвался на хриплый крик:
– Мачеха она тебе, эта пермяцкая земля! Брось прикидываться!
– Тебя кто сюда звал? – вспылил Саня. – Чего скулишь? Иди повой на луну – полегчает. Гони ты его, Адам! Еще в одной комнате жить с таким… Да его на порог пускать не надо.
Загремел отброшенный стул. Адам резко поднялся. Кожа на скулах натянулась втугую. Голубые глаза застыли – холод в них, лед.
Петро попятился к двери:
– Но-но! Полегче.
Саня смотрел то на одного, то на другого.
Адам повернул стол. Испуганно звякнули стаканы.
– Катись отсюда, клоп! Раздавлю! Тебе вся земля – мачеха.
У Адама вдруг дрогнул голос.
– А мне она и здесь мать. Слышишь, ты? Мать родная!
Возвращение Адама

Крепко растревожил Адама залетный человечишка. Долго ходил Левкович по комнате, не обращая внимания на Саню, ненасытно курил сигарету за сигаретой. В памяти его невольно вставали кусочки не очень-то уж долгой, но нелегкой скитальческой жизни, омраченной с самого детства. От всего этого стало еще тяжелее, неуютнее на душе. Захотелось выговориться, поведать кому-нибудь о своем, самом сокровенном.
Саня хотел было уж оставить Адама одного, но тот присел рядом, хлопнул рукой по колену, проговорил тихо и немного печально:
– Так вот, Санчик, и живем. Легко нас обидеть походя, а мы должны своего держаться. Зубы стиснуть и вперед, только вперед. Никакого тебе заднего хода! Если даже нас и в прошлое носом тычут. А прошлое у меня непростое, как говорится, с закавыкой. Да и не у меня одного. У некоторых судьба посложнее…
Саня молчал, не перебивал Адама. И тот, не торопясь, раздумчиво, словно для себя самого, стал рассказывать о том, как оказался в Усть-Черной, уехал и потом снова вернулся на веслянскую землю – свою родину.
Осень уж спалила лиственные леса в заречье и вовсю прореживала, просветляла их. Но в эти дни выдалось такое солнце и тепло, что не мудрено было подумать о купанье. Тем более Адаму, давно не бывавшему в здешних краях, привыкшему к южному, согревающему тело морю.
Но никогда, наверное, Адам не одевался так быстро, как после этой осенней купели. Нижняя челюсть у него вдруг задрожала, словно рука на телеграфном ключе, выстукивающая сигнал бедствия. Сколько он ее ни сдерживал, она не унималась. Кожа на руках пошерохователа и натянулась. Не успев надеть туфли, Адам в одних носках начал приседать, приплясывать на паре новеньких черных валенок.
Валенки эти он купил неожиданно для себя. В магазинчике, куда он забрел, слоняясь по Гайнам, было сумрачно, пахло ржавой селедкой, лежалым табаком и нафталином. Возле прилавка толпились с десяток покупателей. Они мяли меховые шапки, придирчиво пробовали пальцами подошвы добротных валенок. Адаму давно не приходилось носить их. Он вдруг вспомнил, как трудно было тогда в лесу с теплой обувью. Валенки нигде не купишь. Они входили в спецодежду, да и то доставались не всякому. Их подшивали для крепости автомобильными покрышками, латали-перелатывали, пока не оставались лишь одни голенища, мятые, проношенные на сгибах; да и они годились еще на ушивку.
Еще не зная, пригодятся ли ему валенки, Адам решительно протиснулся к продавцу. Он так и пришел с ними под мышкой на пустынный берег…
Уняв дрожь, Адам вспомнил, что почти босой, увидел под ногами свою покупку и обрадовался. Через минуту он сидел на бревне, загорелый, в светлом костюме и черных валенках.
Он сидел и оглядывал тихую обмелевшую реку, безлюдные песчаные пляжи, протянувшиеся на несколько километров, маленькие катера, приткнувшиеся подле складов. Он думал о том, что там, где он недавно был, по-прежнему шумит курортный городок, дышит неоглядное, даже в спокойствии своем беспокойное море. Ему не верилось, что между этим и тем стоит всего лишь пять, каких-то пять дней, круто повернувших жизнь.
Тогда, в Геленджике, у Адама выдался между рейсами свободный день.
Возле берега плескалось мутное море. Оно лениво плевалось огрызками яблок, корками арбузов и дынь. Курортный сезон был в разгаре.
Шумные толпы на набережной, в садах, кишащие разноцветными купальными костюмами пляжи – ничто не привлекало Адама. Все это было привычным, набившим оскомину. Хотелось тишины, одиночества. Он вдруг поймал себя на том, что такое с ним уже не в первый раз. Какое-то недовольство, неопределенная тяга куда-то. Адам взял на прокат ялик и заплыл чуть ли не на середину круглой бухты – подальше от купальщиков, от парочек на лодках, от прогулочной дороги назойливых полуглиссеров. Он долго лежал в лодке, сложив весла. И долго вокруг него были только море и небо.
Небо – лукавый обманщик: прикидывается славным, согласливым собеседником. Оно вроде бы не докучает тебе, не настаивает на своем. А само исподволь манит неизведанной глубиной, неохватной ширью. Дескать, вот я какое – куда тебе до меня, да и много ли ты знаешь хотя бы о том, что подо мною…
Море тоже сладко шлепает о крутые борта, убаюкивает. Вкрадчиво воркует и воркует, все настойчивее, все увереннее, и вот уже зовет сплошной глубинный гул… Словно потянул радостный для морехода попутный ветер. Ставь паруса – и в путь…
К вечеру, когда Адам возвращался на лодочную станцию, в рыбачьем порту он увидел новенький траулер. На его лоснящейся краской скуле сверкало белилами: «Весляна». Словно кто-то весточку неуверенно подал: дойдет, не дойдет…
Слились море и небо воедино, в сплошную южную темноту, которую до самого горизонта мерно прокалывал красным лучом входной маяк. Адам сидел на веранде, крытой стареньким тентом, отчего это кафе завсегдатаи называли романтично, на старинный манер: «Рваные паруса». Он сидел с малознакомым местным матросом-спасателем.
Это был отчаянный парень, любитель острого морского словца. Адаму он запомнился тем, что однажды на его глазах до истерики напугал курортных дородных дам. Он, как обычно, патрулировал вдоль пляжа. В его лодке сидела девочка лет четырех в купальнике. Вдруг матрос поднял ее и швырнул в море, а сам сел за весла. На пляже раздался вопль, визг… Матрос улыбался во весь рот и уплывал все дальше от берега. И только теперь все заметили, что девочка уверенно плывет за ним. Ведь это была дочь моряка, отличного пловца.
А теперь он сидел перед Адамом и грустил. Он рассказывал о том, что вырос на Дальнем Востоке, а судьба забросила сюда. Он тоскует по снегу, по лыжам. Ведь когда-то ходил по первому разряду… «Иногда зимой встану утром и думаю: вот выгляну в окно, а кругом все искрится под морозным солнцем. Белым-бело. И над трубами столбами стоят дымы…»
Ночью Адаму приснился сон. Будто стоит он по колено в снегу. Кругом сосны, заиндевелые, высокие. Глянешь на верхушки – голову кружит. И будто начали падать эти сосны, с уханьем, с придыханьем, густо осыпая снег. Пушистый, мягкий снег падал на Адама, таял на лице и скатывался прохладными каплями.
Проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами. За окном шел дождь. В открытую форточку залетали капли, мелко брызгали на лицо. Уже светало. На стекле был виден преждевременно сорванный ветром еще совсем зеленый пятипалый лист клена.
Через неделю неожиданно для товарищей по команде Адам списался с теплохода, и скорый поезд Новороссийск–Москва понес его в среднерусскую осень.
Почти неделю сидел Адам в Гайнах, ожидая оказии. Осень стояла сухая, реки сильно обмелели, и катера на Весляну не ходили. Наконец, он узнал, что два небольших водометных катера в паре потянут в Усть-Черную орсовскую баржу-плоскодонку.
С утра Адам уже сидел на берегу. Как всегда, собирались долго и бестолково. То не было одного, то другого. Народу пришло много. Тесные каютки катеров заполнили начальство и женщины с ребятишками. Адаму пришлось устраиваться на барже вместе с веселыми ребятами-призывниками.
Дул северо-восточный мозглый ветер. Он ерошил серую воду, кропил все вокруг мелким осенним бусом и грудил над лесами хмурые снеговые облака. Адам насобирал вдоль берега чурбанов, обломков досок, разбитых ящиков. Раздвинув возле самого борта бочки с селедкой, он выстелил пол, сделал навес. Получилось уютное логово, где полулежа можно было с грехом пополам коротать неблизкую дорогу. Вот где Адаму сразу же пригодились валенки. Остальные пассажиры поглядывали на него с завистью.
Катера тянули медленно, с натугой. Баржонка неприкаянно болталась за ними на длинном буксире. Холодный ветер быстро остудил призывников. Нахохлившись, они трудно сидели на корме и тихо переговаривались.
Адам глядел на пустынные пески, на голые кустарники по берегу, на неуютный предзимний мир. И ему невольно думалось о том, как много лет назад в эти дикие места попали его отец с матерью. Он знал по рассказам, что добирались они сюда долго и тяжело. До Гайн несколько дней тащились по разбитой дороге на подводах.
А по Каме и Весляне поднимались вот так же, на барже, только еще медленнее. Было холодно и голодно. Тревожила неизвестность, пугали угрюмые, непроходимые леса.
Неприветливо встретили поселенцев здешние места. Зимовать пришлось в землянках; и кто выжил, того уж после нельзя было испугать никакими трудностями и житейскими тяготами.
Мать сильно простудилась в ту зиму и долго болела. Адам помнит ее очень смутно: она умерла, когда ему не было и пяти лет. Второй раз отец не женился, так и жили они, два необласканных мужика.
…Уже ночью, когда совершенно не стало видно реки, катера ткнулись в берег возле поселка. Ночевать все пошли в контору лесопункта.
Адам устроился на низком железном ящике – самодельном сейфе – и двух стульях. Он долго не мог заснуть. Жестко. Ни ног во всю длину не вытянешь, ни повернешься. В соседней комнате рассказывали анекдоты и хохотали взахлеб отогревшиеся в тепле стриженные призывники. Они ехали домой, чтобы собрать вещи и со дня на день ждать окончательного вызова в военкомат. В мыслях они уже были не здесь, а в своих частях, в не виданных еще ими больших городах или на далеких границах.
А у Адама все это было уже позади.
Он рано начал работать, совсем пацаненком, проучившись в школе всего семь лет. Поскольку был малолеткой, работал где придется – на подхвате. Потом уж стал чокеровщиком, цеплял за трактор спиленные лесины. Просился на курсы, да годы не вышли. Тогда прямо в лесосеке знакомые ребята научили его водить трактор, и вскоре Адам знал его, как таблицу умножения.
На восемнадцатом году он остался совсем один. А вскоре пришла повестка в армию. Служил он в строительных частях, занимался знакомым делом – водил бульдозер. Частые переезды, новые дороги, мосты – страницу за страницей разворачивала перед ним нескончаемая книга жизни. Демобилизовавшись, он очутился в Новороссийске, закончил курсы судовых мотористов и, казалось, надолго осел в теплых южных краях.
Погода словно сдурела. От недавних золотых дней не осталось и следа. Уже на подходе к Усть-Черной небо сыпануло мокрым снегом. Первый осенний снег падал на бочки, на одежду, на мутную воду и тут же таял. Адам ежился под ним и жалел, что уже разворошил свое логово.
Он теперь стоял на носу баржи и смотрел вперед, где за последним поворотом вот-вот покажутся старинные склады на берегу и избы поселка. Там, на окраине, должна стоять их избушка. Отец собственноручно срубил ее уже после смерти матери, не захотев больше жить в бараке. Цела ли она? Кто живет в ней? Узнают ли его?
Адам разволновался и мысленно подгонял тихоходные катера, хотя его никто не ждал в Усть-Черной.
Эх, если бы жив был отец! Он вдруг встал перед глазами Адама таким, каким был в последние годы. Окладистая с проседью борода, крючковатый нос, некогда голубые, поблекшие глаза. Они были светлые, ласковые, но когда отец в гневе, в них сверкала такая сталь, они так холодели, что становилось жутко.
Отец был отличным плотником, многое построил своими руками. Он весь отдавался работе, и за это все уважали его и прощали очередные выкрутасы. Неспокойного был он нрава. Не боялся ни бога, ни черта, под горячую руку так честил начальство и власть, что даже видавшие виды мужики хватались за головы.
Иногда на него находила хандра. Он напивался, сидел в избушке, стучал кулаком по столу и, глядя в пустой угол невидящими ледяными глазами, грозился уехать отсюда, от этой проклятой земли. Потом пьяно всхлипывал, вспоминал жену, жалел своего Адамчика и лез к нему целоваться.
Часто он собирался уехать на родину, как это сделали уже некоторые, но проходил день-другой, его снова захватывала работа и все оставалось по-старому. Он так и умер в своей избушке, на этой, по его словам, нелюбимой земле, где прошло больше половины его жизни. На земле, политой его потом, им оживлённой, им растревоженной.
Он лежал на деревянной кровати, лохматый, с запавшими глазами и еще больше заострившимся носом. По его задубелой щеке катились слезы, а он уже не мог стряхнуть их – не слушались руки. Они лежали поверх лоскутного одеяла, эти беспокойно скрюченные руки, все в темных прожилках. Отец пытался пошевелить ими, хотел повернуть голову. Он, видимо, силился что-то сказать Адаму, но только мычал, и крупные слезы скатывались по извилистым морщинам.
Он считал, что не любит эту, вначале совсем чужую для него, землю. Но постепенно, год за годом, она все сильнее притягивала его. Он рвался домой, да все откладывал на потом, еще не подозревая, что душой уже навечно прикипел к этим местам. Здесь была его жизнь, здесь был его многолетний труд, здесь был его дом.
Но он злился на себя за то, что не уехал. И плакал от слабости, чувствуя, что привязанность к этой земле оказалась сильнее его.
Может, об этом он и хотел сказать перед смертью?
Во всяком случае так казалось теперь Адаму. Он стоял на носу баржи и смотрел на окруженный сосновыми борами показавшийся за поворотом родной поселок.
И у него необычно сильно, отдаваясь звоном в ушах, колотилось сердце.






