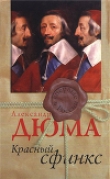Текст книги "Красный сфинкс"
Автор книги: Геннадий Прашкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Е. И Замятину повезло: вождь разрешил ему уехать.
В исполинской мастерской, в раскаленном пекле творения, в гудящем от напряжения горниле начавшегося чудовищного эксперимента по созданию нового, совсем нового человека, остались в основном писатели юркие. Для неюрких выбранный ими путь вел к активно обустраивающемуся ГУЛАГу.
«Вот был мой путь: от части к целому, – рассуждал герой романа „Мы“. – Часть – R-13, величественное целое – наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал, как могло случиться, что древним не бросалась в глаза нелепость их литературы и поэзии. Огромная великолепнейшая сила художественного слова – тратилась совершенно зря. Просто смешно: каждый писал – о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров – уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн – добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя – мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия – уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия – государственная служба, поэзия – полезность. Наши знаменитые „Математические Нонны“: без них – разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А „Шипы“ – этот классический образ Хранителя – шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний… Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: „Злой мальчик розу хвать рукой, но шип стальной кольнул иглой, шалун – ой, ой – бежит домой“ – и так далее? А „Ежедневные оды Благодетелю“? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные „Цветы Судебных приговоров“? А бессмертная трагедия „Опоздавший на работу“? А настольная книга „Стансов о половой гигиене“? Самая жизнь во всей ее сложности и красоте – навеки зачеканена в золоте слов. Наши поэты уже не витают в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира – утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран. Наши боги – здесь, внизу, с нами – в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго – мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша».
Берлин. Прага. Париж.
Несмотря на попытки, уехать в США не удалось.
В эмиграции Замятин, конечно, как всегда, держался особняком.
«Не думаю, – писала Н. Берберова, – чтобы он верил, что доживет до такой возможности (вернуться в СССР, – Г.П.). но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться». Она же удивлялась долгому добровольному молчанию Замятина. «И я думала: если ты здесь, то скажи об этом громко, не тая, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния, и сделай открытый выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела: мне было жаль его. Доживай и молчи. Это было теперь его тактикой».
Умер в Париже 10 марта 1937 года.
Марина Цветаева, провожавшая писателя в последний путь, писала Владиславу Ходасевичу: «Вчера на свежей могиле Замятина… бросила ему щепотку глины на гроб… Было ужасно, растравительно бедно – и людьми, и цветами, – богато только глиной и ветрами – четырьмя встречными… У меня за него – дикая обида…»
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
Родился 2 (14) мая 1891 года в Киеве.
Там же в 1916 году «окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием». Впрочем, «судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось. В конце 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни… В берлинской газете „Накануне“ в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны. Не при свете свечи, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу „Записки на манжетах“. Эту книгу у меня купило берлинское издательство „Накануне“, обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен. Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде. Год писал роман „Белая гвардия“. Роман этот я люблю больше всех других моих вещей».
«Тогда он был рядовым газетным фельетонистом, – писал о Михаиле Булгакове Валентин Катаев, – работал в железнодорожной газете „Гудок“, писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная Манишка. Он проживал в доме „Эльпит-рабкоммуна“ вместе с женой, занимая одну комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а иногда даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье. Он был несколько старше всех нас, тогдашних гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным, семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой, нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице… В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом. Он любил поучать – в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов… Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось нам совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами „Двенадцати стульев“ княгиней Белорусско-Балтийской».
«Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, – вспоминал сам Булгаков, – приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка – я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачесаны назад. Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую „луковицу“. Нажал кнопку – и мои фамильные часы проиграли нечто похоже на „Коль славен наш Господь в Сионе“. – „Ну-с?“ – вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествляя его. – „Ну-с, – хмуро ответил мне редактор. – Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек“. Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция закончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: „Не наш человек“. Без сомнения, это относилось ко мне».
Критика тем более не жаловала писателя. В «Литературной энциклопедии» (1930) указывалось: «Михаил Булгаков не сумел ни оценить гибели старого, ни понять строительства нового. Его частые идейные переоценки не стали поэтому источником большого художественного творчества». И далее: «М. Булгаков вошел в литературу с сознанием гибели своего класса и необходимости приспособления к новой жизни. Принял победу народа не с радостью, а с великой болью покорности». А критик В. Блюм без всяких выкрутасов в простоте святой заявлял: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй».
«Голубчик! – дивился профессор Преображенский в повести „Собачье сердце“ (1925; в СССР эта замечательная повесть была опубликована только через полвека после ее написания, был снят по ней и великолепный фильм. – Г. П.). -Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор запирать под замок? И еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?»
Фантастическая повесть «Роковые яйца» (1924) задумывалась Булгаковым как легкое чтение с приключениями, но масштаб ее не мог не поражать. «Смоленск горит весь. – Артиллерия обстреливает можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах… Эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами… Отдельная кавказская кавалерийская дивизия в можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив гигантские кладки страусовых яиц… Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся задержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке…»
Такой подход Булгакова к теме и к писательской технике, конечно, раздражал критиков, даже самых умных.
«Как пишет Михаил Булгаков? – не без иронии спрашивал Виктор Шкловский. – Возьмем один из типичных рассказов. „Роковые яйца“. Как это сделано? Это сделано из Уэллса. Общая техника романов Уэллса такова: изобретение не находится в руках изобретателя. Машиной владеет грамотная посредственность. Так сделаны: „Война в воздухе“, „Первые люди на Луне“ и „Пища богов“. В „Борьбе миров“ посредственность не владеет вещью, но вещь описывается именно средним человеком, не могущим ее понять. Теперь детальнее посмотрим „Пищу богов“. Два ученых открывают вещество, примесь которого к пище позволяет росту молодого животного продолжаться вечно. Они делают опыты над цыплятами. Вырастают огромные куры, опасные для человека. Одновременно один посредственный врач украл пищу. Он не умел обращаться с ней. Пища попала к крысам. Крысы стали расти. Стала расти гигантская крапива. Человечество стало терпеть неисчислимые убытки. Одновременно растут и добрые великаны, потомки ученых. Им пища пошла впрок. Но люди ненавидят и их. Готовится бой. Здесь кончается Уэллс. Роман, или рассказ, Михаила Булгакова кончился раньше. Вместо крыс и крапивы появились злые крокодилы и страусы. Самоуверенный пошляк ученый, который, похитив пищу, вызвал к жизни силы, с которыми не мог справиться, заменен самоуверенным „кожаным человеком“. Произведена также контаминация, то есть соединение нескольких тем в одну. Змеи, наступающие на Москву, уничтожены морозом. С одной стороны, он равен бактериям, которые уничтожили марсиан в „Борьбе миров“. С другой стороны, этот мороз уничтожил Наполеона. Вообще, это – косность земли, взятая со знаком плюс. Я не хочу доказывать, что Михаил Булгаков плагиатор. Нет, он – способный малый, похищающий „Пищу богов“ для малых дел. Успех Михаила Булгакова – успех вовремя приведенной цитаты».
«Наиболее типичными представителями активной новобуржуазной литературы, – указывал критик Георгий Горбачев, – являются литературные „сменовеховцы“ в буквальном смысле слова – И. Эренбург и А. Н. Толстой, начавшие свою деятельность как писатели буржуазно-дворянской интеллигенции. К этому же крылу может быть условно отнесен и довольно своеобразно „принявший“ современность М. Булгаков, выступивший в литературе в пореволюционные годы. Некоторые товарищи склонны сомневаться в явно издевательском смысле „Роковых яиц“ Булгакова по отношению к творческим, хозяйственным и культурно-организаторским способностям революционной власти и принимать повесть Булгакова за безобидную аполитическую сатиру против нашего головотяпства. Это можно делать, лишь рассматривая „Роковые яйца“ изолированно… В связи со всем подбором рассказов – (речь шла о книге М. Булгакова „Дьяволиада“, вышедшей в 1925 году, – Г.П.) для иллюзий места не остается… Бюрократизм, «проевший» наши государственные учреждения, принявший совершенно фантастические размеры в голове сведенного с ума чиновника и поднесенный автором, как дьявольский кошмар, сперва смешащий, потом пугающий читателя, – такова тема повести «Дьяволиада»… Допустим, что это бьет не по механизму, а по его «недостаткам» (совсем, конечно, не «маленьким»). Но рядом – «№ 13. Дом Эльпит. Рабкоммуна», на тему о гибели отнятого от хозяина дома, отапливаемого в своих интересах бывшим владельцем и его агентами, сгоревшего от небрежности и невежества новых жильцов-хозяев. Характерно, что поджегшая дом женщина не находит другого вывода, кроме заканчивающих рассказ слов: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков». Допустим, что вообще это – верно, но любопытен «вывод» в общем плане рассказа Булгакова… Наконец, «Дьяволиаду» венчает рассказ «Похождения Чичикова», в котором Павел Иванович, встав из сочинений Гоголя, с полным, по изложению автора, основанием убеждается, что для авантюристов, обжор, нахалов, жуликов никогда не было такой благоприятной обстановки, как в дни безнадежно-глупого большевистского практического управления и хозяйствования… Каждый рассказ М. Булгакова в отдельности может быть и безобиден, и даже полезен, но какова же книга, вся состоящая из таких рассказов, без единого слова сатиры, направленного своим острием в какую-либо другую, а не в советскую сторону?… На этом фоне осмеяния новой власти и общественности совершенно ясна тенденция повести о профессоре Персикове («Роковые яйца», – Г.П.), которого большевики отлично обслуживали, когда надо было охранять его от иностранных шпионов и праздных зевак методами ГПУ, но изобретение которого, благодаря «советской» торопливости, невежеству, нежеланию считаться с опытом и авторитетом ученых, сделалось источником не обогащения страны, а нашествия на нее всевозможных чудовищ».
Картину того, в какой обстановке жил Михаил Булгаков, можно получить из его письма Сталину, написанного в июле 1929 года.
«В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературной работой в СССР. Из этих десяти лет последние четыре года я посвятил драматургии, причем мною были написаны 4 пьесы. Из них три („Дни Турбиных“, „Зойкина квартира“ и „Багровый остров“) были поставлены на сценах государственных театров в Москве, а четвертая – „Бег“, была принята МХАТом к постановке и в процессе работы Театра над нею к представлению запрещена. В настоящее время я узнал о запрещении к представлению „Дней Турбиных“ и „Багрового острова“. „Зойкина квартира“ была снята после 200-го представления в прошлом сезоне по распоряжению властей. Таким образом, к настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещенными, в том числе и выдержавшие около 300 представлений „Дни Турбиных“…
В 1926-ом году в день генеральной репетиции «Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ отправлен в ОГПУ, где подвергался допросу. Несколькими месяцами раньше представителями ОГПУ у меня был произведен обыск, причем отобраны были у меня «Мой дневник» в 3-х тетрадях и единственный экземпляр сатирической повести моей «Собачье сердце». Ранее этого подверглись запрещению: повесть моя «Записки на манжетах». Запрещен к переизданию сборник сатирических рассказов «Дьяволиада», запрещен к изданию сборник фельетонов, запрещены в публичном выступлении «Похождения Чичикова». Роман «Белая гвардия» был прерван печатанием в журнале «Россия», т. к. запрещен был самый журнал…
По мере того, как я выпускал в свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все большее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса, не только никогда и нигде не получило ни одного одобрительного отзыва, но напротив, чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростнее становились отзывы прессы, принявшие наконец характер неистовой брани. Все мои произведения получили чудовищные, неблагоприятные отзывы, мое имя было ошельмовано не только в периодической прессе, но в таких изданиях, как Б. Сов. Энциклопедия и Лит. Энциклопедия. Бессильный защищаться, я подавал прошение о разрешении хотя бы на короткий срок отправиться за границу. Я получил отказ. Мои произведения «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» были украдены и увезены за границу. В г. Риге одно из издательств дописало мой роман «Белая гвардия», выпустив в свет под моей фамилией книгу с безграмотным концом. Гонорар мой за границей стали расхищать. Тогда жена моя Любовь Евгениевна Булгакова вторично подала прошение о разрешении ей отправиться за границу одной для устройства моих дел, причем я предлагал остаться в качестве заложника. Мы получили отказ.
Я подавал много раз прошения о возвращении мне рукописей из ГПУ и получал отказы или не получал ответа на заявления. Я просил разрешения отправить за границу пьесу «Бег», чтоб ее охранить от кражи за пределами СССР. Я получил отказ. К концу десятого года силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу ходатайства перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ Л. Е. БУЛГАКОВОЙ, которая к этому прошению присоединяется».
Ту же просьбу М. Булгаков повторил в письме к А. С. Енукидзе в сентябре 1929 года, одновременно обратившись за помощью к Максиму Горькому. Доведенный до отчаяния отсутствием каких-либо ответов, в марте 1930 года он пишет еще одно письмо Правительству СССР. «Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных – 298… Героя моей пьесы „Дни Турбиных“ Алексея Турбина печатно в стихах называли „СУКИНЫМ СЫНОМ“, а автора пьесы рекомендовали как „одержимого СОБАЧЬЕЙ СТАРОСТЬЮ“. Обо мне писали как о „литературном УБОРЩИКЕ“, подбирающем объедки после того, как „НАБЛЕВАЛА дюжина гостей“. Писали так: „МИШКА Булгаков, кум мой, ТОЖЕ, ИЗВИНИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ, ПИСАТЕЛЬ, В ЗАЛЕЖАЛОМ МУСОРЕ ШАРИТ… Что это, спрашиваю, братишечка, МУРЛО у тебя… Я человек деликатный, возьми да и ХРЯСНИ ЕГО ТАЗОМ ПО ЗАТЫЛКУ… Обывателю мы без Турбиных, вроде как БЮСТГАЛЬТЕР СОБАКЕ, без нужды… Нашелся, СУКИН СЫН, НАШЕЛСЯ ТУРБИН, ЧТОБ ЕМУ НИ СБОРОВ, НИ УСПЕХА…“ („Жизнь ИСКУССТВА“, № 44 – 1927 г.)… Писали „О Булгакове, который чем был, тем и останется, НОВОБУРЖУАЗНЫМ ОТРОДЬЕМ, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы“ („Комс. Правда“, 14/X. 1926 г.)… Сообщали, что мне нравится „АТМОСФЕРА СОБАЧЬЕЙ СВАДЬБЫ вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля“ (А. Луначарский, „Известия“, 8/X – 1926 г.) и что от моей пьесы „Дни Турбиных“ идет „ВОНЬ“ (Стенограмма совещания при Агитпропе в мае 1927 г.), и так далее, и так далее…»
Заканчивалось письмо Михаила Булгакова новой просьбой «приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР». – «Если же это окажется по каким-то причинам невозможным, то я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в ДАННЫЙ МОМЕНТ, – нищета, улица и гибель…»
Чтобы не пересказывать многочисленных версий, связанных с известным звонком Сталина Михаилу Булгакову, приведем дневниковую запись Елены Сергеевны Булгаковой, жены писателя. «18 апреля ему позвонил Сталин. – „Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?“ – „Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может“. – „Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?“ – „Да, я хотел бы. Но я говорил об этом – мне отказывали“. – „А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся“.
Всего за четыре дня до этого звонка застрелился Маяковский. Несколько раньше покончили с собой Сергей Есенин и Андрей Соболь. Вождю не нужна была еще одна скандальная смерть. Казалось бы, все это легко угадывалось, но до самого конца Михаила Булгакова мучила мысль о несостоявшейся встречи со Сталиным («Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами»). «Есть у меня мучительное несчастье, – писал он Вересаеву в июле 1931 года. – Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и черный гроб».
К лету 1938 года Булгаков закончил вчерне роман «Мастер и Маргарита». Жанр им сразу был определен как фантастический. Так и было написано поверх листа с вариантами названий («Великий канцлер. Сатана. Вот и я. Шляпа с пером. Черный богослов. Он появился. Подкова иностранца») – «фантастический роман».
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат», – эти строки ложатся в память, как чеканные стихи. Но тем же летом 1938 года Булгаков с горечью писал жене: «Что будет?» – ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его (роман, – Г.П.) в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму ящика. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
Триумфальное шествие «Мастера и Маргариты» по миру началось с его первой публикации в журнале «Москва» в 1966–1967 годах. А тогда, в 1938 году, он писал жене: «Эх, Кука, тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман…»
«Когда в конце болезни он уже почти потерял речь, у него выходили иногда только концы или начала слов, – вспоминала Елена Сергеевна Булгакова. – Был случай, когда я сидела возле него, как всегда, на подушке на полу, возле изголовья его кровати, он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье – лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: „Твои вещи?“ Он кивнул с таким видом, что и „да“ и „нет“. Я сказала: „Мастер и Маргарита“? Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что „да, это“. И выдавил из себя два слова: „Чтобы знали, чтобы знали“.
Появление Сатаны в советской Москве…
Конечно, такой сюжет был заведомо непроходимым…
Человек сам управляет жизнью своей и вообще всем распорядком на земле, уверенно заявил советский поэт Бездомный, на что подозрительный иностранец ответил Бездомному: «Виноват, для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… саркома легкого… – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай…»
«Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио, – говорит Воланд. – Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали. – Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка. – „Вот и все, – улыбаясь, сказал Воланд, – он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна“.
Умер М. А. Булгаков 10 марта 1940 года в Москве.
На могиле его лежит камень, лежавший ранее на могиле Гоголя.
«Боги, боги мои! – можно прочесть в знаменитом романе. – Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна…»
Следует недосказанность.