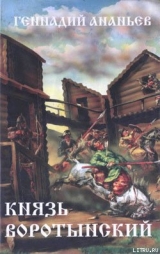
Текст книги "Князь Воротынский"
Автор книги: Геннадий Ананьев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Явно расстроенным уезжал князь Иван Вельский, забыл даже, что планировал для отвода глаз побывать хотя бы на одной стороже. Сразу направил коня в Серпухов. Угнетало его и сомнение, верно ли поступил, открывшись Воротынскому, особенно при детях его, и призвав его в сообщники. За отказ Бог ему судья, а вот чего доброго в верховную думу и правительнице вестового с наветным письмом пошлет, тогда уж несдобровать.
Князю Воротынскому так бы и следовало поступить, коль скоро он искренне не желал ослабления России ни своей изменой, ни изменой других князей, считая переметчиков недостойными уважения людьми, но обида на верховную думу, на самою Елену, вовсе его забывших, все еще не проходила, к тому же он считал последним делом нарушать закон гостеприимства: не осуждать гостя, как бы он себя ни вел, не выносить на всеобщую молву то, о чем велась с гостем беседа. Это князь Воротынский считал для себя святым.
Правда, он намеревался переехать на какое-то время в московские свои палаты, чтобы снять возможные к нему подозрения, если кто другой, с кем князь Иван Вельский станет вести подобные речи, выдаст его, а верховникам и царице станет известно, что бывал Вельский и у него в гостях, – опасался Воротынский незаслуженной опалы, хорошо зная, что тогда не избежать допросов, а то и пыток; но скорая поездка в Москву не сложилась, а причиной тому стала новая сакма, прорвавшаяся через засечную линию.
Появилась она нежданно-негаданно. Ни станицы, высылаемые из сторож в Поле, ее не обнаружили, ни лазутчики не уведомили. Прошила сакма край белевскои земли, и пошла гулять по уделу Воротынских. Белевская дружина кинулась за сакмой, только у нее, как говорится, одна дорога, у татар-разбойников – сотни.
Князь Иван тоже с малой дружиной кинулся в погоню и тоже не успевал опередить ворогов, а шел лишь по ископоти сакмы. Горестно было видеть пограбленные и порушенные села, но Воротынский все же надеялся, что большая дружина, которую он отправил на засечную линию и повелел искать захоронки курдючного сала, а, найдя их, сесть в засаду, перехватит сакму и воздаст за содеянное зло сполна.
Неуловимость сакм – в их стремительности. Даже отход их с награбленным и полоном необременительным, как правило, быстр на удивление. Долго не могли порубежники засечной линии противопоставить той быстроте что-либо реальное. Чаще всего сакмы уходили безнаказанно. Создавалось такое впечатление, что ни люди, ни кони во время набега ничего не пьют и не едят, а только скачут и скачут. Даже грабят села почти без остановок. Как такому не удивляться, как не думать о нечистой силе?
Но удивление и суеверный страх прошли, когда один да другой раз казаки-порубежники нашли захоронки с бараньим курдючным салом, которые готовили татары загодя, особенно на пути возвращения в Поле. Курдючное сало им и пищей и водой служило. Как коням, так и всадникам. Подскачут, раскидают дерн и траву, напихают в рот коням сало, сами поглотают его живоглотом и – вперед. Если же казаки или княжеские дружинники сидят на хвосте, то и на такую стремительную кормежку время не тратят, а, похватавши курдюки, кормят салом коней на скаку.
Поначалу казаки разоряли захоронки, и это, конечно, имело эффект, но не так уж и большой: у татар всегда имелись запасные тайники. Пошли тогда порубежники иным путем: выставляли засады на том пути, который приготовлен сакмой для отступления. И очень важно было сторожам и станицам засечь подготовку тайников с салом, оповестить без промедления о том воевод. Если такое удавалось, к встрече с сакмой готовились, и даже случись, что она проскочит засечную черту, обратный путь ей будет заказан.
На этот раз станицы и сторожи готовились к встрече сакмы (в другом месте и чуть позже), о какой прислали известие из степи и, естественно, разведку на других участках границы ослабили, оттого и прозевали подготовку к набегу, оставив тем самым княжеские дружины Белева и Воротынска без нужных им сведений. Белевцы и воротынцы безуспешно пока гонялись за сакмой, и лишь надежда, что будет найден путь отхода татар, подбадривала их, питала мысль о справедливой мести.
Третий день погони. Сакма явно повернула на юг и ускорила без того сумасшедший темп. Преследователи отставали все больше и больше. Похоже было, что на сей раз грабители выскользнут в свои улусы безнаказанно, ибо так и не дождался вестей князь Иван Воротынский от своего сына Михаила, которого послал вместе с Двужилом и с большой дружиной на перехват сакмы. Князь досадовал, что на сей раз они оказались нерасторопными. Даже не удержался и посетовал княжичу Владимиру, которого взял с собой:
– Что-то не сладилось у Михаила с Никифором. Если не накажем сакму, она и на следующий год пожалует.
– Стал быть, худо, – согласился княжич Владимир, да собственно, он не знал, что ответить отцу. Попавший впервые в такую переделку, он был угнетен тем безжалостным разором, какой оставляли после себя крымцы, и не очень-то вникал в действия отца, а о большой дружине, которой надлежало отрезать пути отхода, вовсе не думал.
– Худей худого, – вздохнул князь Иван. – Срам. С какими глазами пожалуем домой?!
Только зря сокрушался князь-воевода. Прежде времени. Одна из станиц нашла, наконец, захоронку с салом. Далеко, правда, от засечной линии. Наверняка второй пункт питания на пути отхода. Выслушав гонца от станицы, княжич Михаил и Никифор Двужил прикинули, где может быть передовая захоронка и, выслав тут же казаков искать ее, поспешили следом со всей дружиной. Расчет их оказался верным. Ближнюю захоронку нашли скоро. Устроили ее татары почти сразу же за засекой, на большой лесной поляне. Никифор, осматривая местность, удивился даже:
– Иль ума у них мало, коль такое место выбрали?
Казак же из разъезда, нашедшего тайник, не согласился:
– Не о том, Двужил, говоришь. Место отменное. Не случай, ни за что не пошли бы его. На это басурманы и рассчитывали.
– На что они рассчитывали, им судить да рядить, – возразил Никифор. – А мы тут сготовим для них засаду. Тут всех и положим.
– А я бы не стал здесь засадить. Будто они дозоры впереди не имеют? Обнаружат те засаду, обойдет ее сакма лесом и – дело с концом.
– Верно, – поддержал казака княжич Михаил. – Если с полверсты вперед подадимся, в самый раз будет. Сакма, уверенная, что ее не ждут, не столь насторожена будет, да еще продолжит коней кормить на скаку, сами будут еще глотать сало. Тогда хорошо можно встретить.
Никифор согласился без упрямства. От разумного чего ж отмахиваться, цепляясь за свое?
С трудом, но нашли подходящее место. Совсем недалеко от опушки, за которой начиналась степь с редкими перелесками. Одно смущало: если кому из крымцев удастся прорваться сквозь засаду, уйдет тот, считай, от расправы.
– Ничего не попишешь. Бог даст, побьем и пленим всех разбойников, – заключил Никифор и принялся вместе с Михаилом устраивать так засаду, чтобы сакма оказалась в мешке. Предложил княжичу:
– Как считаешь, князь, не стать ли мне на выходе, а тебе горловину мешка завязать, чтоб назад не попятились басурманы да не растеклись бы по лесу?
– Согласен. Самые жаркие места возьмем под свое око.
Дружины белевская и малая воротынская, теперь уже сойдясь вместе, спешили по ископоти сакмы, понимали, однако, что нагнать ее не удастся: кони их шли на пределе сил, приходилось делать частые привалы, чтобы совсем они не обезножили, чтобы оставалась хоть какая-то надежда, а не наступил бы ее окончательный конец.
Передовые выехали на лесную поляну, где был тайник с салом, и поняли, что все, сакма ушла: в самом центре поляны дерн сброшен и, уже без мер предосторожности, разбросана и трава, а не очень глубокий, но широкий котлован поблескивал кусочками оставшегося от курдюков сала.
– Что? Можно ворочаться? – высказал воевода белевской дружины свое мнение. – Передохнем малое время и – по домам. Так, видно, Бог судил.
– Я пойду дальше. До самой степи. Тут уж всего ничего до нее осталось, – возразил князь Воротынский. – Пойду и в степь верст с полсотни. Вдруг на привал остановятся басурманы.
– Иль осилишь малой дружиной? Придется и мне с тобой.
– Пошли, коль так.
Тронулись, послав вперед дозорных на самых выносливых конях, и едва успели дружины втянуться в лесную дорогу, дозорные назад скачут. Восторженные.
– Все! Нет сакмы! Князь Михаил перехватил ее и побил!
Вернув свою и белевскую дружины на поляну, князь Воротынский с Владимиром порысил к большой своей дружине, и то, что увидел он, наполнило его сердце гордостью за сына, за боевую дружину свою: осталось от сакмы всего дюжины полторы пленных, пахарей освобождено более сотни, заводных коней, навьюченных добром белевских и воротынских хлебопашцев – внушительный косяк, а для оружия и доспехов, снятых с убитых ворогов, хоть обоз целый посылай.
Возвернув белевцам их пахарей и часть отбитого добра, тронулась неспешно отягощенная дружина князя Воротынского домой. Ни сам князь, ни сыновья его не предчувствовали беды, их ожидавшей. Князь блаженствовал душой и мыслями, благодарил Бога, что тот послал ему таких сыновей (он и Владимира считал причастным к победе), а княжичи тем временем вели разговор о том, как удалось Михаилу разведать тайники с салом и сделать засаду так ловко. Михаил старался объяснить младшему брату мотивы своих действий, особенно растолковывал то, отчего не сделана была засада вокруг поляны с тайником. О совете казака-порубежника он отчего-то запамятовал поведать. Каково же было удивление князя, сыновей его и всей дружины, что не встречал их, победителей, город колокольным звоном.
– Иль вестовой не доскакал? Не могло такого быть.
Вестовой доскакал, как и надлежало ему. Известил, что князь с дружиной возвращаются со щитом, но это не принесло радости ни княжескому двору, ни городу. Город уже знал, что во дворце князя полусотня стрельцов царевых ожидает князя и сыновей его, чтобы оковать. И как только князь и княжичи въехали в ворота, стрельцы отсекли их от дружины копьями наперевес, а стрелецкий голова, положив руку на плечо князя, произнес заученно:
– Именем государя ты, князь, пойман еси!
Руки дружинников без всякой на то команды легли на рукояти мечей, но князь остановил соратников:
– Царева воля для меня, холопа его – воля Господа Бога. – И к стрелецкому голове: – Дозволь проститься с княгиней да доспехи сменить на мягкую одежду?
– Нет! – резко ответил стрелецкий голова. – Одежда тебе и твоим сыновьям приготовлена уже. В пути смените.
Он, конечно же, не был извергом, но знал: сделай хоть малое попустительство, сам в цепях окажешься. Еще и на каторгу угодишь. С ним не станут цацкаться, как с князем…
Везли их споро, охрана ни днем, ни, особенно, ночью, не дремала, словно в руках у нее великие преступники, которые либо сами намерены сбежать, либо которых непременно попытаются отбить их сообщники. Когда же въехали в Москву, стрельцы сомкнулись вокруг двойным кольцом и так доставили прямиком в пыточную. Там их ждал конюший боярин князь Овчина-Телепнев-Оболенский. Пылал горн, раздуваемый мехами, пахло плесенью и паленым мясом, на широких скамьях, стоявших у замшелых, в кровяных сгустках стен, запекшаяся кровь перемежалась с совсем еще свежей. Справа и слева от горна – щипцы различной величины и формы, ржавые от несмываемой с них крови; но самое ужасающее зрелище представляла дыба, установленная в самом центре пыточной.
Князь Овчина-Телепнев подошел к князю Ивану, смерил его презрительным взглядом и спросил:
– В Литву захотел?!
Воротынский отмолчался, что вызвало явное раздражение Овчины. Он взвился:
– Я вопрошаю не шутейно: хотел в Литву?! С кем имел сговор?!
– Не помышлял даже. Сговора ни с кем не имел.
– Брешешь! Ведомо мне все. Сыновей тоже намеревался с собой увести!
– А мне сие не ведомо.
– Не дерзи! На дыбе повисишь, плетей да железа каленого испытаешь, иначе заговоришь! Благодари Бога, что недосуг мне нынче. Есть время вам раскинуть умишком и вспомнить, чего ради у вас гостил князь Иван Вельский, какой имел с ним сговор. Допрос снимать стану завтра. Не заговорите правдиво – дыба.
Князь Телепнев лукавил, что недосуг ему. На самом же деле пытать князя Ивана Воротынского и его сыновей не велела правительница Елена, как Телепнев не давил на нее. А правительницу сдерживала девичья клятва в вечной дружбе с княгиней Воротынской. Елена ждала ее. Знала, что примчится она вслед за мужем и сыновьями. И не ошиблась. На следующее же утро, еще в опочивальне, Елене сообщили о княгине Воротынской.
– Хочет тебя, государыня, видеть.
Но вместо обычного, к какому привыкли прислужницы Елены: «Пусть входит», последовало холодное:
– Подождет. Приму после завтрака.
Растянулась утренняя трапеза более чем на час. Затем Елена навестила сына, что тоже делала не так уж часто, и только после этого вспомнила о гостье.
– Просите княгиню.
Елена не пошла навстречу своей подруге, не обняла ее, как бывало прежде, не расцеловала, наоборот, принял горделиво-надменную позу царствующей особы (для нее – полячки, надменность, брезгливо-пренебрежительный взгляд на россиянку, хотя и княгиню, был естествен, и прежде она играла в дружбу, сейчас же предстала перед княгиней в настоящей своей натуре), величественным жестом, словно нисходит до величайшей милости, указала княгине на узорчатую лавку, сама же села на массивный стул, формой и дорогой инкрустацией схожий с троном. Спросила с холодной величавостью:
– Слушаю тебя, княгиня. С чем пожаловала?
И без того подавленная, теперь еще удрученная столь ошарашивающим приемом, княгиня выдавила с трудом:
– Тебе, Елена, – поправилась спешно, – великая княгиня государыня наша, ведомо, чего ради я здесь.
– И что же ты хочешь?
– Милости.
– Ха, милости! Не я ли вызволила супруга твоего из оков, поверив твоей мольбе, что чиста его совесть, а вышло как?!
– Никак не вышло. Чист в делах и помыслах мой князь. И дети мои чисты.
– Чисты, говоришь?! А ты сама не желаешь в монастырь?!
– За что, Елена, – вновь спешно поправилась, – государыня?
– Лятцкий гостевал у вас, чтоб сговориться о присяге Сигизмунду?!
– Свят-свят! – перекрестилась княгиня. – Гостевать – гостевал, то правда, речи, однако, ни о Литве, ни о Польше не вел. Клянусь детьми своими. Князь, верно, удивился, чего ради окольничий пожаловал к забытому всеми князю, а мне-то что, я – хозяйка. Как же гостя за порог выставлять?
– Ишь ты – хозяйка! Или тебе путь ко мне был заказан что ни пришла с вестью, что Лятцкий гостил? Не удосужилась! Лятцкий с Симеоном Вельским – в бега, вы – в удел.
– Не ведали мы той крамолы. Покуда посланец от Сигизмунда не пожаловал.
– Письмо сигизмундово к твоему супругу у меня. Да и сам посланец в руках у князя Телепнева побывал. В письме черным по белому писано: сговор с Лятцким был. На дыбе подтверждение тому устное получено!
Холодный пот прошиб княгиню. То, что не сделал сам князь, сделал кто-то из младших воевод, вовсе не оповестив своего государя. «Предательство! Кто предал?! Кто?!» Не подумала она, что за ее мужем князь Телепнев по повелению Елены установил слежку. В голову такое даже не приходило. Ответила резко, вопреки полной своей растерянности:
– Князь Воротынский, не взяв письма, велел взашей гнать посланца сигизмундова!
– И это я знаю. Только, думаю, не игра ли коварная?
– Нет, государыня! Нет! Поверь мне!
– Я бы, возможно, поверила, только как ты объяснишь то что вскорости после сигизмундова посланца князь Иван Вельский наведался к вам?
– Как главный воевода. Князь мой дружину, почитай, вылизал, на сторожи людей своих разослал…
– Чего же Вельский, отобедавши, тут же воротился в Серпухов? Теперь он окован. Вина его в желании присягнуть Сигизмунду.
– Не было, государыня, речи о крамоле какой. Я как хозяйка сама кубки гостю почетному подносила. Все на слуху моем было. Ни слова о Сигизмунде. После трапезы на малое время по воеводским делам, думаю, удалились мужчины. Князь, сыновья мои и гость. Только вскорости князь Вельский велел подводить коня. Не в духе. Должно быть, о сакме супруг мой ему поведал. Из степи весть пришла, будто готовится еще одна сакма. Одну, что после сигизмундова посланца налетела, побили, ан – новая наготове.
Зря княгиня упомянула об уединенном разговоре мужчин, особенно о том, что в разговоре участвовали и ее сыновья. Ой, как опрометчиво было это признание! Слукавить бы, стоять на том, что сразу после трапезы поспешил Вельский в Серпухов, что, кроме того, как идет служба на сторожах, кроме рассказа, как была побита последняя татарская сакма, ничего не говорилось; но княгиня не привыкла хитрить, а сейчас, когда просила за мужа и детей, вовсе не желала что-либо скрывать, веря, что рассказанная ею правда вполне убедит Елену в невиновности князя и княжичей. Как она ошибалась! Проводив просительницу, Елена позвала князя Телепнева.
– Думаю, дорогой мой князюшка, Иван Воротынский не замышлял крамолы, а вот склонять к Сигизмунду его склоняли.
– Он, моя Елена, виновен уже в том, что не донес об этом.
– Верно. Я не намерена миловать Воротынских. Более того, прошу, мой князь, дознайся, о чем с ними говорил изменник Лятцкий и, особенно, Иван Вельский.
– Станут ли они признаваться миром?
– Заставь!
– Благослови, Господи!
В то самое время, когда правительница Елена и любезный сердцу ее князь Овчина-Телепнев обсуждали судьбу узников Воротынских, князь Иван советовался с сыновьями, как вести себя под пытками, которых, по его мнению, им не миновать.
– Самое легкое – выложить все о намеках окольничего Лятцкого и о предложении князя Ивана Вельского. Все, как на духу. Обвинят тогда за недонос. Опалы не снимут, особенно с меня, но живота не лишат. Только, мыслю, чести роду нашему такое поведение не прибавит. Лятцкий и Вельский на порядочность рассчитывали, со мной беседуя, а я – предам их. По-божески ли? По-княжески? Доведись мне одному под пытку, я бы отрицал крамольные речи. Лятцкий лишь наведался и все тут, а главный воевода о сторожах и сакмах знать желал. Посильно ли вам такое? Сдюжите ли плети, железо каленое, а то и – дыбу?
– Посильно, – без пафоса ответил Михаил. – С Лятцким мы не виделись, ты, князь-батюшка один его потчевал, князь же Вельский по воеводским делам прибыл, о порубежной страже речи вел.
– Верно все. Как ты, князь Владимир?
– Умру, но лишнего слова не вымолвлю!
– О смерти – не разговор. На пытках мало кто умирал. Выдюжить боль и унижение не всякому дано.
– Выдюжу.
– Славно. А смерть? Она придет, когда Бог ее пошлет. За грехи наши тяжкие.
Трудно сказать, за какие грехи Бог послал смерть, чтобы прибрала она к своим костлявым рукам князя Ивана Воротынского, но отдал он Богу душу сразу же после пытки, хотя его самого Овчина лишь «погладил» плеткой.
Когда их ввели в пыточную, каты без лишних слов сорвали одежды с Михаила и Владимира, а князя Ивана толкнули на лавку в дальнем углу, чуть поодаль от которой, за грубым тесовым столом сидел плюгавый писарь, будто с детства перепуганный. Гусиные перья заточены, флакончик полон буро-фиолетового зелья. Писарь словно замер в ожидании. Бездействовали и каты. Лишь крепко держали гордо стоявших нагими юношей, статных, мускулистых, хотя и белотелых. Вошел Овчина-Телепнев. Сразу к князю Ивану Воротынскому.
– Выкладывай без изворотливости, какую замыслил крамолу против государыни нашей, коей Богом определена власть над рабами ее?! Что за речи вел ты с Лятцким да с Иваном Вельским?! Не признаешься, детки твои дорогие испытают каленое железо.
Горновой тем временем принялся раздувать угли мехами, и зловеще-кровавые блики все ярче и ярче вспыхивали на окровавленных стенах и низком сыром потолке пыточной. Овчина-Телепнев продолжал, наслаждаясь полной своей властью:
– Погляди, как великолепны княжичи. Любо-дорого. Останутся ли такими, в твоих, Ивашка, руках.
Шилом кольнуло в сердце оскорбительное обращение Овчины. Словно к холопу безродному. Едва сдержался, чтобы не плюнуть в лицо нахалу. Заговорил с гордым достоинством:
– С окольничим Лятцким никаких крамольных речей не вел. Приехал он с Богом и покинул палаты мои с Богом. С главным воеводой речной рати князем Иваном Вельским о сторожах и сакмах да о новых засеках речи вели, потрапезовав.
– Брешешь! – гневно крикнул Овчина-Телепнев и огрел витой плеткой князя по голове, затем повернулся к юным князьям, которые рванулись было на помощь к отцу, но каты моментально заломили им руки за спины (им не впервой усмирять буйных), и вроде бы не слыша невольно прорывающиеся стоны сквозь стиснутые зубы, спросил вовсе без гнева:
– Верно ли говорит отец ваш?
– Да, – в один голос ответили братья.
– Гаденыши! – прошипел Овчина и крикнул заплечных дел мастерам: – В кнуты! В кнуты!
Долго прохаживались по спинам княжичей, прикрученных к липким от неуспевающей высыхать крови лавкам; синие рубцы, вздувавшиеся поначалу от каждого удара, слились в сплошное сине-красное месиво, но юные князья даже не стонали. А Телепнев время от времени вопрошал князя Воротынского:
– Одумался? Может, прекратить?
– Я сказал истину, – упрямо отвечал Воротынский. – Наветом род свой не опозорю!
Истязатели взяли раскаленные до синевы прутья. Овчина вновь к Воротынскому:
– Ну?
– Навета не дождешься.
Вновь удар плеткой по голове и крик гневный:
– Пали змеенышей!
Медленно, словно выжигали по дереву, навели на ягодицах юных князей кресты. Шестиконечные. Православные. И вновь даже стона не вырвалось из уст истязаемых.
Телепнев все грозней подступает к князю-отцу. Теперь уже предварил вопрос ударом плетки.
– Ну?!
– Ни слов крамольных не вел, ни мыслей крамольных не держал.
Еще удар плеткой по голове, еще и еще… Затем, выплеснув в эти удары все зло души своей, Овчина обмякшим голосом повелел:
– Все. Достаточно на первой раз. Пусть поразмыслят, каково будет в следующий. Глядишь, сговорчивей станут.
Князь Воротынский поднялся было с лавки, чтобы подойти к детям, помочь им накинуть хотя бы рубашки, но ноги не удержали его. Ничего у князя не болело, только полная пустота в груди и ватные ноги. Княжичи кинулись к отцу, забыв о своей боли, принялись оттирать с его лица кровь, потом, помогая друг другу, быстро накинули лишь исподнее. Михаил обнял отца и повел его, немощного старца, а Владимир понес одежду свою и брата. В темнице князь Иван совсем обессилел, слабея с каждой минутой. Выдохнул с трудом:
– Все. Отхожу. Так угодно Богу. Покличьте священника.
Когда стражнику передана была воля умирающего, князь немного ободрился. И заговорил почти обычным своим голосом:
– Живите, братья, дружно, поделив по-божески удел. Мать лелейте, – замолчал, собираясь с силами, затем, после довольно длительной паузы, продолжил: – Ни о какой Литве не помышляйте. Никогда нет счастья русскому князю вне России. Государю служите честно. Власть его от Бога. На порубежье ли велит воевать, полки ли даст, все одно радейте. О чести рода своего всегда помните. Прошу… Повелеваю… на государя зла в сердце никогда не держите и помните – вы не только князья удельные, но еще и – служилые. Помните…
Смежились веки князя-воеводы, вздохнул он облегченно, словно отрешился от всего земного в мире сем, и утих навечно. Без покаяния отдал Богу душу. Четверть часа спустя пожаловал в темницу священник. Не служка казенного двора, а настоятель Архангельского собора. Поняв, что опоздал, перекрестил скорбное лицо свое и выдохнул:
– Прости, Господи, душу мою грешную, – осенил крестным знаменем покойника, покропил его святой водой и, поклонившись покойнику, вновь выдохнул скорбно: – Прими, Господи, раба твоего в лоно свое, а мя грешного прости.
Покойника унесли, пообещав детям, что похоронит его правительница по достоинству рода его, а вскоре после этого еще раз отворилась тяжелая дверь темницы, и стрелец-стражник внес полный поднос яств, явно приготовленных не на кухне казенного двора. Да и сам стрелец не вписывался в образ стражника: молод, златокудр, щеки пылают здоровым румянцем, словно у девицы-красавицы, глаза голубые добротой искрятся. Пояснил стрелец заговорщицки:
– Сам князь Телепнев прислал.
– Неси назад! Не станем из рук его брать милостыню, – заупрямился Михаил. – Он убил нашего отца.
– Не гневайте всесильного. Вас жалеючи говорю. Какое он слово скажет, такое Елена-блудница повторит.
Сказал стрелец и опасливо поглядел на дверь, не подслушивает ли кто.
– Как звать-величать тебя?
– Фрол. Сын Фрола. Фролов, выходит, я. Фрол Фролов.
– Не опасаешься, Фрол, что крамольное твое слово мы вынесем из темницы, себя спасаючи?
– Нет, – с мягкой улыбкой ответил стрелец. – Не того вы поля ягоды. Сразу видно.
– Спасибо.
Стрелец достал из кармана склянку с серой мазью и подал Михаилу.
– Эта мазь от меня. Алой на меду и пепел ватный. Спины и задницы помажете, враз полегчает.
– Стоит ли? Завтра снова высекут да припалят. Может, сегодня даже.
– Не высекут, Бог даст. Глядишь, больше не угодите в пыточную.
Эти слова молодого стрельца взбудоражили юные сердца князей. Появилась у них надежда на милость правительницы. Увы. В пыточную их и впрямь больше не водили, но освободить не освобождали. Даже оков не сняли. Так настоял Телепнев. Кормить только стали лучше.
Когда Телепнев сообщил правительнице о смерти князя Ивана Воротынского, она даже опечалилась.
– Как разумею я, мой дорогой князь, безвинен покойник.
– Может быть. Строптив уж больно был. И отпрыски его ему под стать.
– Рыб бессловесных желаешь в подданных?
– Рыб – не рыб, а послушание власти чтобы было.
– Выпустить, дорогой мой князюшка, Воротынских следует.
– В мыслях не держи. Мстить начнут. Как пить дать. Если не мыслили прежде Сигизмунду присягнуть, теперь – переметнутся. Пусть посидят в темнице окованные, поубудет строптивость, прилежней станут служить.
– Возможно, ты и прав. Как всегда. Будь по-твоему. Только гляди мне, не умори их голодом. Не стань детогубцем.
– Не уморю, государыня моя. Не уморю.







