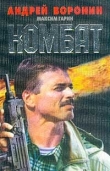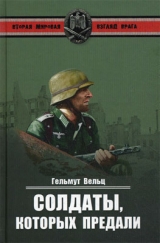
Текст книги "Солдаты, которых предали"
Автор книги: Гельмут Вельц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
– Яволь!
Яркая лампа тонет в облаках сигаретного дыма. Тепло, можно даже сказать, жарко. За столом – два интенданта, дымят, как фабричные трубы, перед ними – рюмки шнапса. Одна из шести деревянных коек занята, на ней растянулся спящий солдат.
– Да, можете располагаться. Сегодня комната освобождается, через полчаса отбываем.
Не найдется ли у них по сигарете и для нас?
– Ясное дело, господин майор, вот вам сотня! – И интендант сует мне в руку большую красную пачку. Австрийские, «Спорт». Лихорадочно открываю пачку. Получает каждый. Байсман протягивает спичку, мы уселись, наслаждаемся куревом, глубоко затягиваемся. Вот уже неделя прошла, как мы выкурили последнюю сигарету. Войска израсходовали свои последние запасы. Чтобы покурить вдоволь, надо было поехать в высший штаб. Тут сотня – за здорово живешь! Видно, здесь экономить не приходится. Табак для нас – морфий, покой. Никто из нас больше не вспоминает, как готов был бежать за жалким окурком, просить последнюю затяжку. Табак в армии означает все на свете. В этом мы убедились как раз в последние дни. Табак – это настроение, табак – это боевой дух и воля к сопротивлению. Но табак – это и нечто большее. Несколько граммов стоят хлеба, шоколада и горячей пищи. Обладая одной-единственной пачкой сигарет, можно облегчить себе несение службы, обеспечить для себя смену с поста и наряд полегче, место у печки.
Один из интендантов уходит в соседнее помещение и возвращается с двумя пачками сигарет, которые дает Глоку и Ленцу. Достается всем и по рюмке шнапса. Мы довольны. Шинели скинуты, койки распределены. Мы ложимся и курим вдоволь, пока три прежних обитателя комнаты упаковывают свои вещи и готовятся отчалить. Они хотят удрать, нам это ясно из их приглушенных слов, которыми они обмениваются, когда обсуждают между собой план. Вот они положили на стол карту и чертят на ней подробный маршрут бегства.
– Вот здесь, мимо этого пункта, мы должны обязательно пройти, я знаю там один незаметный блиндаж, где мы сможем переждать пару дней. Лес на дрова совсем близко. А вот здесь, в этом Боль… Боль… – черт, как называется это место? Никак не выговорю! Здесь я знаю одну избушку, она наверняка пуста. Кур и гусей там не счесть. А если повезет, то и свинью раздобудем. Сможем пополнить свои запасы. Ну, что скажешь, Вильгельм?
Вильгельм отвечает, что предложение хорошее. Третий присоединяется. Дневные переходы намечены вплоть до самого Миллерово. Надевают рюкзаки, набитые так, что чуть не лопаются, брезент плотно обтягивает бутылки. Застегнута последняя кнопка на белых маскхалатах, надеты меховые шапки, в руках лыжи с бамбуковыми палками.
– До свидания, господин майор, пожелайте нам счастливого пути, нам это поможет! Захлопывается дверь, мы одни. Глок отправляется в соседнюю комнату. Тони – за ним. У обоих хороший нюх. Повсюду, куда бы мы ни пришли, они всегда что-нибудь найдут. Особенно Глок, уж он-то превеликий мастер по части обеспечения и доставания, он большой организатор малых вещей. Когда не стало бензина и все машины дивизии оказались на приколе, баки наших батальонных машин наполнились из каких-то неведомых резервов. Когда вышла из строя почти половина машин и очередь их росла у ремонтных рот, у него сразу находился нужный винтик, которого как раз не хватало. Он или сразу лез в ящик и через минуту держал его в руке, или доставал на следующий день. Откуда он брал эти драгоценности, которые иногда нельзя было раздобыть ни за какие деньги, не знаю. По наряду ли, выторговывал, выменивал или находил – это меня не интересовало. Нужная деталь есть, и моторы работают – это для меня самое важное. Он всегда чувствовал, чего требует момент, и обеспечивал все нужное.
– Я так и знал! Господин майор, прошу, пойдите сюда! Стоит посмотреть.
Да, действительно стоит! Здесь полно драгоценностей, давно ушедших в прошлое. Из двух полуоткрытых мешков поблескивают банки с мясными и овощными консервами. Из третьего вылезают пачки бельгийского шоколада по 50 и 100 граммов, голландские плитки в синей обертке и круглые коробочки с надписью «Шокакола». Еще два мешка набиты сигаретами: «Аттика», «Нил», английские марки, самые лучшие сорта. Рядом лежат мучные лепешки, сложенные в точности по инструкции – прямо по-прусски выстроены столбиками в ряд, которым можно было бы накормить досыта добрую сотню человек. А в самом дальнем углу целая батарея бутылок, светлых и темных, пузатых и плоских, и все полны коньяком, бенедиктином, яичным ликером – на любой вкус.
Этот продовольственный склад, напоминающий гастрономический магазин, говорит сам за себя. Командование армии издает приказы о том, что войска должны экономить во всем, в чем только можно, в боеприпасах, бензине и прежде всего в продовольствии. Приказ устанавливает массу различных категорий питания – для солдат в окопах, для командиров батальонов, для штабов полков и для тех, кто «далеко позади». За нарушение этих норм и неподчинение приказам грозят военным судом и расстрелом. И не только грозят! Полевая жандармерия без лишних слов ставит к стенке людей, вся вина которых только в том, что они, поддавшись инстинкту самосохранения, бросились поднимать упавшую с машины буханку хлеба. А здесь, в штабе армии, который, вне всякого сомнения, по категории питания относится к тем, кто «далеко позади», и от которого все ожидают, что сам-то он строжайшим образом выполняет свои приказы, именно здесь целыми штабелями лежит то, что для фронта давно уже стало одним воспоминанием и что подбрасывается как подачка в виде жалких граммов тем самым людям, которые ежечасно кладут свои головы.
Снабженцы – эти господа, которым и делать-то больше нечего, как только отвечать в телефонную трубку: «Весьма сожалею, но у нас больше ничего нет! " – даже и не думают изменять свой образ жизни, ограничивать себя в чем-нибудь. Здесь объедаются, напиваются и курят вдосталь, словно нет никакого котла и человеческих смертей. Здесь никого не посылают в окопы прямо от богато накрытого стола, здесь не гремят винтовочные залпы. Вероятно, и полевая жандармерия тоже прикладывается к этим запасам – не знаю, только все они одного поля ягода, рука руку моет. Убежден, что проверки здесь очень редки, что и в других отделах штаба все шло да и идет так же. Полный состав штаба за накрытым к завтраку столом – и редеющие с каждым днем ряды солдат, зубы которых с остервенением вонзаются в конину, – таковы контрасты, такова пропасть, которая становится все шире и непреодолимее. Высший штаб – и передовая. Нормальный сон в теплой постели – и минутное забытье в снежной яме. Спиртное – и растопленный снег вместо воды. Длинные брюки с отглаженной складкой – и окровавленные отрепья с ног до головы. Тридцать градусов жары – и тридцать градусов холода. Санаторий – и цех № 4. Жизнь – и смерть.
Десять минут спустя в печке уже трещит огонь. В котелке тушится мясо. Тони накрывает на стол. А через полчаса пять голодных ртов уписывают деликатесы. Наедаемся до отвала, потом лихорадочно пьем из полных бутылок, пока весь безнадежно мрачный мир не отступает куда-то в сторону.
* * *
Ранним утром русский воздушный налет сносит часть Санатория. Пострадала и наша комната. Вываливаются оконные стекла, летят осколки. Четверо моих спутников успели броситься на пол вдоль коек, а меня ранило в голову. По виску течет кровь. Голова отяжелела, все закружилось перед глазами, но потом снова встало на место. Накладывают пластырь. У Ленца с собой всегда на всякий случай йод, лейкопласт и бинт. Все было бы в порядке, да в черепе моем застрял маленький осколочек.
Из поездки Байсмана на «Цветочный горшок» ничего не вышло. После бомбежки от нашей машины осталась груда металла, она лежит у самых дверей здания. Тони готовится отправиться за необходимыми вещами пешком.
Тянутся часы и дни. В однообразном шуме беспрерывных бомбежек, взрывов, стука сапог по лестницам и грубых голосов полевой жандармерии теряется всякое ощущение времени. К тому же окна подвалов забиты досками и завалены мешками с песком, так что почти все время приходится сидеть при свете свечи.
Неоднократно являюсь к начальнику связи армии. Полковник ван Хоовен, беседуя со мной, между прочим, замечает:
– Когда я еще был командиром роты, каждому ефрейтору, желающему стать унтер-офицером, у нас давали решить небольшую тактическую задачу. Да если бы такой ефрейтор изобразил на бумаге что-нибудь вроде Сталинградской операции, как мы ее провели, не бывать ему никогда унтером!
– А он и не стал унтером, этот богемский ефрейтор{37}! – раздается чей-то голос из дальнего темного угла.
Действия высшего командования теперь уже осуждаются повсюду. Люди сидят уже списанными на этом пятачке, можно сказать, живыми в собственной могиле и теперь воспоминаниями, словами, резкой критикой воскрешают пережитое, не скупясь на сильные выражения.
Каждый знает: от судьбы нам не уйти, она уже настигла нас. Что нам остается? Плен? Самоубийство? Прорываться? Или и впрямь погибнуть сражаясь, как этого от нас требуют? Но ради чего, ради чего? Этого никто не знает. И все-таки каждый должен принять для себя решение. Избежать его невозможно. Каждый должен сам дать себе ответ на этот вопрос и действовать так, как велит этот ответ. Огромный вопросительный знак висит повсюду, на него не закроешь глаза. Ни за едой, ни в разговорах.
Возвращается Тони, но с пустыми руками. За это время наступательный клин русских войск, пробившись между Татарским валом и «Цветочным горшком», достиг окраины города, разрубив таким образом надвое остатки 6-й армии. Бергер, наверно, держался вместе с доктором, рота которого находилась поблизости, – так мы договорились на всякий случай.
Итак, теперь существуют уже два котла. На севере командует Штреккер, постепенно отступающий с территории Тракторного завода. В особом приказе он говорит солдатам всю горькую правду. «Прощайте, солдаты мои! " – заканчивает он свой приказ. Эти слова – признание, что сила германского оружия окончательно сломлена. Германский орел, обессиленный и обращенный в бегство, в последних судорогах взмахивает крыльями и ждет, что его вот-вот пристрелят.
24 января мы оставляем Санаторий. Новые прорывы противника на юге и появление первых русских касок на окраине Минины заставляют командование армии переместиться в район «Сталинград-Центр». Сломя голову весь штаб армии несется на север. Мы тоже. В моем распоряжении автомашина полка связи. Погрузили в багажник хлеб, консервы, шоколад и сигареты.
На Красной площади колонна останавливается. Перед нами огромный дом, так называемый Универмаг. Здесь находится штаб 194-го полка, которым командует полковник Роске. Здание занимает первый эшелон штаба армии. Спускаемся по наклонному въезду, и вот мы уже стоим в слабо освещенном подвальном коридоре: дверь за дверью, комната за комнатой. Роске сразу указывает, где кому разместиться. Слева остаются помещения, занимаемые штабом полка, командирами батальонов, финансово-хозяйственной частью и медпунктом. Справа уже устанавливается рация. Соседнюю комнату занимает полковник ван Хоовен, за ним располагается хозяин дома со своим адъютантом.
В конце большого коридора слева висит рваная портьера, за ней – коридор поменьше с несколькими помещениями. Здесь разместился Паулюс – командующий армией, вместе с ним начальник штаба, начальник оперативного отдела и начальник тыла. Это наверняка последнее местопребывание командующего армией, потому что Красная площадь – самый центр южного котла. Отсюда уйти уже некуда, только разве по воздуху.
Меня определяют к начальнику связи армии. Тусклый свет едва освещает голые стены помещения. Вдоль стен – полки в три этажа. Распределяем их между собой, сбрасываем пожитки. В тот самый момент, когда я здороваюсь с майором Линденом (его саперный батальон ведет бои вне котла, а самому ему суждено пережить горький конец вдали от своей части), в помещение входит командующий армией. Он выглядит усталым и обессиленным. Весь ссутулился. Рукопожатие старика. «Добрый вечер» при входе, «Добрый вечер» при уходе – единственные слова, произнесенные им. Весь его облик – олицетворение слабости и военного поражения.
После ночи, которую мы проводим, скрючившись на полках и укрывшись шинелями, меня вместе с Линденом вызывают к полковнику Роске. Весь «Ста-линград-Зюд» сдан, линия фронта проходит теперь вдоль реки Царицы. Командует там генерал Вульц. Роске объявляет нам приказ штаба армии: отправиться на этот участок и принять там под команду боевую группу, ее назвали «полковой». Знаю я, что это за «полковая группа»! Сводят вместе всякие немыслимые подразделения, присваивают им громкие наименования, отдают им великолепные приказы, а за всем этим скрывается одно платоническое желание, полное бессилие. Мне-то, господин полковник, можете шарики не вкручивать! Но вдруг я слышу его слова:
– Мы должны ясно сказать себе: Сталинград нам больше не удержать! Но одно мы все же можем сделать, и это наш долг: мы должны дать германской молодежи пример солдатского героизма, невиданного во всей мировой истории. Пусть «Песнь о Нибелунгах» померкнет перед нашими деяниями и нашими жертвами! Пройдут века и тысячелетия, а имя «Сталинград» вечно будет сиять, как факел!
«Во имя чего, господин полковник? – хочется мне спросить. – Чтобы снова гнать на Восток и грядущие поколения? Взгляните на этот город, господин полковник! Где все те дивизии, что еще три месяца назад стояли здесь? Разве все эти солдаты, а их великое множество, погибли действительно только для того, чтобы дать пример своим детям и внукам?»
Но слова эти остаются невысказанными, с полковником на этот счет не поговоришь. Он приверженец Гитлера. Его офицеры рассказывали мне, что каждое совещание он открывает словами:
– Господа, вы знаете, в ставке фюрера висит огромная карта Восточного фронта. Один флажок на ней воткнут прямо в берег Волги, на нем цифра 194. Фюрер каждый день видит, где стоит наш полк. Вот о чем должны вы думать, это обязывает!..
С таким человеком говорить бесполезно. Произношу «Яволь!", сажусь в данный мне трофейный „джип“ и еду в направлении Царицы.
Мчимся сквозь сплошной туман. Справа и слева стоят, словно привидения, обрушившиеся дома. Водитель не обращает внимания ни на спуски и подъемы, ни на кучи щебня. Спидометр показывает 60, хотя видимости впереди нет и на 30 метров. Нас подстегивают разрывы снарядов русской артиллерии, которая нерегулярно, но целыми сериями залпов бьет по грудам развалин. Машина скрипит и трещит, трясется, приходится ухватиться обеими руками за стойку ветрового стекла, чтобы не вылететь. На поворотах машина накреняется так, что мы лишь чудом не перевертываемся. Но ефрейтор за рулем невозмутим и уверенно выезжает на большую улицу, тянущуюся параллельно берегу Царицы. Здесь нас встречают таким ураганным пулеметным огнем, что я приказываю остановиться. Вместе с Тони пешком пробираюсь к темному пятну по другую сторону мостовой. Перед нами вырисовывается силуэт, напоминающий по своей массивности американский небоскреб: огромное, десятиэтажное здание, крыша – в облаках гари. Сверху гремят выстрелы и пулеметные очереди, главным образом с бокового крыла, тянущегося вдоль впадины реки. Стрельба ведется в южном и юго-западном направлениях. Очевидно, противник пытается нащупать слабое место со стороны реки Царицы.
Проталкиваясь между едва различимыми фигурами, сидящими на полу в темных коридорах, я наконец попадаю в какое-то помещение вроде гимнастического зала. Помещение огромно, пол усыпан опилками, куда ни глянь – солдаты, группами и поодиночке. Одни уставились перед собой отсутствующим взглядом, другие дремлют, молчат, ждут – ждут смены, тревоги, приказа выступать, заряжать, стрелять, опять заряжать и опять стрелять, ждут конца. Все здесь мрачно, темно, расплывчато, серо…
Только в глубине горят два прикрепленных к стене факела, они бросают колеблющиеся желтые и красные блики, выхватывая из темноты круг, в котором у квадратного стола стоят несколько офицеров. Двое держат свои каски за подбородочный ремень, у остальных они на голове. Подхожу ближе. На плечах толстого невысокого офицера в кожаном пальто, стоящего в центре, замечаю витые золотом генеральские погоны. Это, наверно, и есть Вульц, которого я ищу. Докладываю, что я и Линден явились в его распоряжение. И тут же получаю задание. Все происходит в бешеном темпе. Успеваю только запомнить: правый участок, левая граница – это здание, правая – железнодорожная дамба, там стык с танковым корпусом, 500 человек, продовольствие доставят позже, КП лучше всего разместить в длинном доме на улице, остальное излишне, живо, раз-два! И вот я уже двигаюсь обратно тем же путем, каким прибыл.
Через несколько часов все уже утрясено. Границы моего участка ясны. Линия обороны проходит по спускающемуся к югу холму, ее удерживают подразделения, которые только сегодня прибыли с других участков и вообще не знакомы с местностью. Да и фамилий самих солдат толком никто не знает. Это сметенные русским ураганом, повылезавшие из подвалов раненые, больные и голодные, которые в поисках полевой кухни поневоле оказались на передовой: ведь только тут дают питание. Зенитная батарея, строительная колонна, три взвода связи, солдаты из дивизионной пекарни – вот костяк нашего войска. Для обогрева позади наших позиций (если только можно назвать так углубления в заледеневшем снегу) в нашем распоряжении подвалы обвалившихся домов. Их отапливают последними остатками заборов, фонарных столбов, бортов грузовиков и сломанными винтовочными прикладами.
Дом, где находится наш КП, стоит метрах в пятидесяти позади передних стрелковых ячеек, прямо на большой улице, продолжение которой по ту сторону железнодорожной насыпи ведет к так называемой тюрьме ГПУ. Жалкое пристанище. Практически только четыре стены, меж которыми свистит ветер. Стол, несколько скамеек и нары, по которым целыми полчищами бродят вши. Нас здесь двадцать человек: Линден и я. Тони, Глок, Ленц и Байсман, которые подошли, да еще небольшой резерв для контратак. Телефонную связь только еще прокладывают, обещали доставить и боеприпасы. А пока мы имеем лишь почетный приказ: удерживать позиции до последнего патрона. Ничего необходимого для этого нет. Что касается штатных единиц, то они с первого дня в полном комплекте. Прибывает начальник финансово-хозяйственной части, он будет нас обеспечивать. Чаем, супом и ста граммами хлеба в день, обещает он. Ладно, посмотрим, как долго наш организм выдержит это.
Всему есть свой предел. Так считает и врач, которого к нам прислали. Это молодой военный фельдшер из Вены, он браво и умело справляется со своим делом, но уже мысленно попрощался с жизнью. Адъютантом мне назначен капитан Фрикке – тот самый, которого я знаю еще как адъютанта начальника инженерных войск армии. Все это долго продлиться не может и долго не продлится. Но пока настанет конец, нам придется пережить мучительные часы. Бессмысленные часы.
Погода переменилась. Когда я выхожу осмотреть наши позиции, меня встречает прозрачно ясный зимний день, воздух звенит от мороза. Но вокруг такой вой и свист, что невольно втягиваешь голову в плечи. Непрерывно гремит и грохочет русская артиллерия, разрывая своими снарядами прямо-таки полярный воздух. Ища укрытия за стеной, я с фельдфебелем Ленцем бегу направо. Перепрыгиваем через небольшие воронки, преодолеваем покрытые снегом кучи щебня и кирпичей, скользим, падаем, поднимаемся, бежим вновь и переводим дух только у широкой улицы, ведущей прямо к Царице. За обломком кирпичной стены стоит хорошо замаскированная гаубица. Рядом лежат два канонира, глядят на юг, высматривают танки.
– Сколько выстрелов еще осталось?
– Четыре, господин майор!
Только не задумываться! Дальше! Быстрыми перебежками пересекаем улицу. Мчимся мимо поваленного забора, через еще стоящие ворота, вдоль одиноко высящейся стены. Вокруг нас рвутся снаряды, летят куски льда, комья земли, осколки. Но мы действуем, как рекруты. Укрываться приходится каждые сто метров, а то и вообще носа не высунуть: не прекращаются залпы орудий тяжелого калибра. Зарывшись, как крот, ждешь прямого попадания, которое навсегда избавит тебя от мучений. Навстречу нам – два подносчика патронов. Одежда их разорвана и покрыта грязью, лица заросли щетиной, на глазах, на носу и подбородке сосульки. Примерно так страх рисовал нам в детстве домового. Не обращая на нас никакого внимания, оба бегут дальше. Их гонят вперед приказ и воля.
Просто удивительно, что кровоточащий обрубок 6-й армии все еще как-то держится. Армия корчится в судорогах слабости, ярости и отчаяния, как человек с перебитым позвоночником, который сохраняет полное сознание, между тем, как тело его постепенно отмирает.
Теперь мы с Ленцем уже добрались до угла забора и бросаемся на землю передохнуть. Перед нами совершенно открытая местность, и нам надо броском преодолеть сто пятьдесят метров. Снежное поле похоже на свалку: вдоль и поперек – подбитые танки и разбитые орудия, некоторые с перевернутыми стволами и лафетами. Рядом валяются винтовки, каски, канистры, клочья обмундирования и множество патронов – лентами и россыпью, заржавевшие и недавно брошенные.
– Сюда, господин майор, по тропинке, прямо до того желтого дома! – кричит мне Ленц.
Поднимаемся, бежим. Я впереди, он за мной. Спотыкаюсь о занесенные снегом трупы. Русские пулеметы поливают нас огнем. Только не обращать внимания, только вскакивать и вперед, мы должны добежать! Едва переводя дыхание, подбегаю к желтой стене и бросаюсь на землю. Через доли секунды рядом уже лежит Ленц. Сдвигаю на затылок каску с потного лба. Там, впереди, где поперек улицы валяется разбитый грузовик, шагах в двадцати левее, виден дымок из короткой трубы. Это должен быть подвал зенитной батареи. Туда мне и надо.
– Теперь еще немного, господин майор, всего пятьдесят метров!
Вскакиваем, бежим к грузовику через телефонные мачты и фонарные столбы, обрушившиеся балконы и неразорвавшиеся снаряды, по обледеневшим сугробам и развороченной мостовой. Последний бросок через не занятую противником поперечную улицу – и мы скатываемся по обледеневшим крутым ступеням куда-то вниз, в темноту.
Прошли те времена, когда мы пополняли свой запас французских слов и слово «le chateau» имело для нас значения: «штаб-квартира», «командный пункт», «убежище». В котле все тесно прижаты друг к другу, как сардины в консервной банке. Приютом для нас служат обвалившиеся подвалы и примитивнейшие норы в земле. Капитан-зенитчик сидит в своем довольно вместительном помещении. Здесь еще человек тридцать из его батареи, они греются в натопленном подземелье. Один стрижет другому волосы. В углу – оказывается и это еще есть на свете! – говорит радио. «В районе между Доном и Манычем, – звучит из репродуктора, – германские войска продвигаются на северо-восток».
– Как вы думаете, это действительно может спасти нас? – засыпают меня вопросами. Я только пожимаю плечами. Откуда мне знать? Лично я считаю это расширением ростовского плацдарма для облегчения отступления наших войск с Кавказа. Но зенитчики цепляются за эту последнюю соломинку: операция предпринята ради нас, иначе и быть не может, в последнюю минуту фюрер сдержал свое слово…
Долго там не задерживаюсь. Капитан быстро собирается, и мы втроем отправляемся на позиции. Начинаем обход справа, у железнодорожной насыпи высотой метров пять. Она, слегка изгибаясь, ведет к железным конструкциям моста через Царицу. Ручной пулемет, установленный здесь для охраны фланга, хорошо замаскирован. Поле его обстрела простирается далеко в глубь занятой русскими южной части города, и он господствует над местностью перед позициями расположенных правее частей 14-го танкового корпуса. Слева примыкают огневые позиции 20-миллиметровых пушек. Плоские лощины, снежные палы и немного досок – вот и все. Между ними рассеяны мелкими группами стрелки. Их мало, но занятые ими точки выбраны хорошо. Солдаты производят довольно приличное впечатление; можно надеяться, что хоть тут пока все будет в порядке.
Когда мы уже закончили свой обход и возвращаемся на КП, я еще раз оглядываюсь на отчетливо видимую границу с соседом справа. Примерно метрах в пятидесяти от фланкирующего пулемета замечаю какое-то движение в сторону противника. Две фигуры, четко вырисовывающиеся на светлом фоне, под прикрытием насыпи приближаются к мосту. Неужели это кто-нибудь из моих солдат? Ну, это уж слишком! Это противоречит всем указаниям, согласно которым делать впереди нечего. Солдатам это категорически запрещено.
Поднимаю к глазам бинокль. Да, верно, двое совершенно спокойно и невозмутимо идут к русским позициям. На одном из них кожаное пальто – значит, офицер; на голове каска, за плечом винтовка. Он невысокого роста, приземист. Вот он поворачивает голову влево, и вдруг я замечаю на нем поблескивающие золотом погоны. Сомнения нет: генерал! Видно, жизнь ему недорога, раз вздумал гулять в нейтральной полосе. Или он кого-то ищет там, впереди? И никакой охраны, только один сопровождающий? Вглядываюсь во второго. На нем меховая шапка – этого еще недоставало! Винтовка перекинута через плечо, как у человека, отправившегося на воскресную охоту, ствол смотрит в сторону, длинная шинель. Черт возьми, я же его знаю! Это же Гартман, командир 71-й пехотной дивизии! Да, это он!
Итак, два генерала на ничейной полосе, не известив командира участка, без всякой охраны и ведут себя, как на прогулке. Невероятно! Не поверил бы никогда, если бы не видел собственными глазами. Ведь русские стреляют как сумасшедшие, и оба даже не пытаются укрыться. Да, страха у них нет, это видно. Или, может, они думают, что генералов пуля не берет?
С любопытством наблюдаю, чего же они хотят. Напряженно вглядываюсь. Теперь они идут друг за другом все дальше вдоль насыпи. Вот еще двадцать, двадцать пять шагов. Остановились. Теперь я хорошо их узнал. По движению губ видно, что они обмениваются несколькими словами. Один лезет в карман кожаного пальто, что-то передает другому, но что – мне не видно. Наверное, обойма с патронами, потому что Гартман приподнимает винтовку и перезаряжает ее, другой тоже. Не обращая внимания на дикую стрельбу, они продолжают говорить между собой. Недолго. Потом протягивают друг другу руку и смотрят друг другу в лицо. Короткое рукопожатие, видно только движение рук, и оба – нет, не поверил бы, если бы не видел сам! – быстро взбираются на насыпь и становятся между рельсами. Опираются на винтовки и стоят не двигаясь. Полы шинели и кожаного пальто развеваются на ветру. Такое стояние к добру не приведет. Но они продолжают стоять. Гартман снимает перчатку и бросает ее в снег. Поднимает винтовку, целится стоя, стреляет, перезаряжает и снова стреляет. Стреляет и второй генерал. И хотя по ним бьют из бесчисленного множества стволов, они все еще стоят на той же самой точке и, видимо, не собираются уходить. Разве это не самоубийство? Ни один человек в здравом рассудке не будет стоять так в качестве мишени для начинающего стрелка. Нет, это делается с умыслом, иначе не объяснишь.
Гартман вынимает новую обойму, вставляет в магазин и в этот самый момент падает, как спиленный дуб, на левый бок, катится вниз с насыпи. Второй спрыгивает, склоняется над своим сраженным камрадом. При таком демонстративном поведении иначе и быть не могло. Но таково, совершенно ясно, было их желание. Я вижу, как второй генерал пытается помочь своему другу. Он ощупывает голову, грудь, руки Гартмана, потом выпрямляется. Бросает взгляд, совсем короткий, на то место, где только что они стояли, поворачивается и тяжелой походкой отправляется назад. Вероятно, за помощью. С него наверняка хватит этой стрельбы. Очевидно, движущей силой был Гартман. Без него, отрезвленный его кровью, оставшийся в живых один шагает назад.
То, что я услышал о командире 71-й пехотной дивизии, сразу объяснило мне это упражнение в стрельбе на насыпи! Гартман был против продолжения бесперспективной борьбы, а следовательно, против командования и лично Гитлера. Он видел выход, но выход этот вел к неповиновению приказу, дисциплине, командующему, а потому, с его точки зрения, был неприемлем для германского генерала. Стать бунтарем и принять на свои плечи «позор измены присяге» ему было не под силу. На одной стороне – беспрекословное повиновение, приказ и его выполнение, на другой – действия вопреки сознанию и совести, бессмысленное принесение в жертву жизней и крови, за которое он отвечал. Назад дороги нет, впереди несокрушимая стена русских, а в стороны ведут два других пути, но ни по одному из них мужества пойти у него не было. Вот почему Гартман избрал смерть.
Это было бегством из жизни, попыткой пробить головой каменную стену отчаяния.
Вечером приходит подтверждение: генерал Гартман убит.
На следующий день радио захлебывается от восторга. Германский генерал погиб за фюрера, народ и рейх! На передовой! С винтовкой в руках! Звучат напыщенные слова об обороне германской «крепости Сталинград», где генерал рядом с простым пехотинцем с ручной гранатой и лопаткой в руке цепко держится за последние развалины стен бывшего индустриального центра на Волге. Эти россказни призваны осушить слезы немецкого народа, который оплакивает своих сыновей и с замиранием сердца следит за их судьбой.
«Преждевременные заупокойные речи нежелательны», – с убийственной иронией радирует в ставку командующий 11-м армейским корпусом. Подождите называть нас «конченными», пока нас не прикончили.
До последнего патрона
На нашем командном пункте собачий холод. Из-за непрерывных взрывов тонкая стена осыпалась. Через кое-как заделанные щели и хлопающие оконные рамы свистит ледяной восточный ветер. Как правило, мы в полном обмундировании, опоясанные патронными лентами, сидим наготове за шатким столом, высоко подняв воротники шинелей и глубоко засунув в карманы руки. Тема всех разговоров одна: как долго мы еще продержимся? И можно ли нас вообще деблокировать?
Мнения резко расходятся. Пока мы взвешиваем «за» и «против», полчища насекомых ползают по нас вдоль и поперек. Все тело чешется. Много дней, целые недели мы не раздеваемся, вши одолевают нас. Первые случаи сыпняка отмечались еще в конце осени. Но в данный момент все это уже не играет никакой роли. Солдаты даже не обращают внимания на укусы насекомых.
Нас непрерывно терзает голод. Долгое время только кусок хлеба и горячая вода два раза в день – от этого забастует любой организм. Конина стала редкой драгоценностью. Идут в пищу даже лошади, павшие недели тому назад; стоит ветру обнажить из-под снега конскую голову или бедро, как их тут же извлекают Замерзшее дотверда мясо сразу отделяют от костей и кладут в котел, а скелет заметается новым снегом. В первые дни я еще мог помогать своим пятистам солдатам за счет запасов, прихваченных из Санатория, но они быстро иссякли, а голод дает о себе знать каждый день. При этом нашим солдатам еще несколько лучше, так как они получают продовольствия гораздо больше, чем другие. Это объясняется тем, что, хотя из вечера в вечер нам доставляют паек на пятьсот человек, число солдат за это время уменьшилось наполовину, а временами и вообще оставалась всего одна десятая. И не только потому, что часть солдат убита, а другая – ранена и скрывается в каких-то неизвестных подвалах. Нет, увеличилось число перебежчиков.