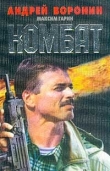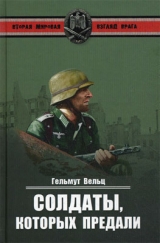
Текст книги "Солдаты, которых предали"
Автор книги: Гельмут Вельц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Но разве не сковали бы мы те же, а может быть, и еще большие силы русских, если бы вся наша 6-я армия начала отход на запад? Ведь тогда Красная Армия, не зная наших вполне определенных намерений, оказалась бы вынужденной не только бросить навстречу нашим войскам сильные дивизии и преследовать нас моторизованными частями; ей пришлось бы выслать параллельно нашему движению сильные охранения, чтобы иметь возможность парировать всякое неожиданное отклонение. Так что и тогда осталась бы возможность создания новой линии обороны. Или же наше командование рассчитывает овладеть создавшимся новым положением так, чтобы выбить русских козыри из рук? Гот приближается, в этом теперь сомнения нет. Только темп подхода очень медленный, да и всякие неожиданности возможны.
Говорят, Зейдлиц несколько дней назад снова заявил, что котел уже не прорвать никогда – ни изнутри, ни снаружи. В нем можно продержаться только до середины января, в лучшем случае до начала февраля. А потом конец. Но даже если допустить, что продвижение деблокирующих войск из направления Ростова пойдет успешно, неужели всерьез считают, что мы здесь продержимся так долго? Да, почки цепляются за каждый клочок земли это так. Но солдаты, лежащие под минометным огнем сегодня, – это уже не те солдаты, что вели бои месяц назад. Те уже давно превратились в замороженные трупы, которые служат нам защитным валом, – из них сложен бруствер, простреливаемый пулями. А те, что пока еще стоят в окопах или глядят в амбразуры, – это солдаты из обозов и тыловых служб. Однажды не останется и их. Что тогда? Неужели ради одного пункта на карте действительно должны погибнуть сотни тысяч?
Иногда в голову приходит страшная мысль: мы должны умереть здесь потому, что этого хотят! Мысль чудовищная, сознаюсь. Но при методах нашей пропаганды и ее любви к красивым словам о жертвенной смерти гибель нашей армии, право, весьма кстати, чтобы подхлестнуть уставший от войны народ и вызвать в нем фанатизм, жаждущий отмщения. Да, уж пресса-то сумеет выгодно подать это: смотрите, целая армия пожертвовала собой за фюрера и рейх; отомстить за ее гибель – ваш священный долг! В меньших масштабах мы уже видели это, когда в Нарвике английский флот пустил ко дну германские миноносцы. А нас – тех, кто еще стоит здесь потому, что чувствует себя связанным присягой и не знает, как себе помочь, – посмертно превратят в нибелунгов нашего времени. Будут восхвалять нас как воскрешение древнегерманской воинской верности, мы должны будем служить примером и стимулом для немецкой молодежи. Молодые новобранцы, которые в начале войны еще протирали штаны на школьных партах, будут подражать нам в нашем безумии и ослеплении и слепо устремляться в бескрайнюю страну на Востоке. Навстречу собственной смерти. А мы стали бы для них образцом.
Мыслям нет конца, но к чему они ведут, уже становится ясно. В такие времена физических и духовных страданий, какие переживаем сейчас мы, в мозгу рождаются проблемы, никогда не встававшие перед нами раньше. Мозг не прекращает работать ни на минуту. И вот приходит осознание фактов – отрезвляющее и печальное. Порой просто хватаешься за голову, когда в редкую спокойную минуту сознаешься сам себе, что попался на красивую, только что выкрашенную яркую приманку.
* * *
Итак, Гот на подходе. Его ударная группа в составе нескольких танковых и пехотных дивизий стремится из района Котельниково прорвать внешнее кольцо окружения. Преодолевая сильное сопротивление, она шаг за шагом продвигается дальше. В большой излучине Дона, там, где к Сталинграду должна двигаться вторая группа немецких войск, ситуация коренным образом изменилась. В середине декабря крупные русские силы перешли в наступление на Среднем Дону и отбросили итальянцев и венгров. Эта операция угрожает глубокому флангу пробивающейся вперед деблокирующей армии, заставляет оттягивать назад выдвинувшиеся вперед наступательные авангарды и строить отсечные позиции. Все это сковывает действия командования, лишает его возможности маневрировать резервами. Тем самым парализуется одно из зубьев немецких клещей, которые по замыслу командования должны сомкнуться. Больше того, идущим на выручку войскам самим грозит опасность оказаться отрезанными. Манштейн, командующий группой армий «Дон», в результате расширения русского фронта наступления сам попал в тяжелое положение. Теперь нам уделяется только часть внимания, только половина сил бьется за наше деблокирование. Никто не может сказать, долго ли все останется так и не настанет ли скоро такой момент, когда Готу придется повернуть фронт, чтобы отразить новые операции русских.
В самом котле, по другую сторону Дона, бои идут все с той же ожесточенностью, что и прежде. Но это отнюдь не заслуга командования 6-й армии. Его вообще не видно и не слышно. Генерал-полковник Паулюс застыл в своем повиновении. Ведь его предложение прорываться на запад было отвергнуто. Вопреки своему более ясному пониманию обстановки и положения армии он оказался вынужденным остаться в котле со всеми своими войсками, держаться и изо дня в день вновь и вновь вести навязанные русскими бои. Он не нашел в себе сил для самостоятельных действий вопреки воле фюрера и указаниям «стратегов», командующих из-за столов с зеленым сукном. Он молчит. Да ему, собственно, и нечего сказать войскам.
Зато его начальник штаба знает только одно: держаться, держаться и еще раз держаться! Держаться любой ценой: ценой целых рот и батальонов, ценой тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч жизней! Биться до последнего патрона! До последней съеденной лошади, до последней капли крови! Таков приказ. Больше командованию сказать своим солдатам нечего. Для выполнения такого приказа нет никого лучше, чем начальник штаба 6-й армии. Он само олицетворение офицера германского генерального штаба старой школы, человек, который все знает, все предвидит и все рассчитывает заранее, – господин генерал-лейтенант Шмидт. Он при Паулюсе «серое преосвященство», человек, действующий из-за кулис и никогда не появляющийся на авансцене, но воля его воплощается в приказах, требующих все новой крови. Во всем чувствуется его бездушие, его нежелание считаться с чем-либо, его резкость, о которых говорят все. Его боятся, его называют злым духом армии. На передовой его никогда не увидишь: для этого есть командиры дивизий и корпусов. А они посмеиваются про себя над отшлифованными приказами, которые господин генерал-лейтенант издает целыми пачками. Здесь, впереди, необходимые меры диктуются противостоящими силами противника, погодой, знанием до мельчайших подробностей изученной местности, порой какой-нибудь маленькой лощинки, кустарника или остова двухэтажного здания. Каждый командир сам видит, что ему делать с этими приказами.
А тем временем в городе борьба по-прежнему идет за каждый метр. Главные объекты боев: завод «Баррикады», завод «Красный Октябрь» с русским бастионом – цехом № 4 и «Теннисной ракеткой». На северной отсечной линии наши дивизии ведут тяжелейшие оборонительные бои с непрерывно атакующим противником. Когда в штабах еще блуждала идея прорыва, здесь преждевременно оставили старые, хорошо оборудованные позиции. Спартаковка и Ерзовка в руках противника, и линия обороны пролегает теперь дальше к югу по холмистой местности. Высоты «Гриб» и «Эрика», а дальше к западу овраг у Котлубани каждый день становятся свидетелями новых атак, новых контрударов и новых потерь. Только на дороге Ерзовка – Сталинград, на так называемом танковом маршруте, валяется более двадцати подбитых танков всех типов. На западе внешним фортом «крепости Сталинград» служит Мариновка. Заняв перед этой деревней полукруговую оборону, солдаты майора Виллига отражают русские попытки прорыва. Противник непрерывно усиливается, при последней атаке на эту деревню действовали 123 реактивные установки. Тем не менее фронт пока удерживается и здесь. Удерживаются позиции и на юге при таком же натиске и ценой таких же потерь.
Жизненный центр 6-й армии по-прежнему Питомник. Здесь, на аэродроме, приземляются самолеты, доставляющие нам самое необходимое. По высочайшему приказу снабжение 6-й армии поручено теперь генерал-фельдмаршалу Мильху. Но наши запасы патронов, снарядов и горючего столь малы, а пустота в наших желудках столь велика, что даже генералу с такой «питательной» фамилией{31} не заполнить их. Вражеская противовоздушная оборона зримо становится все сильнее, черные облачка разрывов зенитных снарядов окантовывают котел. К тому же ухудшилась погода, число прилетающих «юнкерсов», «хейнкелей» и «кондоров» с каждым днем сокращается. Мы часто видим, как самолеты летят дальше на восток, за Волгу, и не возвращаются назад. Запеленгованные противником и ложно наводимые им, они, вероятно, при такой погоде приземляются где-нибудь на его аэродромах. Последствия для нас ясны. Ремень затягивается еще туже, автотранспорт сокращается еще более жестко, а стрельба по противнику почти прекращается. Врачам не хватает патентованных лекарств, аспирина, йода, касторки. Терпи и харкай – вот тебе эрзац лечения. Но так не вылечишься.
Посреди всех этих бедствий генерал, не желающий пренебречь ни удобствами, ни личным комфортом. Его жилой вагон в замаскированном овраге словно мирный оазис. Салон со столами, креслами, гардинами и портьерами – все стильно, любовно подобрано. Раздвижная дверь, напоминающая меха гармони, ведет в спальню. Здесь стоит широкая, манящая к отдыху постель господина генерала, застеленная белоснежным бельем. А дальше – опять за портьерой – туалетная комната с умывальником, зеркалами, стеклянными стаканами и зубной пастой. Несмотря на зимний холод, здесь уютно я тепло. Чему удивляться! Снаружи под открытым небом стоит железная печка, рядом с ней солдат; целый день он только и делает, что подбрасывает дрова и следит, чтобы огонь не гас. От этого источника тепла в вагон тянется труба. Господин генерал могут быть довольны. На всем убранстве, несомненно, лежит печать умения устраиваться и изысканного вкуса. Еще бы, здесь можно строго придерживаться его! Но тот, кто живет так, спит в тепле и уюте, не может понимать нужд своих солдат. В лучшем, случае он может сделать понимающее лицо, не больше. Доброй ночи, господин генерал, приятных сновидений! Покорнейшая просьба, когда господин генерал будут предаваться мечтам о родине, засвидетельствовать мое нижайшее почтение фрау супруге и фрейлейн дочери. Мы с удовольствием будем удерживать позиции и охотно умирать за таких начальников. С этим твердым убеждением господин генерал могут спокойно почивать. Прямое попадание в эту идиллию не означало бы для нас, право, никакой потери!
Посреди всех этих бедствий есть и другой генерал – во время наступления своей дивизии он до одурения напивается, так что даже двух слов связать не может и заплетающимся языком с трудом отдает приказания по телефону. Командир корпуса обнаруживает его в таком состоянии на КП дивизии и отстраняет тут же от командования. Но разве можно так запросто отослать генерала домой? Нет, это не годится. Дивизионный врач и врачи санитарной роты в затруднении, но потом находят выход. Генералу выдается медицинское заключение: ранение, полученное еще в первую мировую войну, доставляет ему страшные боли, а потому он вынужден постоянно прибегать к никотину и алкоголю. Таким образом, господин генерал могут с незапятнанной жилеткой гордо отправиться на родину и принимать там почести как «герой Сталинграда». Ах, господин генерал, нам так будет не хватать вас, с вашим обликом солдата-рубаки, с вашим вполне заслуженным – другими! – «Рыцарским крестом» и всегда наполненным стаканом!
Пока еще оба генерала – исключение. Их подчиненные – наши камрады, и они начинают плевать на шитые золотом красные воротники. Дистанция, обусловленная образованием, чинами и командной властью, все больше исчезает в этом бурном, грозовом углу Европы. Погоны и отшлифованный ум все больше начинают уступать голосу сердца.
Скоро рождество. О праздниках на этот раз говорить не приходится, для этого нет никаких оснований. Даже деревце не так-то легко здесь раздобыть, а уж о елке и думать нечего. В конце концов елку может заменить и старая сосна. Но и ее удается разыскать только после долгих поисков. Не удивительно: в степи так мало деревьев. К тому же стоят холода, а дров не хватает. Все, что было под рукой, давно спилено, срублено и сожжено в печках. Надо радоваться, что вообще хоть что-то есть. Бергер берется украшать. Он принимается за дело с ножиком и ножницами, прилежно вырезает фигурки, звездочки и всякую всячину. Да, грустны будут эти рождественские дни в котле! Никаких подарков, никаких сюрпризов, только, может быть, от русских! И полевая почта вряд ли что-нибудь доставит нам. Она, по существу, перестала действовать. Правда, иногда удается отправить из котла на родину какую-нибудь весточку с транспортным самолетом, но это случается редко: уж очень должно повезти! А оттуда прибывает в лучшем случае один мешок с почтой.
В прошлом месяце я получил одно-единственное письмо и знаю, что жена пишет мне ежедневно. Ужасно, еще будучи живым, медленно умирать для внешнего мира. Изредка какой-то признак жизни, какое-то напоминание о себе, и вот уже замолчал навсегда. Со сцены мировой истории мы уже сошли, хотя еще и живы, хотя никогда не стояли так резко освещенные светом ее рампы, как именно сейчас. Весь мир смотрит на нас, с напряжением ожидая, чем кончится эта битва, которая по своей суровости, длительности, количеству участвующих в ней войск и своему решающему значению не имеет себе равных. И тем не менее нас еще связывают с внешним миром лишь последние нити. Зато внешний мир не забывает нас. Об этом говорит с каждым днем усиливающийся артогонь противника, об этом кричит радио, призывающее нас держаться до последнего, об этом свидетельствует сокращающееся с каждым днем снабжение по воздуху. У нас нет ничего. Скоро у нас не хватит сил даже крикнуть о помощи. За всех нас, сидящих в мышеловке, это делает Паулюс. Он радирует день за днем: помощь, помощь! Это единственный признак нашей жизни. И этот сигнал «SOS» точно отражает то, о чем мы думаем днем и ночью. Воля к жизни в нас еще не сломлена. Она подорвана, да, но мы не хотим погибать. Даже если нам все время твердят, что мы пример героизма германского солдата, а гибель наша почетна!
* * *
Сегодня Франц пришел ко мне в необычное время. Он возбужден, совершенно вне себя, ругается и чертыхается так, что я даже не сразу понимаю в чем дело. Оказывается, его взбесило письмо – одно из тех немногих, что мы еще получаем.
– Ну нет, не такой я дурак! Фокус не пройдет. Перевести меня в Днепропетровск! Господин капитан, ну разве это не неслыханное свинство?
Начинаю расспрашивать. Франц отвечает, потом показывает письмо. Там ясно и понятно написано: фирма, в которой он служил перед мобилизацией в армию, переводит его на первые три года после войны инженером в Днепропетровск. Возражения бесполезны.
– И вот, пожал-те, изволь подчиняться! А за что же я здесь воевал? За то, чтобы меня ссылали, как современного раба? Я им не какое-нибудь пушечное мясо вроде румын, что за нас тут гибнут. А что, собственно, значит «за нас»? До сегодняшнего дня я верил. Потому и участвовал в этом цирке, даже когда самого тошнило. Я ведь говорил себе: «Это всем нам на пользу». Потому и лез в дело! Но здесь, вот, читайте, черным по белому написано. Мы такое же орудие для других, как эти румыны, итальянцы, хорваты и все эти вспомогательные народы – названий не упомнишь. Я добровольно возвращаюсь на фронт, а эти толстопузые сидят себе преспокойно в тылу и решают после войны перевести меня в Россию! Стоит ли возвращаться домой после победы? Хватай свое барахло и снова отправляйся в чужую страну!
Пытаюсь его успокоить. Ведь последнее слово еще не сказано. Будем дома, все выяснится.
– Нет, для меня уже сегодня все выяснилось, вот сейчас, в эту минуту! Пусть поцелуют меня в… По очереди и крест-накрест! Не для того я своей головой рискую, чтобы меня под конец сослали в глушь. Я еще им всем покажу! Если вернусь, пусть поостерегутся! Рассчитаюсь! Начну сверху, с этой братии. Они нас погнали эту страну завоевывать, чтобы самим плоды пожинать. А я сыт по горло!
Его никак не успокоить. Уходит таким же возбужденным, как и пришел. Этот уже излечился. А ведь как был убежден в правильности своих взглядов! Так всегда. Фанатики его склада отрезвляются только тогда, когда их самих хватают за глотку. Других жизнь учит быстрее. Они видят несправедливости, которые чинятся в отношении их товарищей, и делают для себя выводы, по крайней мере в главном. Как бы то ни было, недовольство Гитлером и верхушкой германского государства растет. И именно у нас – у тех, кого на родине изображают примером для других. Поистине непонятное, вопиющее противоречие. Но должен же быть какой-нибудь выход!
А может быть, противоречие это вообще неразрешимо до тех пор, пока мысли наши все еще не сбросили давно сношенные детские башмаки? Примерно так сказал мне на днях один ефрейтор из взвода подвоза инженерно-саперного имущества. Когда на прошлой неделе я зашел в роту Люка посмотреть, что там делается, этот ефрейтор сидел за столом с двумя другими солдатами. Они говорили о котле и, когда я вошел, стали задавать мне вопросы, требовавшие от меня ясных ответов. Я попытался, насколько возможно, обойти подводные рифы. Но эти трое не удовлетворились моими ответами. Они высказали довольно разумный взгляд на вещи: было ясно, что они придерживаются только фактов и отвергают всякие отговорки и, кроме того, что думают они совсем не так, как разрешено в Германии. Сделав вид, что не заметил этого, я вышел. Прежде я реагировал бы совсем по-другому, сомневаться нечего: Значит – это совершенно ясно – и сам я уже не такой, каким был несколько лет или даже месяцев назад.
* * *
На следующий день – 21 декабря – в небольшой лощине у нас происходит праздничное богослужение… Закончилась молитва, прозвучало благословение. Люди расходятся. После кратких пожеланий уезжает и дивизионный священник. Тем самым, в сущности, кончается и рождество. Но для меня – и наверняка еще для многих – оно не кончилось. Воспоминания все сильнее охватывают меня. Передо мной мысленно проходят годы, месяцы, дни и самые последние минуты. Архитектор с нашей улицы, брошенный в концлагерь… Роммингер… Настроение в Германии… Зейдлиц, Тони, а теперь – патер… Они обступают меня. Они представители всех слоев нашего народа и здесь, и на родине. И все они недовольны происходящим. То громко ругаются, то причитают, то шлют радиограммы о помощи, то шепчутся и передают друг другу слухи из уст в уста. Нет, пожалуй, среди нас никого, кто сейчас был бы всем доволен. Во всяком случае я таких не знаю. Но почему же тогда мы миримся с этим гнетом? Жить так, как мы не хотим? Почему мы послушно, со всем служебным рвением выполняем приказы, которые нам дают? Разве только война необычное состояние – заставляет нас делать это?
* * *
После долгих переговоров с нашим 1а («Не выйдет», «А что будете делать, если в это время что-нибудь случится?", „Рождество можно праздновать дома, когда вся заваруха минует“, „Ваше место в батальоне, а не позади“), после всего этого водопада слов, который обрушился на меня, мне все-таки удается получить от него разрешение навестить наших раненых на дивизионном медпункте.
– Ну ладно, благословляю! Раз уж так хотите, поезжайте! Оставьте за себя Фидлера.
Быстро заправляем машину последними каплями бензина. Если нам больше не выделят бензина (на это надеяться не приходится), а у Глока его «случайно» не найдется или же не выгорит товарообмен мины – горючее, с поездками на машине скоро будет покончено, придется передвигаться только пешком. Но на сегодня бензина хватит.
Сразу же после завтрака выезжаю вместе с доктором. Сунули в карманы несколько плиток шоколада, тюбики леденцов, сигареты и доставленные полевой почтой последние письма – их всего двадцать на сотню наших раненых, которым так и пришлось остаться в котле. Шоколад выдается только тем, кто участвует в ближнем бою. Но нам удалось скопить немного, так как он выдается всегда по количеству активных штыков на вчерашний день, а за это время кого-нибудь всегда убьют. Я приберег эти мелочи специально для сегодняшней поездки. Они настоящие драгоценности, дороже, чем целые шоколадные наборы дома.
Первая наша цель – дивизионный медицинский пункт. Он расположен на полпути до Разгуляевки. Это капитальные здания, бывшая школа с пристройками. они расположены высоко и видны издалека. К входу подъехать не можем, приходится вылезти из машины, не доезжая метров пятидесяти. Много саней, грузовиков, повозок, привозят раненых, больных, обмороженных. Одни ковыляют сами, других ведут под руки, большинство несут на носилках. Одного за другим направляют в приемный покой. Здесь длинная очередь, конца которой не видно. Молодые и пожилые, офицеры и солдаты, тяжело и легко раненные. Многие скончались еще в пути.
Справа от большого здания тянется снежный вал – метра два с половиной высоты и метров тридцать длины. В нем проделан узкий проход. Через него санитары выносят покойников, потом с пустыми носилками возвращаются за следующим. Земля тверда, лопаты тупы, рабочей силы нет, а те, кто есть, слишком слабы. Дело упрощается: мертвецов забрасывают снегом. Вырастают снежные валы. Так возникло замкнутое снежное каре.
Вот лежат они, мертвецы, окаменелые от мороза, вытянувшиеся или скрюченные, без ног, без рук, с забинтованными головами, с закрытыми или уставленными в небо глазами, с сжатыми кулаками или искаженными лицами, скаля желтые зубы в разверстых ртах. Смерть сделала их всех одинаковыми. Ввалившиеся щеки, тощие от голода тела. Не успевает человек издать последний вздох, как его уже хватают четыре руки, мертвеца стаскивают с койки, чтобы освободить место для других, которые уже ждут на улице. Здесь, в тишине, мертвеца бросают к другим, уже покорно лежащим в безмолвном строю; пара лопат снега – и можно браться за следующего.
Растет до самого неба зловещий монумент человеческого горя и страдания, избавления от ужаса, принуждения и преследования. Пока он еще скрыт от людских взоров за снежным валом, но он растет все выше, неудержимо, с каждым часом. Те, кто сегодня стоят перед ним, завтра, быть может, сами лягут следующим слоем, и настанет день, когда каждый проезжающий мимо увидит эту гору одеревенелых трупов. А такие монументы, заставляющие задуматься, предостерегающе растут во многих местах – повсюду, где висит белый флаг с красным крестом. Этот флаг, обещающий помощь и спасение, стал здесь символом бессилия.
Командир санитарной роты доктор Бланкмайстер стоит у входа и принимает парад обреченных. Бледно-желтый, с почти отсутствующим взглядом, протягивает он мне руку. Видно, что он падает с ног от усталости. Жалуется мне на свои горести. Сначала раненых еще удавалось эвакуировать в полевой госпиталь, а некоторых на транспортном самолете даже в глубокий тыл. Теперь с этим покончено. Все помещения забиты ранеными и больными, на каждое место приходится двое-трое.
Помещение, в которое мы входим, напоминает муравейник: здесь кишмя кишит солдатами, офицерами, врачами, ранеными, больными. Прямо на полу, в полутьме, на сквозняке лежат бесконечными рядами тяжелораненые, между носилками даже нельзя пройти. В зловонном воздухе стоны и жалобы, всхлипывания и вздохи, вдруг раздается чей-то буйный выкрик, и снова позади, где совсем темно, кричат от боли солдаты, зовут врача, орут, ругаются, проклинают все на свете. Один молится, другой только выкрикивает: «Дерьмо, дерьмо вонючее! " Один пытается привлечь к себе внимание командным тоном, другие умоляют и клянчат. Некоторые лежат с закрытыми глазами, апатично и безучастно, наверное без сознания. Прямо здесь и умирают, ожидая, надеясь, а помощь в белых халатах проходит мимо. Двое санитаров берут мертвеца за ноги и за руки, выносят в снежное каре – туда, где уже лежат под снегом другие. Освободилось место. Вносят новые носилки. А голоса разной силы по-прежнему заглушают друг друга: то юные и совсем детские, мальчишеские, то низкие басы. Когда слышишь эту вакханалию молитв, богохульств, призывов, обращенных к жене и матери, и самых грязных окопных ругательств, кажется, что попал в сумасшедший дом. Здесь, как. и там, соседствуют небо и ад. И так всюду.
В длинном, примитивно оборудованном помещении находится то, что в нормальных условиях именуется операционным залом. Столы и два складных столика с бурой резиновой клеенкой, допотопные дампы, которым место только в музее. На школьной скамье разложены хирургические инструменты и перевязочный материал. Слева, в шкафчике без дверок, – медикаменты, перед ним – тазик для умывания. На обоих операционных столах днем и ночью идет работа. Здесь орудуют трое врачей в забрызганных кровью халатах, ни на кого и ни на что не глядя. Смены им нет. Режут, пилят, ампутируют, пока не падают от усталости. В месяц через это помещение проходит полторы тысячи человек. Можно представить себе, какой необычайный запас энергии необходим врачам, чтобы справиться с таким потоком. К тому же у многих не просто огнестрельная рана или обморожение, когда достаточно одного движения ножа. Большинство ранено в ближнем бою, и их тело усеяно множеством осколков ручных гранат, которые надо терпеливо извлекать. Другие настолько изуродованы авиационными бомбами и снарядами, что без ампутации не обойтись. Многие случаи требуют от врачей целых часов огромного напряжения и самопожертвования.
Соседнее помещение – бывший школьный класс – занимают страдающие от истощения на почве голода. Здесь врачам приходится встречаться с такими неизвестными им явлениями, как всевозможные отеки и температура тела ниже тридцати четырех градусов. Умерших от голода каждый час выносят и кладут в снег. Еды истощенным могут дать очень мало, большей частью кипяток и немного конины, да и то один раз в день. Бланкмайстеру самому приходится объезжать все расположенные поблизости части и продовольственные склады, чтобы раздобыть чего-нибудь съестного. Иногда не удается достать ничего. О хлебе тут почти забыли. Его едва хватает для тех, кто в окопах и охранении, им положено по 800 калорий в день – голодный паек, на котором можно протянуть только несколько недель. И все-таки раненые, лежащие вповалку в этой обители горя, завидуют тем.
Проходим через все комнаты, идем от койки к койке. На стенах немного рождественской зелени. У некоторых коек фотографии – свадебные и семейные снимки. Жены и дети глядят на того, кто уже почти недвижим. А сам он тих, глаза закрыты, на лице уже умиротворение. Другие натянули одеяла на голову; они не хотят ничего видеть и слышать, они бегут от действительности. Но суровая действительность не выпускает их из своих лап. Из-под одеял слышны стоны, всхлипывания, там льются невидимые слезы – сегодня, в рождественский день, в этот праздник любви и радости. Они хотели бы выкрикнуть всю свою боль этому одичавшему миру, где издевкой звучат слова о «мире на земле». Сердца их обливаются кровью, но губы сжаты: они знают, что их сосед переживает то же самое. Они знают: им никто не поможет. Ни камрад, ни врач, ни бог.
Вечером должен прибыть священник, чтобы благословить их по случаю рождества. Одни воспринимают эту весть с радостью, другим совершенно безразлично, придет он или нет. А некоторые даже открыто выражают свое нежелание. Пусть их оставят в покое, они заранее знают, что скажет патер, они не хотят его слышать! Пусть их оставят наедине с собственными страданиями – и мыслями, под их одеялами, с закрытыми глазами и заткнутыми ушами!
Среди них есть и мои солдаты. В каждом углу видишь знакомое лицо. Обмениваюсь короткими словами приветствия, пожимаю им руки – потные, бессильные, мертвенно-холодные. За некоторыми уже пришла смерть. Каждый получает подарок. Некоторым вручаю письмо – привет из далекого дома, где с любовью помнят о нем, страшатся за его судьбу. Письма почти вырывают из рук, лихорадочно вскрывают, пробегают глазами, с трудом проглатывая слезы. А незнакомый солдат, лежащий рядом, корчится от болей. Он видит только шоколад: что-то съедобное, он голоден, а о нем никто не позаботился.
Беседую с одним солдатом из третьей роты, а сосед его ищет в это время вшей. Ничто на свете его больше не интересует. Сосредоточенно щелкает одну за другой, еще одну, третью, четвертую, не обращая на нас никакого внимания. В изголовье висит его мундир с офицерскими погонами – обер-лейтенант.
В соседнем помещении гремит выстрел. Среди тридцати других раненых на койке в собственной крови лежит лейтенант – молодой, двадцатилетний парень. Правая рука бессильно свесилась вниз, на полу валяется пистолет. «Легкораненый», – сообщает прибежавший Бланкмайстер. Да, возможно. Здесь, в этом городе, сердце разрывают не только пули и осколки.
Сзади кто-то буйствует в бреду. Искаженный судорогой рот выкрикивает приказы, ругается, орет: «Каждый должен умереть достойно, как положено! " На угловатом лице поблескивает монокль. На краю койки сидит денщик и гладит своему командиру левую руку – правой нет, голени раздроблены. „К утру кончится“, – говорит Бланкмайстер.
Обход закончен. Теперь я понимаю, почему так измучены врачи и санитары, почему они так апатичны, а иногда даже бесчувственны и бессердечны. Тот, кто работает здесь денно и нощно не покладая рук, должен иметь нервы, как проволочные канаты; он становится глух к страданиям и боли, к мольбам и жалобам, перестает замечать раны и кровь. Для него это больше не люди, для него это «случаи», одни только «случаи». Он ставит диагноз: «ранение в живот», «легочное», «раздробление», дает распоряжения: «ампутировать», «оперировать», «перевязать», а осмотрев некоторых, произносит: «Тут мы ничем не поможем, все равно помрет». Здесь механически регистрируют, механически работают, механически переходят к следующему «случаю», и в конце концов сам врач становится машиной. Это закономерно.
На прощание Бланкмайстер говорит мне, что некоторые люди моего батальона лежат на перевязочном пункте по ту сторону Татарского вала. Он случайно узнал об этом от другого врача. Так как я хочу по возможности навестить всех своих раненых, отправляемся туда. Немного шоколаду и пару сигарет мы еще приберегли, так что явимся не с пустыми руками.
Не проходит и четверти часа – и мы у цели. Внешне все здесь выглядит иначе, чем у Бланкмайстера. Не только потому, что нет белого флага с красным крестом. Небольшой указатель да протоптанные тропинки и снежный вал говорят о том, что здесь находится нечто вроде лазарета. Весь перевязочный пункт расположен под землей. Блиндаж за блиндажом. А перед ними какие-то жалкие тени, скелеты, на которых кожа еле держится.