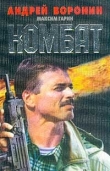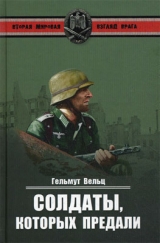
Текст книги "Солдаты, которых предали"
Автор книги: Гельмут Вельц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
На сцене истории войн последний акт небывалой трагедии.
* * *
Тому, что мы еще вообще можем бороться, что наш пульс хоть и медленно, едва, с перебоями, но все еще бьется, мы обязаны аэродрому в Питомнике – единственному, которым еще обладает наша армия. Это источник нашей жизни: наша кладовая, склад боеприпасов, база горючего и аптека – все сразу. Правда, число прорывающихся к нам самолетов уменьшилось до минимума, а доставляемых грузов далеко не хватает, чтобы обеспечить необходимым 22 дивизии, но все-таки несколько ящиков патронов и несколько центнеров хлеба дают нам возможность хоть как-то сопротивляться. С каждым часом растет опасность потерять и этот источник, а тем самым последнее, без чего мы не можем жить. С начала большого русского наступления прошло всего шесть дней, а русские авангарды уже подошли к Питомнику. Они не просто подошли к нему, они атакуют и продвигаются. Они хорошо знают: с занятием этого аэродрома с немецкими войсками в Сталинграде будет покончено еще быстрее.
В блиндажном городке Питомника так далеко вперед не заглядывают. 15 января – обычный день. После полудня в большие палатки прибывает еще 800 раненых. Врачи отправили их сюда потому, что не имеют больше перевязочных материалов и медикаментов, а здесь есть надежда на эвакуацию по воздуху. Многие раненые отправились сюда на собственный страх и риск. Но палатки переполнены. Люди лежат вповалку: раненые – рядом с больными, дистрофики – рядом с обмороженными. Об их обеспечении нечего и думать. Вновь прибывшие длинными вереницами опоясали вход, другие втискиваются в блиндажи или землянки – туда, где есть хоть местечко. И у всех только одна мысль: выбраться отсюда!
Поздно вечером местность оживляется. Появляются группы солдат, офицеры отдают приказы, устанавливаются на позиции пулеметы – стволы их направлены на запад. Штабы, врачи и множество тыловиков, околачивающихся здесь со своими автомашинами, вскоре узнают, что это значит. Линия обороны снова отодвинулась и с рассвета завтрашнего дня будет проходить здесь, прямо через Питомник.
Все приходит в беспорядочное движение, как разворошенный муравейник. Упаковываться – вот пароль! Где мой чемодан? Скорее мою машину! Что, капут? Тогда большой дизельный грузовик, только немедленно; весь бензин, до последней капли, в бак! А куда? Кто, собственно, знает, куда подаваться? Может, кто скажет, куда спрятаться? В городе наверняка все забито. Бог мой, там увидим, лишь бы поскорее отсюда, подальше, вот что самое главное! Эй, ефрейтор Трег, не стоять, пошевеливаться, уложить все и доложить мне! Пусть другие смотрят со злостью – это они от зависти! Сами не лучше. Вместе спасаемся бегством. Что, что я сказал? Бегство? Какое бегство? Просто передислокация, внезапная передислокация, германский тыловик с десятью годами военной службы за плечами не бежит – это каждый ребенок знает! Ну, а теперь живо за дело, надо еще успеть переодеться! Быстрее вещевой мешок! Снять старое барахло, надеть новое белье и обмундирование; так, все идет быстро, как у хорошего рекрута, – недаром десять лет на военке. Чему учили, тому научили! А то Кто его знает, будет ли еще случай переодеться. Да и удастся ли тащить с собой брезентовую сумку, времена-то наступили дурацкие. Так, еще разочек глянуть в зеркало. Да, это я, германский офицер, привыкший шагать от победы к победе! Правда, лицо что-то побледнело, но это просто от спешки, а может, и от первого сомнения.
Во всех блиндажах происходят сейчас подобные сцены. В палатках готовятся к бегству врачи и медперсонал, им уже не до раненых, не до больных. Легкораненых строят в походные колонны для марша. Куда? А, все равно, этого мы и сами не знаем! Позаботьтесь о себе сами. И будьте еще рады, что вообще на своих двоих топаете. Сами знаете: тяжелораненых эвакуируют только частично, основная же масса остается здесь, ведь эти бедняги совсем беспомощны. А мы ничего поделать не можем. Санитарных машин раз-два и обчелся, бензина чуть-чуть, и он нужен для машины с перевязочным материалом и медикаментами.
Лихорадочно готовят к выезду автомашины. Все, кто раньше с трудом двигался, помогают расчищать дорогу от снега, толкают двух– и трехтонные грузовики, чтобы завести их. Жать на стартер бесполезно. Вспыхивают небольшие костры для подогрева моторов. Проходит десять минут. Еще попытка. Мотор не заводится. Что остается делать солдатам? Немногое. Они хотят прочь отсюда, больше ничего. Но почему никто не заботится об уничтожении остающегося имущества? Почему никто не вспоминает о лежащих наготове подрывных зарядах? Почему не выполняют приказа командования армии ничего не оставлять врагу? Никто и пальцем не шевелит, чтобы выполнить этот приказ: нет для этого свободных пальцев, у всех руки другим заняты.
Вдали слышится пулеметный огонь, надо поторапливаться. Вспыхивают новые костры, их становится все больше. И вдруг прямо по всей этой куче залп из крупнокалиберных. Гасите огонь, мы привлекаем внимание артиллерии! Но кто должен это делать? Я и тот, другой, мы вдвоем? Все разбежались кто куда. они уж не вернутся. Или те, что забрались от страха под машины? Посмотрите-ка и на этих, они вам тоже не помогут! Катаются по снегу с осколками в теле. А те уже мертвы. Слышите, вот опять свистит, завывает! Бамс! И еще раз: бамс! Эй, где вы, куда вы делись, послушайте разумного совета, алло! Но последний уже несется мимо, площадь опустела…
На дорогах страшная неразбериха. Машины и бегущие группы – все стремится на восток. Страх гонит к Сталинграду. Есть только одна-единственная дорога, один-единственный след в снегу. Но дороги почти не видно, нет ни наезженной колеи, ни углубления: ветер сегодня метет особенно сильно. Ни деревца, ни кустика. Железнодорожная линия на Гумрак – единственное земляное возвышение. Да и что за преграда невысокая насыпь для сурового норда, который гонит перед собой целые облака снега, наметает сугробы, не считаясь ни с дорогой, ни с колеей!
Машина за машиной медленно пробиваются вперед, метр за метром, ощупью, немыслимо медленно. Одна останавливается: не тянет мотор. Водитель и интендант спрыгивают, лезут под капот, быстро, лихорадочно быстро, потому что сзади скопились другие машины. Опытные водители вылезают, чертыхаются, идут вперед посмотреть, в чем дело. Молодые, которые чересчур торопятся и у которых опыта поменьше, пытаются объехать, съезжают с колеи и через несколько метров застревают накрепко – ни туда ни сюда. Колеса зарываются в снег все глубже, пока грузовик не садится на диффер. И скоро четыре застрявших грузовика – преграда для всех остальных. Толчок, первую машину уже вытолкнули, она кое-как вылезает. Колонна приходит в движение. Но ненадолго. Останавливается другая машина: кончился бензин. Грузовик просто-напросто опрокидывают в сторону и едут дальше. В морозном воздухе глухо слышны разрывы, поднимается густая метель, еще больше ухудшающая видимость, а караван машин с последними каплями бензина в баках, то и дело останавливаясь, с трудом пробирается на восток. За ним устало плетутся солдаты. Их цель – какой-нибудь подвал в городе. Там у них наконец хоть будут четыре стены и крыша над головой, защищающая от непогоды, немного покоя, а возможно, и еды. Но путь долог, очень долог, а ночь так зверски холодна.
В Питомнике все еще возятся у отдельных машин, упорно не желающих заводиться. Сотни автомашин брошены, а вместе с ними – продовольствие, которое всего несколько часов назад доставили по воздуху и уже не успели распределить, Ящики с бумагами, всякое имущество и, разумеется, обитатели палаток, а также преждевременно прибывшая сюда пехота.
Питомник стал местом боев раньше, чем этого хотело командование. Натиск русских оказался слишком силен. Сейчас полночь, может быть даже несколько позже, но о ночном отдыхе нечего и думать. Противник уже ведет пристрелку новых позиций. Но что означает здесь это слово – «позиции»? Жалкие ямы в снегу, как и повсюду. А снаряды крупного калибра систематически разносят в клочья людей, разбивают технику.
Прошло три часа с тех пор, как вышли в путь первые легкораненые. Картина изменилась. По дороге вдоль железнодорожной насыпи теперь движется олицетворение горя человеческого. Позади – малая толика пути, но десятки раненых и истощенных уже остались лежать на снегу. Это началось сразу же после выхода из Питомника. Сначала пытались поднимать их, ставить на ноги, поддерживать. Надо тащить – ясно: ведь это товарищеский долг. Даже если ты сам едва передвигаешь ноги, ты обязан, ты же знаешь их давно, вместе хлебнули горя на передовой, это связывает нас, особенно в беде. Падающих подхватывают под руки и волокут – иначе не назовешь. Но их становится все больше, а поддерживающих рук – все меньше. На минуту останавливаются около упавшего, но помочь ему невозможно. Завывает ветер, мороз прохватывает до костей сквозь рваное обмундирование, а колонна все топчется на одном месте.
Что же делать? Оставить лежать здесь? Это смерть. Но ему не помочь. И стоять дольше нельзя, от этого никому нет пользы, только свою смерть зовешь. И с тяжелым сердцем шагаешь дальше, а отставший падает в протоптанную колею, он ждет, он все еще надеется, надеется на кого-то, кто придет ему на помощь, ждет сострадания и милосердия, спасительного грузовика. Он чувствует непреодолимую усталость, веки смыкаются. Еще раз приподымается и оглядывается назад. Но никто не идет, никого и ничего. И тогда угасает надежда, а вместе с нею и он сам. Он медленно опускается и погружается в дремоту. А ветер поет ему последнюю песню, засыпает мягким снегом, все выше, пока не закроет совсем и не останется торчать из сугроба лишь рука, взывающая о помощи.
Но он не один. Сначала через каждую сотню метров, а потом все чаще лежат они, обреченные на смерть, ждут великого чуда. Пытаются ползти, несмотря на свои мучительные раны, отмороженные руки и ноги. А когда мимо них плетется кучка таких же едва передвигающих ноги и готовых упасть солдат, они молят, заклинают, шлют вслед проклятия. Слова «Помоги, камрад! " звучат до тех пор, пока не затихают вдали шаги и не наступает вновь одиночество. Призывают в помощь бога, дают обеты, молитвенно складывают руки, бормочут „Отче наш“. Последняя судорога, последний вздох, и вот уже голова падает набок. Рот и глаза открыты, они даже после смерти бросают в темную ночь свою немую жалобу.
Там, где железнодорожная насыпь круто заворачивает, стоят на рельсах три порожних товарных вагона. В них можно укрыться от ветра, и несколько солдат взобрались внутрь, прежде чем упасть без сил. Число их все растет, теперь уже набралось человек тридцать. Примостившись у стен, они лихорадочно оглядываются по сторонам, трут руки. Ноги у них уже обморожены. Последняя надежда – грузовик, который захватит их. Двое лежат снаружи, прижавшись к снегу, и всматриваются вдаль в меланхолическом свете чуть забрезжившего рассвета.
А толпы более сильных и выносливых продолжают свой путь. Поддерживая раненых и обмороженных товарищей, они едва передвигают ноги, напрягая последние силы. Это больше чем судорога. Перед ними, они знают, спасение; спасение это – Сталинград; огромное нагромождение развалин представляется им сущим раем. Мускулы их обрякли, желудок пуст, но стремление дойти придает им ту энергию, которая заставляет поднимать ноги и делать следующий шаг. Многие уже выдыхаются, отдают последнюю малость сил раненым товарищам и сами становятся жертвой этой ужасной ночи, так и оставшись лежать на обочине вместе с тем, кого они пытались спасти.
Позади, в Питомнике, удалось наконец привести в движение грузовик. На нем различим тактический знак саперного батальона. За рулем этой последней машины сидит Глок. Два других грузовика уже в пути, они хотят добраться до «Цветочного горшка», где командир батальона подводит итоговую черту в своем военном дневнике. Машина до отказа набита солдатами и ранеными, между ними втиснулся наш казначей. Грузовик кряхтит, пробирается сквозь вьюгу, иногда лишь на миг вспыхивают его фары, чтобы осветить путь. На дороге занесенные снегом холмики. Грузовик натыкается на них, мотор рычит. Включена первая передача, газ, полный газ! Колеса берут, преодолевают препятствие, раздавливают его тяжестью машины. Слышится треск и хруст, словно ломаются деревянные ножки стула, сплющенные куски прилипают к баллонам и, примерзнув, крутятся вместе с колесом, пока не отпадают на ближайшем повороте.
Впереди за ветровым стеклом сидит Глок, он не видит этого и невозмутимо ведет трехтонку вперед. Солдаты, стоя и лежа сгрудившиеся в кузове, тоже ощущают только толчки, думают, наверно, что это куски льда, камни или стволы деревьев. На этом холоде у них самих душа еле в теле. Каждый редкий удар пульса отдается в их ушах, как удар колокола, как погребальный звон над «крепостью Сталинград».
Машина обгоняет группку из трех солдат. Тот, что в середине, сидит на винтовке, за которую судорожно уцепились двое других. Недолго удается этим двоим пронести его; они падают вместе с ним и беспомощно лежат в снегу. Глок останавливает машину и, хотя все решительно против (в кузове действительно нет больше места), сажает их. Раненого поднимают в кузов, и теперь он со своей перебитой ногой сидит среди остальных. Но этим последняя возможность помощи исчерпана.
Там, на железнодорожной насыпи, где стоят товарные вагоны и где уже давно ждут не дождутся помощи, грузовик окружает толпа живых мертвецов. С ввалившимися глазами и тонкими, как плети, руками они кажутся выходцами с того света. Они появляются прямо перед передним бампером, так что водителю приходится резко затормозить и остановиться. «Возьмите нас с собой, мы больше не можем, нам пришел конец! " Костлявые пальцы крепко уцепились за борта машины, полускелеты судорожно держатся за крылья и радиатор, слева и справа в кабину сквозь стекло заглядывает сама смерть – шесть-семь желтых, страшных лиц. А за ними толпится бесформенная масса почти бесплотных существ, которые были когда-то людьми и снова хотят стать ими. Они обступили машину сплошным кольцом, судорожно прижались, прилипли к ней. Этот натиск отчаяния страшен, он опасен силой и угрозой, таящейся в нем. Но последние ряды колеблются, качаются, топчутся, падают наземь, и Глок понимает бессилие этих солдат, уже отмеченных печатью смерти. Пусть даже и поднимает угрожающе свою руку одна из этих теней, одно из этих привидений в военной форме, которое снова потонет в призрачном мире, если никто не сжалится над ним.
Но Глок бессилен помочь: у него нет больше места. Он открывает дверь и объясняет им. Он показывает им на кузов, в котором как сельди в бочке набиты солдаты из Питомника, потом качает головой и твердо говорит: «Нет! " Но никто не отступает, они не понимают ни просьб, ни угроз, они не хотят понимать этого, они хотят любой ценой отвести от себя руку, уже хватающую их за глотку. Натиск на машину усиливается, масса отчаявшихся растет, положение становится все опаснее. И вдруг мелькает чей-то штык, Глок чувствует удар в ногу. Он бьет кулаком в чье-то лицо, захлопывает дверцу, дает газ, и колеса приходят в движение. На лбу его выступают капли пота. Разговор со смертью окончен, он ведет машину дальше на восток.
Взят и Питомник. Остановилось сердце армии. Но мозг все еще не желает признать этого факта, не хочет сделать вывода. «Биться дальше, биться дальше! " – вот единственные слова, которые слышны от командования. Значит, до последнего патрона! Что ж, этот момент наступает. Западный фронт нашего окружения теперь твердо проходит западнее Гумрака по линии Песчанка – Большая Россошка. Пространство котла сократилось вдвое. Во многих дивизиях пулеметы стали редкостью, а об оружии более крупных калибров и говорить нечего. Тяжелое оружие большей частью попало в руки противника на оставленных позициях.
На отдельных участках остатки рот и батальонов бросают оружие. Солдаты осознают бесцельность дальнейшего сопротивления и не желают один за другим класть свои головы. Они хотят конца этого ужаса, а так как командование закрывает глаза на факты и упорствует в своем слепом подчинении приказам свыше, войска действуют самостоятельно. Командование отвечает введением военно-полевых судов. Каждый солдат, который по собственной воле прекратит сражаться, подлежит расстрелу, как дезертир или присвоивший сброшенное с самолета продовольствие. Этими драконовскими мерами командование рассчитывает положить конец разложению войск. Ружейные залпы, гремящие на задних дворах домов, и пробитые пулями тела, падающие на грязный снег, показывают, что штаб армии не останавливается ни перед какими средствами, чтобы заставить войска держаться, между тем как они физически уже находятся при последнем издыхании.
Около Гумрака теперь оборудован новый аэродром. В эти дни сюда из ОКХ прилетел один майор. Он имеет приказ осмотреть котел и затем доложить в ставке фюрера об обстановке. Его пребывание в котле длится всего десять минут. Во время встречи на летном поле русская артиллерия ведет беспокоящий огонь, снаряды падают в непосредственной близи. Для него этого достаточно, чтобы вскочить в готовый подняться самолет и побыстрее отправиться восвояси, даже позабыв в котле свой чемодан.
Немецкие транспортные самолеты, как и прежде, выполняя приказ, кружат над Сталинградом. Издалека, со своих баз, расположенных за сотни километров, они доставляют нам продовольствие, боеприпасы и медикаменты. Они кружат над нами, вот только приземляться мало у кого из них есть охота. На аэродроме Гумрак было уже слишком много аварий. Так как знаки места выброски выкладываются редко, контейнеры с грузами, с их частью драгоценным, а частью бесполезным содержимым в большинстве случаев попадают в руки противника словно крупный выигрыш в беспроигрышной лотерее.
Стоя с Бергером около блиндажа, наблюдаем, как из-за облаков появляется Ю-52, а сзади чуть выше на него бросаются два русских истребителя. Они атакуют тихоходный «юнкере», который даже не может как следует обороняться. Дымный след говорит о результате. Самолет хромает, неуверенно качается в воздухе, и вот уже он падает, переворачиваясь через правое крыло, пылая, ударяется о землю, и взрыв завершает спектакль. Когда мы подходим к месту взрыва, там смотреть не на что: плоская лощина в снегу, далеко разлетевшиеся куски металла, обломок пропеллера и несколько дюжин консервных банок, которые Бергер сразу берет под охрану.
Но там мы находим еще кое-что, то, что так редко поступало к нам и чего последнее время мы были лишены совсем, – мешок с почтой! Он лопнул, из него высыпались письма и открытки – полусгоревшие, обожженные. Хватаемся за мешок: нет ли там еще? Тонкий почерк жен, угловатые детские буквы. Перебираем, смотрим, кому эти письма. Незнакомые фамилии. Как найти этих людей? А может, они уже давно лежат под снегом. Как унтер-офицер Леман. Он убит еще на рождество, а спустя неделю дочурка пишет ему: «Дорогой папочка, желаем тебе всего доброго! " Нити, связывающие нас с родиной, оборваны. Мы стали недосягаемыми для них, недосягаемыми для последнего привета. Одна лишь смерть находит к нам дорогу да приказы, которые облегчают ей работу. Приказ сражаться и приказ умирать. Даже церемония нашей последней минуты разработана приказом штаба 6-й армии от 12 декабря. В нем говорится: сдаваться живыми в плен – позор; когда выхода больше нет, офицер обязан расстрелять солдат!
«Преждевременные заупокойные речи нежелательны»
Итак, прощальный приказ по батальону написан. Он вызывает в памяти путь, пройденный нами вместе по полям сражений в Европе, в нем говорится об успехах и о погибших камрадах. Заканчивается благодарностью за верность и доверие и призывом оставаться твердыми. Подписываю – это мое последнее действие как командира батальона. Офицеры, унтер-офицеры и рядовые уже переведены в другие части, снаряжение и обмундирование переданы, сдача имущества интенданту закончена.
Сегодня у нас 20 января. После передачи последних планов минных полей я свободен. Байсман подает машину. Глок, Ленц и Тони должны сопровождать меня в моей последней поездке в штаб армии. Они садятся сзади. Бергер остается. Заберу его, как только узнаю, где находится мой новый батальон.
Мрачное покрывало туч, все в черных пятнах, низко нависшее над головами, медленно плывет на юго-запад. Падает тяжелый снег. Над сугробами стелется пелена тумана, небо и земля сливаются в одно расплывчатое целое. Заметенный след дороги можно различить только непосредственно перед колесами автомашины, с трудом пробирающейся сквозь пургу.
Хотя разъехаться в этой снежной пустыне нет никакой возможности, рядом с нами как-то протискиваются машины, сани и орудия, целые колонны. Все они, без исключения, движутся в одном направлении – к Белым домам. Да, там, в городе, будут рады подкреплению, хотя оно, без сомнения, приходит слишком поздно. Что делали эти солдаты до сегодняшнего дня, где они околачивались раньше – на северном ли отсечном участке, или на отступающем западном фронте котла, или же это вообще какие-то неизвестные резервы?
Вопросы эти возникают, но ответа на них уже не требуется. Интерес ко всему окружающему ослаб, почти совсем пропал. За последние недели глаза столько навидались, а уши столько наслышались, столько было всяких предположений и пророчеств, а ход огромной битвы вопреки всем предсказаниям и обещаниям был вплоть до нынешнего дня настолько чудовищно уничтожающим для нас, что каждый в конце концов замкнулся в самом себе. Он делает только то, что нужно ему самому, думает только о том, к чему его принуждает служба или задание. Это стало правилом. К этому добавляется сознание неминуемого конца, которое парализует волю последних, еще ведущих бой солдат, делает их ко всему безразличными. Равнодушно смотрят они на танки и занятые противником стрелковые ячейки в снегу: все равно судьбы не миновать. Они слышат разрывы и пулеметные очереди, они слушают радио, но все это для них чепуха, неважно, ровно ни о чем не говорит.
Горький конец неотвратим, через две недели все мы будем принадлежать прошлому. Так зачем же и дальше мучить себя впечатлениями, которые только отвлекают и вводят в заблуждение, зачем задаваться вопросами, на которые никто не может ответить? Зачем, наконец, бросаться в снег, когда по тебе стреляют? Все бессмысленно. Суждено погибнуть сегодня – погибнешь сегодня, погибать завтра – погибнешь завтра. Очередь все равно дойдет. Какая кому радость, что жизнь его протянется еще несколько дней! Поэтому солдаты крайне редко ищут убежища от огня. Стоят под сильнейшим обстрелом и в ус не дуют. Бомбежки с воздуха вроде и замечать перестали. Инстинкт самосохранения притупился. Сторонний наблюдатель покачал бы головой: он или поразился бы нашей выдержке под огнем противника, или счел бы нас ненормальными. Скорее последнее. Особенно если бы подошел поближе и вгляделся в лица, на которые судьба уже наложила свой отпечаток.
Перед нами – Татарский вал. Проезд, который еще осенью имел ширину 10 метров, теперь забаррикадирован наваленными друг на друга глыбами льда. Машинам приходится проезжать через два узких закругления. Это сделано для того, чтобы не давать русским наблюдателям, расположившимся на высотах вокруг «Теннисной ракетки», бросать свои взгляды внутрь котла. Здесь что-то происходит. Машины стоят справа и слева от вала трехметровой высоты, люди прижались к его склонам. Один подымает голову и что-то показывает соседу рукой. На дороге тоже стоят маленькие группки, особенно около проезда. Какой-то капитан делает мне знак остановиться и идет навстречу:
– Осторожно, русские танки! Здесь не проехать!
– Где, где русские танки? Здесь, у Татарского вала?
– Господин майор может убедиться сам.
Карабкаюсь на вал. Ветер бросает мне в лицо пригоршни белой пыли, но все-таки сквозь завесу успеваю разглядеть, что там, впереди, на степном просторе, метрах в пятидесяти от нас, движется что-то белое, огромное. Черт побери, да, танк, русский танк Т-34! Справа можно заметить и еще. Они медленно, словно на ощупь, пробираются по заснеженной местности, движутся дальше, явно в поисках немецких войск. Но тех уже здесь нет. Не видно ни стального шлема, ни руки с противотанковой гранатой или подрывным зарядом. Широкое поле перед смотровыми щелями словно вымерло. Но танк не довольствуется этим. Он не уходит, а утюжит поле вдоль и поперек. За танками наверняка придет пехота, они должны оставить ей участок, где уже нет ни одного живого немца.
Рядом со мной совсем молодой лейтенант-артиллерист устанавливает рацию, дает своему единственному солдату указания, как ставить антенну:
– Быстро, быстро, быстро, нам надо открывать огонь, а то ни одна свинья не беспокоится!
Солдат бежит, а лейтенант начинает крутить ручки настройки.
Слева от меня залег седоволосый майор-зенитчик. Невыразимо печально, с горькой складкой у вялых губ смотрит он на надвигающуюся бронированную силу. Он уже не кричит, как артиллерист, он спокоен и устал, чертовски устал. Он хорошо знает: это конец. Но он должен высказать кому-то то, что гложет ему душу. А так как рядом с ним случайно оказался я, он обращается ко мне. Голос его дрожит от внутренней боли, такой мне приходилось слышать редко.
– Почему мне, старому человеку, суждено пережить это? Разве мало с меня девятьсот восемнадцатого? Почему?
Он плачет. С первой слезой он потерял все свое спокойствие. Теперь слезы уже без удержу текут по его щетинистым щекам, он вытирает их рукавом шинели, все старое тело его сотрясается, а в прерывающемся голосе звучит бессильная горечь поражений двух войн.
– Тысяча шестьсот! – слышу я снова голос лейтенанта справа. Позади гремит орудийный выстрел. Но что значит сейчас «позади»? Там, где сейчас огневые позиции, завтра, верно, будет уже проходить линия обороны. Котел станет таким узким, что пушки смогут стрелять только прямой наводкой. Недолет, разрыв прямо перед нами. «Тысяча восемьсот! " Снова грохочет выстрел – и снова разрыв. Перелет. «Вся батарея, огонь! " – орет теперь молодой лейтенант в микрофон, передавая уточненные координаты.
Но все усилия тщетны. Т-34 невозмутимо утюжат местность, а когда снаряды рвутся, они уже давно в другой точке. В ответ на снаряды нашей батареи они поворачивают к нам свои плоские башни и наводят орудия. Над нашими головами свистит выстрел за выстрелом. Иногда кажется, что снаряды пролетают всего на ладонь от головы. Часть их ударяет в вал перед нами, так что нас засыпает осколками и снегом.
Многие окружающие меня отправляются дальше в путь. Вдоль Татарского вала гуськом, один за другим шагают они на юг, туда, где стоит летная казарма и видны первые фасады домов центральной части города – «Сталинград-Центр». Бредут спотыкаясь, как измученные странники, с опущенными головами, как побитые собаки. Не имея, в сущности, цели, они тащатся в разрушенный город только потому, что там есть подвалы, есть тепло, потому, что при ясной погоде там иногда виден дым из труб, – может быть, там удастся раздобыть хоть порцию горячей пищи. Вот что движет этими людьми, вот что определяет их маршрут, больше ничего: ни приказ, ни боевое задание, ни что-либо вроде сознания своего долга, а тем более воли сражаться дальше.
И я тоже не могу до бесконечности торчать на этом пятачке, мне надо в штаб армии! Но дорога вдоль вала мне незнакома, а по шоссе гуляют русские танки. Заставляю себя подняться.
– В машину, направление – шоссе, газ!
И вот уже наша машина повышенной проходимости проскальзывает сквозь ледяной барьер и быстро мчится вперед. Газ, газ, полный газ, еще! Пока танкисты не разберутся, кто мы и чего хотим! Может быть, в тумане они примут нас за своих. Мы проносимся между остановившимися Т-34, дорога ровная, спидометр показывает 80 километров в час. С Байсмана льется пот, его большие руки судорожно сжимают руль. На юг, на юг, только бы не застрять в снегу! Пока остальные внимательно смотрят направо и налево, опасная зона постепенно остается позади. Но прежде чем мы успеваем спуститься в низину, справа от нас разрывается снаряд, русский или немецкий – неизвестно. Нам повезло!
Минуя маленькие домишки и занесенные снегом лощинки, подъезжаем к окраине города.
Развороченная мостовая, опрокинутые мачты и фонарные столбы, разбитые трамвайные вагоны, воронки, камни грудами и по отдельности, большие и маленькие, сгоревшие капитальные стены и косо снесенные фасады – все это сливается в одну сплошную картину разрушения. От всего центра города осталась только полная неразбериха подвалов и всевозможных укрытий. Где-то здесь находится командование армии. Спрашивая, пробираемся дальше. Посты полевой жандармерии, отдельные офицеры, группы раненых указывают нам дорогу. Впервые за несколько недель мы видим, проезжая мимо, более или менее сохранившиеся здания. Уже темно, когда добираемся до реки Царицы. По обледеневшей дороге съезжаем вниз, пересекаем реку, потом вновь взбираемся в гору. Мы в южной части города – «Сталинград-Зюд». На карте написано: «Минина». В этом пригороде война бушевала меньше всего. Улицу окаймляют неповрежденные дома и решетчатые заборы.
Проходит еще с полчаса, и мы добираемся до места. Перед нами огромное здание, так называемый Санаторий. В его подвалах разместился штаб армии.
Паулюс недосягаем. Меня принимает начальник отдела офицерского состава полковник Адам. На мой доклад он отвечает:
– Саперный батальон 16-й танковой дивизии расформирован. Слишком поздно прибыли. Но назад меня тоже не отпускает:
– Нет, останетесь тут, а завтра или послезавтра примете боевую группу на юге. Здоровых офицеров осталось очень мало. Хотите забрать вещи? С «Цветочного горшка»? Ну, туда вы вряд ли проберетесь. Выбросьте это из головы! Если хотите, пошлите туда свою машину. Пусть доставят вам абсолютно необходимое. А лично вы с этой минуты поступаете в распоряжение командования армии. Можете понадобиться в любой момент. Переночуйте в квартирмейстерском отделе, там еще есть место. Это прямо над нами. А теперь извините, я должен идти к шефу. Доброй ночи!
Адам уходит. А я стою. У меня нет ничего: ни умывальных принадлежностей, ни бритвы, ни шубы и теплого нижнего белья, ни ножа с ложкой, ни карты местности. Завтра на рассвете пошлю Байсмана на «Цветочный горшок», чтобы привез Бергера и все вещи. Это единственный выход. Поднимаюсь из подвала наверх и в прохватываемом сквозняком коридоре вместе с четырьмя моими провожатыми ищу указанную комнату.
– Квартирмейстерский отдел здесь?