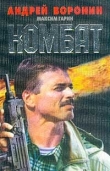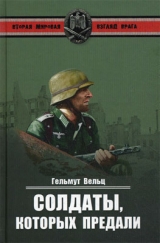
Текст книги "Солдаты, которых предали"
Автор книги: Гельмут Вельц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Да, я подчинюсь приказу, хотя и вижу, какая беда надвигается на нас! Этот приказ пригвождает к месту целую армию. От нее останется так же мало, как от взвода Рата. Но я ее часть и остаюсь ею не только во времена побед, но и в тяжелые дни. И что приказано, должно быть выполнено. Это обязанность каждого солдата. Ведь и я сам всегда поступал так: от первых «раз, два – левой» до военного училища, от лейтенанта, муштрующего новобранцев, до командира батальона. Может ли все это вдруг измениться для меня только потому, что теперь речь идет о моей собственной жизни? Разве не присягнул я в том, что «как храбрый солдат буду готов в любую минуту выполнить присягу ценой собственной жизни»? Присяга сохраняет свою силу и сейчас. Ничто не изменилось. Только я сам стал другим. Я начинаю задумываться, есть ли смысл в приказах, которые мне даются. Но если я даже и не нахожу этого смысла, я все равно повинуюсь – на этот раз, так сказать, не вытянув руки по швам, а сжав кулак в кармане. А мои солдаты? Если и они тоже больше не понимают смысла приказов? Как быть мне с ними?
Опять зуммер телефона.
– Командир «Волга» слушает.
– Прошу не отходить от аппарата, соединяю с господином генералом.
Ну, что скажет старик? Может быть, что-нибудь изменилось в обстановке?
– Фон Шверин.
– Командир «Волга» у аппарата.
– Хорошо, что я застал вас лично. Приказ фюрера обсуждению не подлежит. Он предельно ясен Ничего не поделаешь, придется ждать. Дивизия останется пока на прежних позициях. Хотел только сообщить вам, что для вашего батальона кое-что меняется. Обстановка требует боевого использования каждого солдата, до единого. Поэтому саперы должны быть на переднем крае. Завтра получите подробный приказ. Ожидаю от вас, что весь батальон, как и раньше, не ударит лицом в грязь.
«Обеспечение 6-й армии беру на себя»
Прошло несколько дней. Батальон снова занимает позиции на передовой между нашей пехотой и хорватским полком – на территории завода «Красный Октябрь». В мою полосу входят: цех № 1, цех № 2 и здание заводоуправления. За пробитыми в стенах амбразурами и около пулеметов в полной боевой готовности засели саперы. В тусклом свете зимнего дня они наблюдают за местностью. Слева от цеха № 1 линия фронта уходит на восток, в открытое поле. Солдаты расположились прямо в снегу. Один ведет наблюдение, другие постукивают от холода ногами и трут руки. Двадцатиградусный мороз прохватывает через сапоги и шинели.
Теперь вознаграждается осмотрительность нашей дивизии, решившей подождать с преданием своего имущества огню и уничтожению. В то время как наши соседи в летнем обмундировании и промокших сапогах, в которых ноги превращаются в сплошные раны, у нас новые маскхалаты и лохматые шубы. Несколько дней назад их выдали нам дивизионные интенданты. Правда, зимнего обмундирования далеко не достаточно и не хватает на всех, но все-таки солдаты в окопах на переднем крае имеют возможность меняться теплыми вещами на время смены, так что по сравнению с другими частями у нас довольно мало обмороженных. И все-таки врачу не приходится жаловаться на отсутствие работы. Кроме огнестрельных и осколочных ранений каждый день немало отмороженных пальцев рук и ног, а то и ушей. В таких случаях помочь особенно нечем. Самое большее, что может сделать врач, – направить в полевой госпиталь или выдать побольше мази от мороза.
Эти потери все больше лишают нас активных штыков на переднем крае. Мне становится страшно при мысли, что будет дальше. В моем батальоне при всем желании больше наскрести ничего нельзя. По распоряжению штаба дивизии – а оно очень строгое – я отправил в строй, на передовую, всех, кто только вообще в состоянии что-нибудь видеть перед собственным носом и сгибать указательный палец правой руки. Вот они скрючились в белых снежных ямах: писаря, санитары, счетоводы, маркитанты, ротные связные, парикмахеры и денщики. Давно миновали те времена, когда всей этой братии приходилось вести метровые списки личного состава, выдавать таблетки, высчитывать полевую надбавку, продавать спиртное и ранним утром брить начальство («уголки рта пробрейте три раза! "). Теперь эти солдаты, которые до сих пор знали войну лишь на известной дистанции, держат в руках автоматы и винтовки, лежат за пулеметами, устройство которых им совсем незнакомо. Не нашлось времени даже для самого короткого обучения. На глазах у противника им приходится учиться обращаться с огнестрельным оружием и взрывчаткой.
Фидлеру – тому легче. Канониры и обозники нашей дивизионной артиллерии стянуты в блиндажи около Татарского вала. Там их должны наскоро подучить пехотному бою. Так дивизия готовит себе резервы, которые будут подброшены на передовую, лишь только призывы о помощи станут особенно настойчивыми. На обучение предположительно отведено три недели, а Пауль назначен командиром этого сводного подразделения. Я не завидую его временному отдыху от боев, но мне очень не хватает его откровенных суждений.
Франц и обер-фельдфебель Рембольд командуют впереди, в окопах. Они хорошо справляются со своей задачей, успешно отражают действия русских штурмовых групп и атаки, а по ночам минируют подходы. Но пройдет немного времени, и противник увидит, что здесь оборону держат саперы, и сделает из этого надлежащие выводы.
Со стрелковыми боеприпасами приходится обращаться бережно. У нас осталось так мало патронов, что мне пришлось приказать открывать огонь только в случае атак. На все другие цели запрет вести огонь. Последствия не заставили себя долго ждать. Сначала время от времени появляются белые русские каски, потом становятся видны пригнувшиеся фигуры, и в конце концов на той стороне начинается почти беспрепятственное движение. Красноармейцы, уже не пригибаясь, совершенно спокойно несут свои донесения в каких-нибудь ста метрах от нас. Они только краем глаза поглядывают на дула наших пулеметов. Противник чувствует себя уверенно. Только иногда я разрешаю дать очередь. Патроны израсходованы, и затем следует длительная огневая пауза. После непрестанного пулеметного «таканья» предыдущих недель это производит впечатление паралича. Даже невольно удивляешься, почему никто не хочет выяснить причину нашего неожиданного «дружелюбия».
У нашей артиллерии тоже сплошной отдых. Перед окружением она ночь за ночью вела беспокоящий огонь по русским позициям, выпуская по две тысячи снарядов помимо поддержки атак и кроме регулярных огневых налетов по важнейшим объектам. А теперь редко-редко услышишь разрыв нашего снаряда и таким образом узнаешь, что у нас вообще еще есть орудия крупного калибра. Бывают дни, когда по растянувшемуся вдоль Волги городу делается всего какая-нибудь сотня орудийных выстрелов. Подавление батарей противника, во множестве окружающих наши блиндажи и фасады разбитых домов, по существу, прекратилось. Только на те вражеские орудия, которые уж очень досаждают нам, иногда в виде исключения выделяется по десять выстрелов. Прежде на такую цель по норме полагалось 240 снарядов, меньшее количество считалось бы недостаточным. Но начиная с первых чисел декабря наши начальники тылов и артиллерийские командиры стали оперировать только начальными цифрами таблицы умножения. Хватит и этого. Должно хватить!
И все-таки держащуюся на волоске полосу обороны надо удерживать. Стреляем меньше мы, больше стреляют русские. Кроме потерь от огня дальнобойных батарей и железнодорожных орудийных установок, которые накрывают нас своими набитыми взрывчаткой стальными «чемоданами», мы несем большие потери и от залпов реактивных установок, которых у русских с каждым днем становится все больше. Здесь таблицей умножения не отделаешься. Днем и ночью над мертвым городом гремит непрерывный салют. Сотни стволов, с предельной точностью нацеленных на нас, говорят своим грозным языком, хорошо понятным нашим старым воякам.
Не утешает и взгляд, устремленный в небо. Раньше, бывало, чуть взойдет солнце, появляются первые эскадры бомбардировщиков, летит эскадрилья за эскадрильей, сменяя друг друга. Впереди, по бокам и сзади – истребители, а в середке – пикирующие бомбардировщики. Черный крест нашей авиации господствовал в воздухе, облегчая нам бои. Теперь это миновало. Правда, иногда наши самолеты все-таки появляются, но базы и аэродромы их далеко на западе. Поэтому большей частью, даже когда в небе нет русской авиации, виден лишь одиноко летящий «мессершмитт», или дежурный разведчик, или пикирующий бомбардировщик из Питомника. Но русская авиация теперь отсутствует довольно редко. Почти непрерывно в небе висит цепочка краснозвездных самолетов: они беспрепятственно разглядывают наши позиции и бросают свои бомбы, как на учениях. Ночью над нами кружат медлительные бипланы – «швейные машинки» или «кофейные мельницы», как мы их называем. В желтом свете повисших на парашютах осветительных ракет они сбрасывают на нас свой бомбовый груз. Бомбы небольшие и значительного ущерба не приносят, но жужжание этих самолетов не прекращается по ночам. Оно говорит о том, что господство в воздухе перешло к противнику.
Нервы наши пока еще в порядке. Прямые попадания и осколки считаются на войне обычным делом, они воспринимаются и регистрируются как само собой разумеющееся. Моральное потрясение испытывается редко, только все больше распространяется какое-то отупение.
Все сейчас совершенно иначе, чем раньше. Мне вспоминаются наступления в период летних кампаний. За десять минут до начала атаки тебя всегда охватывает какое-то зловещее чувство физического страха, иногда сильнее, иногда слабее. Все ли пойдет хорошо: ведь мне сегодня ночью приснился дурной сон. А потом еще это дурацкое предчувствие: какой-нибудь рикошетированный снаряд – и тебя уж нет в живых. Только бы не тяжелое ранение, только бы без ампутации, без протезов, искусственного глаза или инвалидной каталки. Если уж попадание, так лучше полегче или уж сразу насмерть. Смотришь на часы.
Еще пять минут. Как тянется время! Думает ли моя жена сейчас обо мне? Как хотел бы я к ней назад! Только бы выбраться живым из этой передряги! Но вот момент атаки наступил. В первый же миг движения вперед боязливые мысли куда-то уходят. Я без страха вел свои подразделения в бой. Ощущение долга командира укрепляло мое самообладание в первые минуты. А потом, чуть позднее, приходили заботы: часть солдат залегла, надо поддержать их огнем посильнее; все лежат, значит, я должен подняться первым. Не потому, что мне нравится героическая поза, а потому, что я боюсь, как бы минометный огонь не перебил залегших солдат. А когда атака закончена, ощупываешь себя и ощущаешь жизнь как нежданный подарок. Можно подумать, что так бывает только в первом бою. Это верно только отчасти. Учащенно сердце бьется всегда. Пусть никто не говорит, что не испытывал страха. Он лжет. Но, право, дрожать – это не позорно. Мужества самого по себе не существует, мужество – это преодоление страха.
И только здесь все по-другому. Здесь, среди руин и кучи камня на берегу великой реки. Здесь нет ни метра земли, который остался бы не тронутым снарядами и бомбами, здесь нет ни одного укромного уголка, ни одного мгновения безопасности. И это постоянное состояние крайнего напряжения и прислушивания к каждому звуку неизбежно притупляет восприятие. Смерть уже не кажется страшным призраком, не ощущается как угроза.
Нет, многие видят в ней скорее избавление. Куда сильнее другая забота. Все хуже становится с продовольствием. Суп все водянистее, куски хлеба все тоньше. Фельдфебель Нойзюс докладывает мне, что мяса для выдачи по норме уже не хватает. Нехватку можно покрыть только за счет убоя еще оставшихся лошадей. Но даже это невозможно. Ведь наши лошади уже давно отправлены в тыл на подкормку, и официально у меня нет ни одной-единственной лошади. Бесконечные телефонные переговоры с дивизией: добиваюсь, чтобы нам подбросили хоть немного мяса. А остальное восполнит фельдфебель Нойзюс, забив пару лошадей, которых я в свое время «припрятал» для снабженческих поездок. Итак, пока мы с голоду еще не помрем!
Мой батальонный писарь остался на «Цветочном горшке». Каждый вечер он добирается ко мне на передовую с папкой бумаг на подпись, приносит последнюю почту и докладывает, что делается позади, о чем там говорят.
Западная стена котла еще держится. Она состоит из 11-го армейского корпуса, нескольких мотопехотных дивизий и авиационных подразделений. Линия фронта проходит там почти сплошь по открытой местности. Нетрудно представить себе, каково там солдатам на переднем крае.
Со снабжением положение напряженное. Что боеприпасов и продуктов не хватает для покрытия текущих потребностей, мы замечаем и сами. Поэтому каждый патрон у нас на вес золота, скоро так будет и с каждым куском конской колбасы. Но плохо, что так будет продолжаться и впредь, несмотря на то что некоторые самолеты все-таки прорываются к нам извне и кое-что доставляют. Значит, нам придется еще больше экономить боеприпасы, чтобы иметь достаточный запас на случай решающего русского наступления. А это значит и другое: придется повременить убивать на мясо последних лошадей.
От одного офицера штаба армии я узнаю, что уже после того, как замкнулся котел, в ставке верховного командования состоялся ряд крупных совещаний авторитетных лиц. Командование авиацией наотрез отвергло требование 6-й армии о ежедневной доставке по воздуху окруженным войскам 750 тонн груза. Но 500 тонн оно доставлять обязалось. Этого, мол, достаточно, если деблокирование произойдет в ближайшее время. Однако 500 тонн в день составляют 250 самолетовылетов в район окружения. А эта цифра пока даже и близко не достигнута, 2-й офицер штаба{29} дивизии говорит о необходимости для дивизии в среднем 102 тонн в день, да и этого никак не хватит ни там, ни сям, а уж о тех, кто на переднем крае, и говорить нечего.
Положение с горючим по сравнению с зимой 1941/42 года тоже стало куда хуже, и улучшить его невозможно. Армейская база горючего до октября получала ежедневно два-три состава цистерн, таким образом, в день прибывало 450 кубических метров горючего. А теперь мы получаем всего 20 тонн в день. Еще печальнее обстоит дело с горюче-смазочными веществами. Зимней смазки, которая необходима при двадцатиградусном морозе, в армии больше вообще нет. Вопреки всякому здравому смыслу дано указание разбавить имеющиеся смазочные материалы на 20 процентов бензином. Вязкость смазки теряется, отказывают поршни цилиндров, плавятся подшипники. Замена вышедших из строя деталей ввиду их разнотипности наталкивается на непреодолимые трудности. Именно того, в чем ощущается наибольшая потребность, как правило, и нет. Самолеты почти ничего не доставляют, так что моторизованные дивизии лишены подвижности.
Положение было трудным и раньше. Ведь склад запасных частей для автомашин иностранных марок находится в Варшаве. Приходилось гонять туда специальные команды. Инженеры и техники, интенданты вечно толклись там за какой-нибудь мелочью, а в случае затруднений приходилось ездить чуть ли не в Париж. Вот как мстит за себя неразборчивое использование трофейной техники. Поскольку приходилось возить за собой огромную массу запасных частей, подразделения ремонтно-восстановительной службы страшно разбухли, им нужна грузоподъемность свыше 100 тонн, и все равно они не справляются со своими задачами. К этому добавляется нехватка резины и инструментов. Паяльного олова вообще нет, его приходится выплавлять по каплям из старых радиаторов. Не лучше и с рессорами. Так что не трудно рассчигать, сколько времени армия еще пробудет на колесах.
Вину за нехватку и голод, за потерю и конной тяги, и автомашин, и вообще за пребывание армии в котле, за продолжение ее агонии среди снега и руин несет вместе с Гитлером Геринг. Офицеры, которые в последние дни прилетали к нам, рассказывали, что в ставке фюрера состоялось большое совещание. На нем шла речь о дальнейшей судьбе окруженной под Сталинградом армии. Командующие групп армий и воздушных флотов Манштейн, Вейхс и Рихтгофен, а также только что назначенный на пост начальника генерального штаба сухопутных войск генерал Цейтцлер высказались за немедленное отступление на запад и за сражение на прорыв изнутри. И только один человек высказался за то, чтобы «выстоять», бросив при этом сакраментальную фразу: «Обеспечение 6-й армии беру на себя». Это был Геринг.
Его слово оказалось решающим.
* * *
Борьба ожесточилась.
Сегодня это проявляется не столько в частых пулеметных очередях и винтовочных залпах, сколько в пугающем спокойствии, в каком-то скрытом выжидании момента для прыжка. Перед нашими тонкими линиями обороны зияют темные провалы кирпичных стен и пустых окон цехов. Даже через минные заграждения ощущается какая-то неопределенная активность, результаты которой предназначено почувствовать нам. Это нечто расплывчатое, оно то прячется за разрушенными стенами, то скрывается под завесой хмурого дня, то дает о себе знать завыванием и разрывами снарядов и мин, которые целыми веерами падают на припудренные снегом руины. Но эти разряды стальной грозы – дело привычное, пусть отнюдь не радостное, но и не особенно угнетающее. Подозрительная тишина на позициях противника, в окопах – вот что заставляет мысли блуждать в потемках, не давая им зацепиться за что-нибудь определенное, вот что скребет по нервам. Скребет, не дает покоя и давит так, что рождается только одно желание: лучше лежать там, впереди, под огненным дождем, под градом пуль, снарядов, осколков, лишь бы знать, что и откуда грозит. Эти минуты и часы ожидания и неизвестности, когда не знаешь, что и когда произойдет, да и вообще будет ли, невыносимы и мучительны.
Сегодня мы должны быть начеку.
Осмотрев позиции, вместе с Рембольдом по косым обледенелым ступенькам спускаюсь вниз в свой блиндаж. В слабом свете оплывших свеч склонился над папкой с бумагами Бергер. При нашем появлении он захлопывает ее.
– Ничего нового. Нам выделена парочка «Э-КА! {30}. Можем садиться есть, господин капитан: еду уже принесли.
Из котелка идет дым, мы поскорее присаживаемся. Битки с коричневым картофельным пюре нам по вкусу. Не успеваем мы сделать последний глоток, как в дверях появляется Берндт. Он улыбается и говорит, что, видно, конина не так уж плоха, ему лично она понравилась.
Выясняется, что биточки из конины – начало новой эры в нашем питании. Одну из наших обозных лошадок прогнали через мясорубку. Напрасно родные и знакомые внушали нам такое отвращение к конине. Должен признаться, я его не чувствую. Только Бергера немного начинает мутить, но он тут же проглатывает последний кусок конины вместе с остатками былых предрассудков.
Чьи-то громыхающие по лестнице шаги обрывают нашу беседу и рассуждения. Дверь открывается:
– Господин капитан, русские! На дороге позади нас, всего метрах в двухстах!
Передо мной унтер-офицер Нойхойзер, он докладывает едва переводя дыхание. У него имелся приказ с наступлением темноты доставить на передний край боеприпасы и мины.
– Прямо на дороге, около большой воронки, нас накрыли сильным артиллерийским и автоматным огнем. Русские пробрались между дырами в заборе и кучами кирпича. Кауфмана тяжело ранило, Фридриха тоже.
Не может быть! Неужели русские где-то прорвались и теперь действительно у нас в тылу? Но я узнал бы об этом раньше. Кроме того, ведь не было слышно огневого боя. Чтобы выяснить обстановку на местности, посылаю Рембольда с четырьмя солдатами,
Звоню соседям, они ничего не знают. На нашем участке пока все еще спокойно, и я начинаю подозревать, что моим людям просто померещилось со страху. Но выстрелы сурово и неумолимо опровергают это предположение. Двое саперов ранены: один – смертельно, другой в ногу – прострелена щиколотка. Об этом по приказу врача докладывает обер-фельдфебель Берч.
Войдя в санитарный блиндаж, расположенный рядом, я вижу лежащего на носилках Фридриха, лицо у него желто-серое, землистое. Ему только что сделали перевязку, от мундира и брюк одни лохмотья, висящие на стене. Рука, которую он мне протягивает, покрыта бурыми пятнами запекшейся крови. У бедного парня ко всему еще и прострел легкого. Пока я говорю с врачом, мой пес Ганнибал, с которым я не расстаюсь, прыгает к раненому. Рука Фридриха ложится на маленькое существо и медленно гладит его мягкую шерсть. Малыш воспринимает ласку с доверием и лижет руку раненого. Суровое, запавшее лицо Фридриха проясняется, в глазах появляется блеск, серые губы растягиваются в улыбку. Может, он вспомнил сейчас о своей собаке и мысли его теперь обращены к дому, к матери, жене и ребенку. Он ощущает в своей слабеющей руке маленький комочек жизни, который льнет к нему и согревает его. Смерть, которая минуту назад уже протянула к нему свою костлявую лапу – он еще чувствует прикосновение ее холодных пальцев, – теперь отступила. Ее прогнал маленький песик.
Через полчаса возвращается Рембольд. Да, действительно русские в нашем тылу! Они засели севернее дороги, между развалинами домов и в подвалах. Связь с нами по этой дороге теперь под постоянной угрозой. Русские ведут ружейно-пулеметный огонь по каждому замеченному на дороге движению, по машинам с боеприпасами, подносчикам пищи, продвигающимся вперед группам. По оценке Рембольда, противника там до роты. Как я думаю, они проникли сюда по канализационным трубам.
У меня еще есть телефонная связь с соседями, с артиллерией и штабом дивизии. Там сначала не верят, потом становятся возбужденными, нервничают. Поспешно стягиваются силы, резервные и тыловые подразделения. Они должны окружить просочившегося противника и зажать его, пока контратака не восстановит положение. Начало операции завтра на рассвете. Для нее выделяется Рембольд со своими людьми и пехотная рота майора Шухардта – нашего соседа. Командовать приказано мне. На время атаки Франц один должен удерживать наши позиции с фронта.
Весь вечер и всю долгую ночь противник ведет сильный артобстрел. Небо гремит канонадой, все в блиндаже дрожит, гаснут коптилки. Снарядные осколки разрывают в клочья все, что встречается им на пути: связных, которые под покровом темноты перебегают из укрытия в укрытие, сменяющиеся посты и группы силой до отделения, высланные с целью подкрепить оборону боеприпасами и оружием. А в промежутках, когда смолкают орудия, бьющие с того берега Волги, слышен шум боя в нашем тылу – это сжимают прорвавшегося противника. Хотя город грохочет на все лады, хотя гром стоит такой, что глохнут уши и раскалывается голова, я чувствую облегчение. Утренний кошмар исчез. Теперь все ясно. Мы знаем, на каком мы свете, знаем, какова сила противника и что мы можем противопоставить ему завтра.
Деловые разговоры, приходы и уходы заполняют ночь. Новые данные о противнике изменяют приказы: стучат ящики с боеприпасами и оружием, прибегают с донесениями солдаты, каждые пять минут жужжит телефон.
– Алло, «Тайный советник», «Тайный советник», «Тайный советник»! Это «Тайный советник»? Вызывает «Волга», вызывает «Волга»! Прошу к аппарату командира «Тайного советника». У телефона? Передаю трубку.
Надо преодолеть и еще одну трудность. Артиллерия отказывается вести огонь по такому миниатюрному котлу. Она не питает столь большого доверия к точности своих стволов и боится, как бы при чрезмерном рассеивании не нанести потерь собственным частям. Командиры батарей того же мнения, что и командиры дивизионов, – отказ общий. После долгих переговоров и уговоров находится наконец одна батарея мортир, которая решается, несмотря на незначительный размер цели, поддержать нас своим огнем, но только помощь эта ввиду нехватки снарядов будет весьма скромной.
Операция начинается чуть позднее 3 часов утра. Выжженная земля, остовы зданий без крыш, пропитанные кровью скверы – все это нанесено сейчас на карты, размечено по квадратам и теперь взято под огонь. Рядом со старыми воронками уже зияют новые, метровой глубины, широкие. Они становятся стрелковыми ячейками, пулеметными гнездами. Солдаты укрываются за остатками заборов и кирпичных стен. Раздувшиеся конские трупы с поднятыми вверх ногами, служившие ориентирами на зимней местности, теперь разносятся в клочья. За ними прячется противник, вот гремят залпы его винтовок и автоматов, установленных на дотверда замерзших конских телах. Огневые точки между разорванным железом, конским мясом и каменными стенами образуют круговую оборону и осыпают поднимающегося в атаку противника градом снарядов. С моего НП – полуобвалившейся башенки – мне видно только дульное пламя. Легкий туман поглощает группы, залегшие в стороне. Он скрывает цели и похож на настоящее молоко. От этого, естественно, снижается темп продвижения, потом оно вообще замирает. Никто не хочет и не может идти в атаку на людей, которых он не видит, между тем как они поливают его свинцовым дождем. Стрельба прекращается, мы залегаем и закрепляемся. Я приказываю батарее мортир еще раз дать залп по местности. Выстрелы падают хорошо; передовой наблюдатель знает толк в своем деле.
Так проходит полчаса, в течение которого картина резко меняется. Туман словно превратился в замерзший иней, последние клочья его уходят за фасады домов. Видимость улучшилась настолько, что атаку можно продолжить. Все должен решить быстрый маневр. Посреди обнесенного заборами круга, окаймляющего позицию противника, ясно виден канализационный колодец. Через него, верно, и проникли русские, и только через него они могут вновь соединиться со своими. Надо быстро захватить его, и тогда исход боя решен.
Рембольд взваливает на себя огнемет и с одним отделением прямо по разрытому полю устремляется к цели. Наши пулеметы, бьющие слева и справа, оказывают ему необходимую поддержку огнем, и он быстро достигает поворота. Отделение ведет огонь, бросает ручные гранаты, совершает перебежки по одному и по двое, завязывается ближний бой. Несколько вспышек огнемета, и вот уже Рембольд в двадцати метрах от колодца. Теперь противник заметил опасность, он уже не может продержаться в котле. Из воронок, снежных ям и развалин появляются фигуры русских солдат. В маскхалатах и ватниках они мчатся к колодцу, и первые уже исчезают в нем. Русские солдаты один за другим спрыгивают вниз. Но спуск слишком узок, возникает пробка. Замешательство усиливается нашим огнем. Нажим все сильнее. Вновь вступают в действие огнеметы. Наконец еще один красноармеец спрыгивает в колодец. Он последний, кому удается ускользнуть. Рембольд пробивается вперед. В отверстие шахты летят ручные гранаты. Позиция противника отрезана, путь к отступлению ему прегражден. Но русские невероятно упорно сопротивляются за любым укрытием. Одни уже убиты, другие ранены. Однако бой еще продолжается. У нас убито пятеро саперов, двадцать ранено. Учитывая слабость наших сил, это большое кровопускание, его не возместить захваченным оружием: целой кучей ручных пулеметов, автоматов, полуавтоматических винтовок, ручных гранат и боеприпасов.
Быстрый успех служит стимулом. Но бой все еще не кончен. Мы должны не допустить повторения такого сюрприза. Это значит, надо заминировать, завалить или взорвать, в любом случае сделать невозможными для использования все ходы и выходы из канализационной системы. Сначала мы продвигаемся к большой дыре диаметром свыше метра. Заглядываем вовнутрь: темно, должно быть глубоко, дна не видно. Рембольд первым спускается в колодец, мы держим его на связанных вместе ремнях. Упираясь ногами в стены, он медленно спускается вниз. Вдруг спуск прекращается. Он нашел что-то вроде лестницы, она ведет еще глубже. Мы ослабляем ремни.
– Отпустите, я стою!
Метра три глубины, оцениваю я. Чуть отсвечивающая каска Рембольда – единственное, что можно различить. Быстро посылаю вниз еще двух саперов. которые должны захватить с собой салазки с минами, запалами и инструментом. Затем сую в руки Тони конец ремня и быстро спускаюсь вниз за обер-фельдфебелем. Свой автомат я оставил наверху, при мне только пистолет и карманный фонарик. Через несколько секунд уже стою внизу, тесно прижавшись к Рембольду. Ощупываю стены. Словно в подземелье, башни диаметром метра в два, сверху падает скудный свет, над нами наклонились три любопытствующих лица. На одной стороне колодца – очевидно, восточной – имеется отверстие – это ход высотой с метр, а ширина достаточная, чтобы протиснуться. Через него, видно, и ушли русские. Свечу туда карманным фонарем. Сквозь подземный ход гремят выстрелы, они ударяются в стены, у ног наших свистят рикошетные пули. Поспешно выключаю свет. Слава богу, никого из нас не задело. Но эхо выстрелов действует зловеще. Оно гудит, как старые телеграфные столбы, только в сотни раз сильней.
Нам протягивают сверху автоматы. Снимаем их с предохранителя и осторожно крадемся вдоль сырого хода. Продвигаемся вперед сантиметрами: у нас нет охоты угодить прямо в объятия к русским или натолкнуться на взрыватель мины. Мы сами хотим установить их. На руках и коленях проползаем так метров восемь, затем подземный ход резко поворачивает вправо. Тщательно ощупываем пол. Ничего не находим. Продвигаемся еще немного, чтобы осветить этот лабиринт. Если будем достаточно проворны, поворот защитит нас. Даю вспышку. В двух метрах от меня лицо, пораженное неожиданностью, испуганное, а позади замечаю промелькнувшие тени. Больше ничего заметить не успеваю: свет погас, и мы снова спрятали головы за выступ стены.
– У меня осталась ручная граната.
Рембольд быстро дергает запал и катит гранату по дну хода. Наш крошечный подземный мир потрясает такой взрыв, как будто в воздух взлетело несколько центнеров взрывчатки. Вокруг все трясется, летят камни, сыплется песок, уши заложило. Быстрей еще раз свет, заглянуть за угол! Но облако пыли и нечистот не дает ничего разглядеть. Выстрелы заставляют нас вновь спрятаться за угол стены. Лежа вдоль стены и вытянув руки вперед, мы отвечаем огнем. Оглушающий гул наполняет узкое пространство, разрывая барабанные перепонки. Но все бессмысленно: дальше нам не пройти.
– Рембольд, нет смысла! Патронов еще достаточно? Тогда оставайтесь здесь. Я вылезу наверх и пошлю пару людей. Закройте ход, но осторожно!
Как могу быстро, выбираюсь и подтягиваюсь вверх на руках. Я покрыт нечистотами, брюки разорваны, руки в крови. Но это неважно, время не ждет. Мины уже принесли. Даю краткие указания, и фельдфебель Шварц и ефрейтор Бек спускаются в колодец. Им подают туда на веревке подрывные заряды, взрыватели, проволоку и прочие причиндалы. Снизу ничего не слышно, тишина, как в мышиной норе. Чтобы исключить все другие возможности, быстро составляю группу под командой оберфельдфебеля Фетцера, которая должна взорвать менее крупные сточные колодцы. Таким путем мы надеемся обеспечить себе покой.