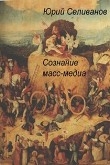Текст книги "Газета День Литературы # 71 (2002 7)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Михаил Алексеев СЕРДЦЕ ПОЭТА – ВСЕГДА РАДАР
Есть у радара особый дар:
Видит невидимое радар.
Есть у радара бесценный дар:
Слышит неслышимое радар.
Есть у радара могучий дар:
Знает незнаемое радар.
...Есть у поэта нелегкий дар:
Сердце поэта – всегда радар.
Если б по случаю мне попалось на глаза только одно это стихотворение, я непременно отыскал бы и другие, вышедшие из-под пера этого человека. Что-то подобное было со мною, когда наткнулся на всего лишь две строчки другого поэта, тоже, как и автор приведенного выше стихотворения, донбассовца, а стало быть, и шахтера, Коли Анциферова, так и не сделавшегося для нас Николаем, поскольку не суждено ему было дожить до тридцати лет. Между тем – не полная строфа, а лишь полстрочки из его маленького стихотворения, едва появившись, стали метафорой. Это там, где поэт говорит о себе, что он работает как вельможа, что он работает только лежа.
А вот у Евгения Нефёдова (это о нем говорю я сейчас), тоже в прошлом рабочего и тоже донбассовца, такой метафорой является все стихотворение, воспроизведенное тут мною целиком. А поэты-то они разные. Роднит их разве что упругая мускулатура слова, на которую опирается, как на самый надежный посох, рука не просто рабочего человека, а именно горняка, уверенного в несомненной необходимости своей профессии для каждого из нас в отдельности и для всех сразу. Об этом Евгений Нефёдов заявляет прямо и решительно, с гордым сознанием неоспоримой праведности. Вспоминая, похоже, легендарное стахановское время, он говорит:
Когда шахтер выходит на гора,
И у него победа за плечами,
Товарищи средь шахтного двора
Его цветами радостно встречают.
Такой обычай: уголь и цветы, говорит нам поэт, и далее философски, по глубинным законам жизни, утверждает:
По ним исходит от сердец и рук
Тепла, и света доброе свеченье.
Цветы и уголь, как любовь и труд,
Равны в своем высоком назначенье.
Я беру эти строчки и строфы из объемистой книги, вышедшей не так давно в издательстве «Информпечать», куда помещены стихи и поэмы разных лет. Евгений Нефёдов назвал ее, книгу эту, «Свет впереди». Назвал так, казалось бы, в пору беспросветную, когда в страну-победительницу, сокрушившую фашистское Идолище Поганое, в страну, ставшую по праву сверхдержавой, вторглись бесовские силы, когда – где ж он свет, где он видится поэту, который сам с невыносимо тяжкой болью в сердце вопрошает:
Быть или не быть?
Ужель вдали
Новый Гамлет после нас отыщет
Только черепа на пепелище
Ставшей головешкою земли?
Вопросы, вопросы, один страшнее другого, ставит поэт перед собой, перед нами всеми, перед нашей страной, перед Отечеством нашим, спасенным, казалось бы, навеки, в страшной войне:
Быть или не быть?
Моя земля!
Помоги истории ответить:
Будет третье из тысячелетий
Или все
начнется от нуля?
Молчит земля, не торопится с ответом и она на гамлетовский вопрос. А может, попытаться найти ответ у главной героини книги, коей безусловно является лирика. Она ведь не случайно царствует на её страницах, теплою волной вливается в душу сразу же после особенно тягостных моментов, названных, обозначенных самим же автором, вот таких, например:
На отстрел отныне нет запрета!
Лупит шквал свинцового дождя,
Не щадя солдата и поэта,
И саму Россию не щадя.
Сыто усмехаются с прищуром
«Нового порядка» господа.
Пуля-дура, ты и вправду – дура!
Попадаешь, дура,
Не туда.
Поэт-лирик по складу души своей, он как бы вдруг спохватывается и вспоминает, что он еще и боец, и тогда в стихах его, особенно написанных в последнее время, звучат не тонкие струны виолончели, а металл. Имея в виду тех, кто принес на землю нашу новые несчастья, поэт говорит:
Все начиналось милой болтовней
Про общечеловеческие ценности,
Продолжилось парадом суверенности,
А кончилось пожаром и резней.
...Но видит Бог —встает страна огромная
И в руки кол, прозревшая, берет!
Ты не умрешь, Отечество отцов.
Как не уйдут от нас твои губители –
В любой одежде и в любой обители
Мы их запомним. Каждого. В лицо.
Поэт знает, что вызволение России из беды будет долгим и трудным, что оно потребует неимоверных усилий нескольких сменяющих друг друга поколений, и потому-то под конец книги приходят мысли о внуке – как продолжении жизни и нашей, и всех, кто придет вслед за нами. Стихотворение так и названо: «Внук». Тут, как это часто бывает у Евгения Нефёдова, публицистика выступает в обнимку с лирикой. Мне хочется, чтобы читающий эти мои заметки, увидел стихотворение полностью.
Итак – «Внук»:
Отпуск – не у моря, не в лесу,
Не на даче, не в гостях у друга:
Вахту непривычную несу –
Нянчу внука.
Вроде только нянчили детей.
Не прошли как будто и полкруга,
Но несется время без затей –
Нянчу внука.
Он родился в дальнем далеке,
Я к нему сорвался налегке,
Чтобы кроха на моей руке
Разместился, словно в гамаке.
Как же непоседлив, егоза!
На лице то радость, то слеза,
Но глядят доверчиво глаза
В окна, где и птицы, и гроза...
Не беда пока, что ничего
Знать не знает это существо,
Дед и внук – недальнее родство,
Дайте время – только и всего.
Объясню ему, что сам пойму
На земле от севера до юга,
А еще добавлю, почему
Нянчу внука.
Всем назначен крестный путь страстей,
Но чтоб жизнь продолжилась, Андрюха,–
Все пройдя и вырастив детей,
Нянчи внука!
А заодно, добавлю я уже от себя: люби Россию, как любишь ты отца и мать, Андрюха! На этом я и закончил бы свое коротенькое слово о полюбившемся мне поэте Евгении Нефёдове, хотя он, конечно, заслуживает гораздо большего.
Александр Михайлов ДОРОГА К ХРАМУ
Прочитал в журнале «Подъём» (№ 2-3, 2002) повесть Ивана Евсеенко «Паломник». Её герой, мой ровесник, солдат великой войны, на исходе жизни совершает паломничество в Киево-Печерскую лавру. Подвигнуло на это его, человека не крепкого в вере, видение на Страстной неделе: седой старик в белых одеждах, явившийся то ли во сне, то ли въяве, и прямо указавший: «Надо тебе идти в Киев, в Печерскую лавру и хорошо там помолиться».
Николай Петрович – так зовут героя повести – это Платон Каратаев, совсем уж нежданно возникший на рубеже ХХ и ХХI веков. Нежданно потому, что в кромешной аду нынешней жизни мы так привыкли к мельтешению везде и всюду политических проходимцев, оборотней, стервятников-приватизаторов, бомжей, алкоголиков и наркоманов, что добрый, смиренный, Божий человек никак не вписывается в это скопище. Да и есть ли он такой на самом деле? Может, и нету, и Иван Евсеенко, от доброты душевной, сочинил его в угоду уходящему, уже ушедшему поколению освободителей отечества, а ещё поточнее сказать, задержавшемуся в мирской юдоли его малому остатку. Подсобрал то, что в нас, в каждом по отдельности, сохранилось данного от рожденья да внушённого родителями, предками, историей народа и его христианскими традициями, что не растрачено по митингам, кабакам да в разбойных междоусобицах, искусно слепил всё это вместе, окропил святой водицей – и получился образ живого богоугодного человека, Николая Петровича, последнего ветерана войны в российской деревне Малые Волошки.
Сон тот или виденье он воспринял как веленье Божие и в согласии со своей женою Марьей Николаевной, с её благословением и снаряжённый ею, отправился паломником в Киев, в другое государство, в одну из великих святынь Православной Церкви – Киево-Печерскую лавру.
Разных людей встречал на истинно тернистом своём пути наш паломник – худых и хороших, жестоких и добрых, вороватых и участливых, таких, которые с готовностью одаривали его куском хлеба, копейками «на Божий храм и поминовение», и таких, которые обирали его до нитки… Так и случилось на долгой дороге – на подводе и пешком, без билета в поезде и на электричке, без документов и без денег (обокрали в дороге), без сапог (отобрали на границе) добирался он до Киева и – добрался-таки! Не без помощи, конечно, добрых людей и в России, и в Украине. И – находчив русский человек! – когда отобрали у него надетые в дорогу выходные хромовые сапоги, оставив босым на холодной весенней земле, он углядел невдалеке липовую рощицу, надрал лыка и сплел себе две пары лаптей, в которых и продолжил путь. А что остался без копейки, так тут ему словно кто-то на ухо шепнул: «Да что ж тут думать, что ж сомневаться – среди людей живешь и от людей же будет тебе помощь и благотворение!» Подобрал около себя брошенную кем-то жестяную коробочку, почистил да помыл ее, проколол шильцем две дырки, вздернул в них пригодившуюся тут же веревочку, а потом, зайдя на почту да вооружившись шариковой ручкой, написал на коробке: «НА БОЖИЙ ХРАМ И НА ПОМИНОВЕНИЕ». А там уж: «Не откажите по силе возможности». И никакого греха за собою не чуял Николай Петрович, так как по достижении цели-то своего паломничества он все эти скромные подаяния, как и две гривны, пожертвованные цыганом, чтобы за него отдельно помолиться, израсходовал по прямому назначению.
Долго и истово молился Николай Петрович в Крестовоздвиженской церкви у Малых пещер. Возжигал свечи к иконам и молился за отца и матерь, родивших и вырастивших его, родственников и друзей, за сверстников-однополчан, сложивших головы на поле брани, за встретившегося на пути и накануне молитвы умершего старика матроса, по которому звонили колокола в русском и украинском селе Волфино, за санинструктора Соню, вытащившую его с поля боя. Он сотворил и «самую ласковую свою молитву» – за Марью Николаевну и, конечно, за детей и внуков. Потом молился «за всех болящих и хворых», припоминая знакомых из них, и за своих погубителей, оставивших его без денег, документов и без обуви. И просил Господа о здравии всех добрых людей, которые, кто чем мог, помогли ему на пути к храму Господню. Не забыл он и просьбу цыгана, особо помолился «за цыганское бесприютное племя», попросив ему «хорошего кочевья, тепла и богатства, честных гаданий».
«И молитва его была услышана…»
Я не буду цитировать дальше, может быть, самых интимных, сокровенных строк повести, да и другими словами не смогу передать состояния Николая Петровича, заставившего его пасть на колени перед Распятием и зашептать покаянные слова: «Прости нас, Господи!» «Прости нас и помилуй!» Это надо читать.
Посетил Николай Петрович и пещеры. А свершилось всё это в канун большого праздника, Дня Победы, о котором здесь, в Киеве, напомнили ему плакаты: «ДЭВЯТЭ ТРАВНЯ – ДЭНЬ ПЭРЭМОГЫ» да группки ветеранов с орденами и медалями – таких же, как он, стариков. И Николай Петрович засобирался домой, в Малые Волошки, где у памятника павшим воинам нынче некому, кроме него, представлять солдат-ветеранов. Однако не мог он вернуться домой, не помолившись еще и в соборе Святой Софии. Туда и направил шаги Николай Петрович, да только споткнулся и, «прежде чем упасть, он воочию увидел, как прямо на него идет от самого высокого и златоглавого купола Софии весь в белых одеждах мальчик, отрок, озаряя всё вокруг радужным неземным сиянием. А высоко над ним летит, и не успевает лететь, белокрылый ангел, так беспечно оставивший Николая Петровича у порога Киево-Печерской лавры».
Тут и закончил свой праведный земной путь паломник из России, солдат великой войны, крестьянин деревни Малые Волошки.
…Не из одного только чувства благодарности старого солдата Ивану Евсеенко пишу эти строки. Читал и другие сочинения этого писателя и хотел бы обратить на него внимание тех читателей, которым, возможно, поднадоела вафельная, с различными лакомствами, сладенькими завитушками, затейливая проза и которые не прочь отведать простого хлебушка, испеченного из чистого золотого зерна черноземной полосы России.
Иван Евсеенко – реалист. Самый традиционный. Его прозу многое роднит с прозой Астафьева-рассказчика. Не романиста, даже не автора повестей, а именно рассказчика, автора таких шедевров, как «Ясным ли днем…», «Людочка», «Руки жены» и многих других. Та же неспешность повествования, отвлечения от основного сюжета, та же поразительная приметливость к мелочам жизни, из которых складывается на редкость пластичная, в гармонии своего естественного круговращения, картина ее. Эта проза предполагает и такое же неспешное, вдумчивое прочтение. И если людям старшего поколения, так или иначе связанным с деревней, она – как слезы первые любви, то молодым, не зачерствевшим душою, может служить напоминанием о иных временах и иных людях, их родичах, их предтечах: как и чем они жили, чему поклонялись, какие нравственные и духовные ценности несли в себе.
Может быть, и есть длинноты в первой половине повести Ивана Евсеенко, несколько затягивающие движение сюжета, зато вторая половина ее, при всей опять-таки неспешности и обстоятельности, почти не оставляет времени на отдохновение от сопереживания.
Очень бы не хотелось, чтобы повесть «Паломник» Ивана Евсеенко упокоилась в журнальном комплекте. Ей прямая дорога – в книгу.
Владимир Судаков «ДЕРЖИСЬ ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ!..»
ЭСТОНИЯ. ПЯРНУ. 1972
Дембельский месяц – дурманящий май,
Море вздыхает по-летнему кротко.
Вот и пора уже думать: "Прощай,
Каша с селёдкой, дерьмовая водка,
Ставший родным карабин СКС,
В небо упёршаяся бетонка…"
Скажут: «Вернись!» – откажусь наотрез:
Не улыбается встречно эстонка.
Давние медленные года,
Где разошлись мы в прощальное лето —
Шройтман – ну, он хлеборез, как всегда,
Цой – каптенармус, Майка – ефрейтор.
Ласточек быстрых пролёт за стреху,
В «ящике» тихий дебют Пугачёвой.
Рядом, читая «Бухтины» Белова,
Громко смеётся кавказец Яхутль.
Входит Малышко, сержант-старшина —
Не дослужиться до прапора парню:
«Где же, ребята, метёлка одна?»
И «жеребята» от смеха упали…
Дремлют на койках кубанский казак,
Хитрый казах и неслышный литовец…
О нерекламный запах казарм!
О некупринско-советская повесть!
Спрятан за сталью ворот самолёт,
А в двух кварталах, штопая славу,
Подслеповатый Самойлов плетёт
Про королевну, мою Ярославну.
«Что-то не снятся великие сны», —
Пишет поэт. Да мне тоже, признаться,
Только лишь скалы, от солнца красны,
Вишенья два парашютика снятся,
Шпал креозотных путь на восток
И пограничная леса полоска.
…Бюргерский, чопорный городок,
Неба державного выцветший лоскут.
***
"…што словеть Лотыгольская земля,
от того ся отступил".
Князь Полоцкий и Витебский Герден
1264
Прощай, краславская корчма —
«Икарус» отдышался вроде…
Не вышло горе от ума,
И обойдёмся без пародий.
Укрытье черепичных крыл.
Не здесь ли, что латынь и глянец,
Слуг государевых споил
В потёртых джинсах самозванец?
Ещё прельстил попутно, ферт,
Латгалию, хозяйку дома.
И чем? – коробкою конфет,
Манерами Наполеона!
Пусть солью моря дышит грудь,
Равнинный воздух деве вреден.
Прощай, красавица! Забудь
О нашей дочери Рогнеде.
А впрочем, если до конца:
Рогнеда – всем, мне – Горислава…
Не хмурь обидою лица,
Оставь себе любую справу,
И княжий луг, и закрома,
И даже слог моих собратьев —
Листы поморского письма:
Мне никогда не прочитать их.
Я твой не выучил язык,
Ты мой забудешь понемногу.
Перед тобой весь мир возник,
Прямые растеклись дороги!
Тяжёл не из цветов венец.
Взгляд отведи от птичьих вестниц.
Живи. Не помни наконец
Империи медовый месяц.
…Окурок в урну.
За окном
Вновь закачаются, как спьяну,
Опята на пеньке лесном,
Холмы, озёра и поляны.
Близь так отчётливо остра,
А даль густа, кровава с краю.
И полноглазая сестра
Встречает за Двиной, родная.
***
Игорю Бойко
Народ простил жестокого царя:
Был сам жесток. Иных уже не помня,
Про этого – ругается, поёт
И всё никак не может с ним проститься.
В истории есть некий вещий смысл,
Людскому пониманью недоступный.
Как, почему Хазарский каганат
Дано было развеять – Святославу?
Не Ольге, первой дщери Византии,
Не внуку и крестителю Руси —
Ему меж них, Перунову рабу?
И, нехристь, он доныне почитаем.
А Александр, топивший шведов рать
И орденской «свинье» свернувший выю!
Чтобы в Руси сберечь зерно России
По-человечьи если – предал брата!
И стал святым, как Глеб и как Борис.
Чем объяснить Осляби быстрый меч,
Державный гнев безумного Ивана
И бессыновье дерзкого Петра,
И странное безволье Николая?
Внезапную окаменелость мозга,
Не знающего лени лишь вчера,
И жёлтый взгляд, унявший буйство крови?
Народ простил жестокого царя
И, покорясь нечеловечьей воле,
Забыл себя. И вспоминать не хочет:
Лишь назовёшься в простоте —
Обманут, украдут, переиначат.
Но – мать не видеть? От отца лицо
Отвесть в гордыне горького сиротства?
И родина – душ наших общий слепок,
Тот самый Китеж,
И потому быть может нелюбимой,
Но быть не может —
Чтобы не родной.
История ещё и – искупленье,
Причём неотвратимое доднесь.
Так, в сорок певром полк НКВД
Погиб в лесу, где сам стрелял в затылок.
Он лёг поверх своих бессчётных жертв,
Но задержал стосильного врага.
А этот, Ямы Ганиной властитель,
Пообещавший волю из кармана,
Отдельно взятую!
И нам свобода стоила страны.
А в бывшем швейном цехе комтруда
Густеет праздный воздух ресторана.
Чем дольше жизнь, тем больше
Дат – чуть не каждый день – в календаре,
Саднящих – вольно спутать и века,
Не знать, в каком сейчас мы обитаем.
Но, впрочем, мы уже привыкли быть
Вне времени, в своём летодвиженье,
Доверясь власти, выпрошенной в гневе,
А вымолить —
Молитвы растеряли.
История, незнамый дольний путь
По неземным – не вычислить! – законам.
Как уцелеть, сокрыв от мира имя,
И отчину последнюю сберечь —
Без веры, без присяги, без идей?
Немотствует народ
В своём упрямстве, вновь необъяснимом,
Холопьем и бессмысленном для прочих.
Да что для них – неясном и себе!
Храня могилы памяти от сглаза.
И сквозь ладони дочери и сына
Однажды прозревая небеса.
Народ простил жестокого царя
И о другом задумался надолго.
СЕРБСКИЙ ЖЕСТ
Характерный жест сражающихся сербов – три разомкнутых пальца правой руки.
Поднимусь наконец от хмельного стола,
Огляжу безнадёжно сиротскую близь:
Всю родову повыбило, выжгло дотла,
А иуд порасселось!..
– Безбровые, брысь!
Знаю, сам виноват: в сердце выковал сталь,
Но последние други – умеют прощать…
И окликну в отчаянье тайную даль,
И она отзовётся, трёхкратная рать!
Над паромною Дриссой, где ввяз Бонапарт,
На камнях несдаваемой Чёрной Горы,
В незасеянном Косовом поле – стоят
Братки Белой Русии и сербы-сябры.
И, трезвея, смахну я остатки питья
И шагну на траву из прогорклой избы.
Вспомню: душу спасу, коль за други своя
Встану, выпрямясь.
Да не миную судьбы!
Мы от корня до кроны и самых небес
Суть едины сквозьвечно, что дух и что плоть.
И никто-то не прав – собрательника без,
И одна – триединая крестно щепоть.
И она обнимает цевьё горячо,
Раз молитва без подвига – слово ничьё.
Это я не забыл ещё. Нынче ж её
Размыкаю – трёхбратьем! – над правым плечом.
НА РОДИНЕ
Я не знаю о ней ничего,
Позабыл, как недавно столицу,
Но шумит её имя травой,
Силуэт её чертится птицей.
Вроде тоже в округе дома
И тропы поворот неминучий
И, похоже вздыхая, грома
Древним пламенем бьют из-за тучи.
Но осыпались камни скалы,
Где со склона я чуть не сорвался,
Танцплощадки прогнили полы,
Завлекавшие звуками вальса.
Поредели призывы огня
На краю нежилых побережий.
Хоть и все земляки мне родня,
Но знакомые лица всё реже.
Вот ещё обезлюдевший двор —
Лишь фундамент на голом угоре
И, пустой запирая простор,
Позадвинуты жерди в заборе.
Но, угрюмо встречая зарю
С отлетающей птичьей стаей,
Я в заросшее поле смотрю
И цветов имена вспоминаю.
***
Елене
По колючим сугробам ольха отгуляет нагая,
И они отгорят, в облака обратясь и ручьи.
В тёмный ельник вступи: там, хвоистую прель раздвигая,
Твой созвучье-цветок поднимается первым в ночи.
И уже дикий лук
на угоре оттаявшем реет,
Стрелолист на рассвете
холодную воду пронзил,
Но опять мать-и-мачехи
русское солнце согреет
Молодило и волчью траву, горицвет, девясил.
И, таясь, зазвенит в колокольца последние ландыш,
На четыре страны княженика отвесит поклон.
Обернись на вершине, и с ветром зелёным поладишь,
И стозвонно вокруг зазвенит перезвон, медозвон.
Будет свет стекленеть в соловьиных черёмухах мая,
А поблёкнет сирень – заневестится вишня моя.
Загадай на полдневной ромашке, судьбу принимая,
И вскипит иван-чай у дорог, на забытых камнях.
И серебряный гул опояшет и горы, и воды,
И – стрекозье крыло! – дрогнет воздуха лёгкая плоть,
Разомкнутся над шхерами облак шуршащие своды,
И небесный огонь станет остро ладони колоть.
Молодая луна из дали вдоль залива глядится,
То не зеркало-круг – твоего отраженье лица.
На какой же звезде повторяются эти кислица,
Зоркий вереск на скалах, слепой георгин у крыльца?
Незабудке не вспомнить из прошлого клятв-обещаний,
Ей сейчас не узнать тонкокожую руку твою,
Но лещина, дичая, одарит орехом прощальным,
Подорожник опять обозначит тропинку мою.
Выпьет дождь гроздовик и смолевка граниты расколет,
Развесёлая любка в долинах речных закружит,
Облетит одуванчик из этого лета в другое
И безвременник стойко займёт на снегу рубежи.
Что хотеть ещё, выпав из вечной земной колыбели? —
Чтоб успеть доцвести и сгореть на сентябрьской заре!
Но в октябрьской золе завиваются белые розы метелей
И кочуют по родине в чёрных ночах декабрей.
ДИАЛОГ С ЛЮБИМОЙ
– Треть земную мы прожили врозь,
Разлучат и в конце бесконечном:
Долит, – скажешь, – грехов моих гроздь…
– Все мои они, тяжкая горсть,
Отвести мне их не удалось.
Да и как без меня ты, – отвечу, —
Умолю, чтоб нам вместе —
Навечно.
***
Жене и дочери
Как много жизнь мне ни за что дала! —
Две женщины, как два моих крыла.
***
Святые воды в грешных берегах,
Под грязным льдом. Глухой январь. Крещенье.
Но в этот год запал зимы зачах,
Над снегом вербы занялось свеченье.
И вслед никто за нею не рискнул,
Лишь напряглись коренья краснотала.
Метельный гул не сжёг и не согнул,
И припекал мороз – она стояла.
Обломанная, посреди двора,
Где окна мат и ругань извергали.
И не одна – цвела её сестра
В дворе соседнем, и ещё, и дале.
Казалось, что часовней стал простор —
Без алтаря, в огнях дрожащих свечек.
И мог любой, свой ощутя позор,
К ним подойти. И становилось легче.
Да, колокольный звон под своды звал,
Но тьма в душе и непослушны ночи,
А тут надеждой целый мир сиял,
И сквозь вели все дольние дороги.
Иль это, уплотняясь, времена
Сжимались в точку? Но, ища спасенья,
Из зимнего выскальзывает сна
И терпит куст.
Держись до Воскресенья!