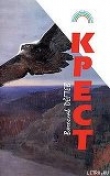Текст книги "Газета День Литературы # 96 (2004 8)"
Автор книги: Газета День Литературы
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Владимир ВИННИКОВ ПИСАНИЕ
Вячеслав КУПРИЯНОВ. Лучшие времена.– М.: Молодая гвардия (серия «Золотой жираф»), 2003, 366 с., 3000 экз.
«Dum spiro spero», «Пока дышу – надеюсь», этот известный латинский афоризм мог бы стать эпиграфом к сборнику избранной поэзии Вячеслава Куприянова. Каюсь, vers libre применительно к отечественному стихосложению вызывает лично у меня множество вопросов типа: «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что совершается дома?» Но, раз эти ритмы без рифмы и мер как-то существуют в мировой поэзии, то имеют право на существование и в русской – мы же отзывчивы «всесветно», а не как-либо еще.
Троичная структура книги с разделами «Стихотворения», «Верлибры» и «Переводы» лишь укрепляет меня в этом ощущении – тем более, что Вячеслав Куприянов – известный мастер и верлибра, и поэтического перевода.
В принципе, язык поэзии – един, хотя речи ее различны. Это – как Писание, дух которого «веет где хощет». И «писание» Вячеслава Куприянова, представленное в его сборнике надеждами на лучшие времена, позволяет убедиться в этом, что называется, «окончательно и бесповоротно».
Валерий ИСАЕВ-МЕЛЕНКОВСКИЙ ГАВРИЛО – СВИНОЕ РЫЛО Рассказ
В скором поезде «Москва-Новосибирск», уютно устроившись у окна, сидел одиноко статный, лет сорока пяти-сорока семи, интеллигентного вида пассажир. Чернильно-черные, по моде пятидесятых годов волосы «бобриком» и сильно вздёрнутый, почти квадратный короткий нос делали его лицо торжественно-самодовольным.
Вернулся он только что из вагона-ресторана, где плотно покушал, выпил свои «колёсные» сто грамм коньяку и теперь, рассеянно глядя в окно, совсем не рассеянно думал о своей жизни.
Мимо окна летела золотая осень с её заманчиво-привлекательной багряной грустью, и грусть эта каким-то образом передавалась и пассажиру. Грусть по родному краю, по родным местам, где он не был, – устало откинулся пассажир на спинку дивана, – порядка десяти лет. А там жив ещё его родной отец... Сколько раз собирался, а выходит – всё некогда да некогда.
Вот и сейчас едет в командировку, до родных мест рукой подать – выйти только на полустанке и на автобусе каких-нибудь сорок километров проползти. Сердце учащённо забилось. Он решительно встал, тревожно заходил по купе, нетерпеливо глянул на часы и, чему-то приятно улыбнувшись, снял пиджак и улёгся отдохнуть: до его полустанка оставалось ещё целых пять часов.
Пассажира разбудил внезапный толчок, а через минуту дверь купе плавно откатилась, и в её проеме появилась сначала широкая, во всю дверь, в стёганой фуфайке спина, а потом и сам обладатель этой спины, втащивший в одной руке внушительный вещмешок, в другой – перетянутый тесёмочными лямками, видавший виды кубовых размеров чемодан.
– Валяй сюда, Петюня!– заботливо крикнул он кому-то в коридор.– Тут я,– дал он о себе знать и, тяжело дыша, умиротворённый плюхнулся на сиденье.
– Иду, иду! – захлёбывающе просопел рядом тоненький, почти мальчишеский голосок, а вслед за ним, волоча за собой тоже громоздкие, как рюкзаки с камнями, сумищи, протиснулся щупленький, запыхавшийся паренёк.
– Струмент-то куда, Василь Лукич? – почтительно обратился он к только что вошедшему. – В ноги, ай наверх?
– Не трог, в ногах полежит, – степенно, не поворачивая головы, вяло уронил мужик, с усердием отирая обильно катившийся пот со лба. – Уж теперь недалёко.
Услышав от старшого дельный ответ, парнишка поставил на пол «струмент» и исчез в коридоре, грохнув дверью.
Пассажир сначала хотел возмутиться столь бесцеремонным вторжением в его сон и купе, но, внимательно приглядевшись, в вошедшем, а теперь уж напротив его сидевшем Василии Лукиче, как почтительно величал его только что парнишка, к своей радости и удивлению узнал Ваську Муравьёва, бывшего одноклассника, парня из родной их Барановки.
– Муравьёв? – с некоторым сомнением и волнением в голосе вежливо обратился он к мужику.– Василий Муравьёв... из Барановки?
Мужик с недовернем зыркнул проницательно в лицо пассажира и вдруг, полуоткрыв рот, как бы на секунду немея, гаркнул обрадованно на весь вагон:
– Гаврило!.. Гаврило – свиное рыло! – отчаянно хлопнул он себя по коленкам и, громоподобно прохохотав, выдохнул изумлённый, раскинув для объятия руки: – Неуж ты, мать честная?! – стиснул он его, прижал к себе. – Да... вот так встреча. В жисть не поверил бы – на улице встретить бы привелось. Вовка Гаврилов! Как министр! Дела-а-а... Владимир Георгич по отцу-то, стало быть?
Он снова сел – и расхохотался.
– Да вроде я... – не придя еще вполне в себя, смущённый лепетал Владимир Георгиевич. – Собственной персоной, так сказать... Вот так встреча!
Владимир Георгиевич вдруг почувствовал, что он помолодел. Всё тут: и запах родных лугов, и речка, и это внезапное к нему дразнильное обращение – Гаврило – свиное рыло, – не обидело, нет! – всё смешалось и подступило к горлу. Он расслабленно сидел, упёршись кулаками в упругую кожу дивана, и умиленно глядел перед собой, глазам не верил: напротив него, по-детски задорно улыбаясь, сидел здоровый, с обожжённым ветрами и солнцем лицом, Васька-Муравей.
Владимир Георгиевич предложил Василию Лукичу немедленно пойти в вагон-ресторан – отметить эту их внезапную встречу, но Василий Лукич почему-то безнадёжно махнул на это предложение рукой: «Пустое!», а взамен выволок из вещмешка шматок копчёного с постнинкой сала, бутылку водки, хлеб и, всё это щедро разложив на холщёвой тряпице, мудро проговорил:
– Со своим-то посподручней.
И потекла скромная, тихая беседа двух друзей-приятелей, беседа о том о сём, о нужном.
Выяснилось, что Василий Лукич едет с шабашки, с сезона. Едет домой. Плотничал. Третью дочь замуж выдавать собрался, приданое готовить надо, а хуже других «не хотца».
Владимир Георгиевич работает старшим научным сотрудником, едет в командировку. Заедет ли домой? К отцу? Обязательно. Ещё бы! Какой разговор?! Да с таким попутчиком – хоть куда!
Вспомнилось, кстати, как в детстве они пекли с ним картошку. Перекатывали в ладошках обгоревшую до уголька, но всё равно «хавали», как в то время все они выражались, обжигались, хватая губами воздух, пританцовывая у костра.
Поле их было на задах у фабрики, там разгружали вагоны с торфом, а разгружали корзинами – не чем-нибудь! К концу осени ботва сухая на поле кончалась: костры жгли часто, чуть не каждый день, и, войдя в азарт, лазали через забор за корзинами, которых там было – пропасть! Хоть на сто костров!
Лазали по правилу – кому выйдет «вада», и всех чаще, почему-то, выпадало ему, Муравью, который сидит вот теперь здесь, улыбается, весь в брызгах веснушек – да и впрямь муравей!
Вспомнил, как однажды закричал он: «По-олу-ундра» – и перемахнула тень его птицей через забор. Следом за ней – сторожа. Они все – гавша – врассыпную; сторож Ваську поймал и за всех отлупил. Лупань была, видно, что надо, потому что Васька два дня не появлялся, не ходил в школу, зато не выдал компанию, пострадал один.
– Да с тобой, Василий, хоть к черту на рога! Хоть на кулички!– Владимир Георгиевич в волнении передвигал с места на место солонку, стакан, ножик: он все ещё не верил, что так удачно встретился с земляком.
– Загляни,– раздумчиво потирая рыжую, как стерня, щетину, внушительно советовал Василий Лукич.– Загляни. Рад будет.– И оживился – видно было, вспомнил приятное для себя: – Тут вот-кась уж рухнул было домишко-то у ёво, да подперли... Успели малость подмочь. Артель я тут как-то сразу сколотил – венцы-то и подменили. Крышу, правда, навели... Да и колхоз подмог – как старому учителю не подсобить?! Подсобили! Да и старик-то у тебя – мужик артельный. Почитай, не отставал от нас...
– Так он разве ещё работает?!
– Работает... А ты ешь, ешь, – тщательно прожёвывая свинину, ласково потчевал его Василий Лукич. – Ешь знай. Такого ведь в столицах-то не отведаешь: домашнее, – сыто улыбнулся он и продолжал: – А как уж зачали артелью-то помогать, так тут, почитай, дом-ат заново и выгнали: кто – фундамент, кто налишники норовит, кто – по пешному делу... На зависть дом-ат отделали! Мировой дом получился. Всё думали – ты прикатишь, а ты – вона! – научный сотрудник! Да еще старший, говоришь. Дураку понятно – некогда...
– Да я, было, собрался... – неловко начал оправдываться Владимир Георгиевич уже не столько перед односельчанином, сколько перед собой: слушал – и не знал, куда от стыда деться.
Помнил, как в то лето получил от отца письмо, обыкновенное письмо, как и все предыдущие письма, где между строк явно проскальзывала просьба отца приехать к нему. Приехать, как он сейчас понимал, хоть от позора перед деревней за их бескорыстную помощь, за их доброту и за его сыновнее отсутствие. Но жена в то лето собиралась на юг, а его попросила с детьми похозяйничать на даче.
Совестно смотреть было в лицо Ваське-Муравью, который, казалось, и не понимал всего катастрофически-нелепейшего положения, в котором сейчас пребывал он, Владимир Георгиевич, а с присущим ему весёлым добродушием всё еще наивно восхищался:
– Надо же – старший научный сотрудник! В институте, што ль, в каком, или где?
– В институте,– заметно раздражаясь, отвёл Владимир Георгиевич взгляд от дотошного Муравья.– Да разве дело-то в этом?
Он ждал встречи с отцом.
А вот и напряженный, раздирающий душу свист тормозов, знакомая дрожь вагона. Деревья приостановили бег. Все направились к выходу. Примчался откуда-то раскрасневшийся Васькин напарник, шустро схватил, казалось, в четыре руки неприподъёмную поклажу и бойко ринулся в тамбур.
Налегке – в светло-коричневом плаще, с портфелем в руке – понуро шёл Владимир Георгиевич по коридору в хвосте за тяжело навьюченным Василием Лукичом, и змейка гадливости вдруг липким холодом пробежала по телу: он увидел в запылившееся окно вагона автобусную остановку этого маленького, забытого им почти полустанка. Ясно представил битком набитый, обшарпанный, пыльный автобус с бабами-товарками и вот такими же крепкими, беспардонными, как этот Васька-Муравей, мужиками, корзины, мешки, пронзительный визг поросят, – точно, сезон на них сейчас! – прикинул, что дом отцу починили, – чем он теперь ему поможет? Может, на обратном пути? Потом?.. И когда пришла его очередь сходить, осталось только спрыгнуть на землю, – будто чья-то, еще крепче, чем Васькина, рука властно втащила его назад, в тамбур, и пригвоздила к стенке.
Поезд уже тронулся, и он увидел промелькнувшее в открытой ещё двери, из-за спины проводника, растерянное лицо Васьки-Муравья. Оно беспомощно искало, его, Владимира Георгиевича. Потом Васька-Муравей что-то яростно заорал, и по исказившим его лицо губам Владимир Георгиевич отчетливо разобрал: Гаврило – свиное рыло.
Дмитрий НЕЧАЕНКО ОСТОРОЖНО: ЛИТЕРАТУРНЫЙ “ЛОХОТРОН” “Новая” поэзия в зеркале “новой” критики
Упадок интереса к поэзии, о чём ныне так много говорят и пишут, мизерные тиражи стихотворных книг даже именитых, проверенных временем авторов – однозначное и явное свидетельство духовного, нравственного кризиса и упадка самой культуры. «Улица корчится безъязыкая – ей нечем кричать и разговаривать». Поэтому и нет ничего удивительного в том, что бездарные, наспех зарифмованные «тексты» песенной эстрадной «попсы» напрочь заполонили радио– и телеэфир, все эти бесконечные «фабрики» по плановому производству уныло похожих друг на друга, клонированных «звёзд».
Справедливости ради должен сказать, что в этом упадке и кризисе, в этой «порнографии духа» и деградации вкусов виноваты, безусловно, и мы, нынешние литераторы. Представлю на мгновение себе, что я не как стихотворец и филолог, а как «простой» любопытствующий читатель открываю наугад очередную статью современного критика с «отчётом» о творческих достижениях нашей так называемой «новой поэзии», освоившей, как оказывается, некий небывалый доселе «метаметафорический» язык, некую «новую», созвучную эпохе, стилистику, образность, ритмику, смысловую глубину. «Агитатором и пропагандистом» этой новаторской ультра-современной поэтики на сей раз выступает А.Люсый в своих заметках «Речь – гроба колыбель» («Литературная газета», 2004, №22). Обличив на всякий случай, как водится, в мракобесии, консерватизме и косности некую абстрактно злокозненную «литературно-мафиозную номенклатуру», критик-авангардист далее настойчиво и рьяно, на маловразумительном псевдонаучном языке принимается «восклицать» и «восхищаться» стихотворными текстами, художественные, смысловые и собственно поэтические достоинства которых не то что не соответствуют высоте взятого хвалебного тона, но и не стоят, попросту говоря, выеденного яйца. Мало того, подаётся вся эта тухлая псевдокритическая «скорлупа» под рубрикой «Дискуссия о современной поэзии»! Что ж, можно и подискутировать. Тем более, что сама «Литгазета», не утруждая себя никакими объяснениями, мою гневную отповедь литературным шарлатанам печатать отказалась. Буду надеяться, что место для неё на страницах «Дня литературы» всё же найдётся. Ведь речь идёт не о каких-то мелочах или «частностях», а о вопросах как для меня, так, думаю, и для всех любителей поэзии крайне принципиальных и важных, поскольку разгул мерзости и цинизма и в стихах так называемых «новых» поэтов, и в статьях их рьяных пропагандистов достиг масштабов доселе совершенно немыслимых, даже с учётом теперешней разнузданной «свободы слова» и хамского попирания всех эстетических и моральных норм. Коли уж дали волю и малость ослабили цензурный гнёт – тотчас «пошла писать губерния» такую несусветную ахинею и похабщину, что у любого мало-мальски образованного человека с ненарушенной психикой не то что уши вянут, но и руки чешутся «щёлкнуть по носу» всем этим потерявшим стыд бумагомаракам и щелкопёрам.
Вот, скажем, для наглядного примера весьма показательный фрагмент из сочинений некоего А.Полякова: «Тогда раскольником старуха топоров / похожа Лотмана в Саранске на немного – / места помечены обмылком диалога: / саднит орудие в усах профессоров». Или: «Объявит радио перегоревший луч. / В сортирах камерных исполнится музыка. / С размаху попою глотнём (?) Кастальский ключ, / чтоб горлом выпала червивая гадюка» и т.п. С многозначительным восторгом в подтексте, цитируя эту вопиющую по своей пошлости тарабарщину, А.Люсый вслед за своим, по-видимому единомышленником, И.Ахметьевым, именует её ни больше ни меньше, как «первым русским стихом ХХI века». И далее, ничтоже сумняшеся, провозглашает: «Мне представляется, что Поляков – единственный русский поэт, предлагающий в качестве органической смысловой единицы не слово, а особое атомарное предложение», в котором «семантические сдвиги синтаксического максимума становятся главным формообразующим принципом... в результате чего рождается особая патетика очистки языка под стать ассенизаторству Маяковского». Этот нескладный лексический волапюк должен, как видно, безоговорочно убедить нас в долгожданном появлении нового поэта-мессии. Нормальных «человеческих» слов, способных ясно и внятно выразить стремительный полёт критической мысли, как я понимаю, во всём «богатом и могучем» русском языке для этой цели не нашлось. Впрочем, когда говорить явно не о чем и сказать попросту нечего, приходится поневоле затемнять смысл, напускать терминологического туману, выдумывать некий внутрицеховой «эсперанто», доступный якобы только «посвящённым». «Эвона как загнул! – подумает в такой момент „простой“ читатель-профан, – наверно, этот самый Поляков и впрямь новоиспечённый гений, не станет же дипломированный филолог-специалист почём зря расхваливать всякую никчёмную лабуду». Плохо вы знаете, сограждане, наших нынешних «критиков». Ещё как станет! Круговая порука обязывает. Ведь ко всему прочему А.Поляков, по мнению Люсого, в своих творческих дерзаниях ушёл куда «дальше» и глубже Маяковского, ибо изобрёл на пороге ХХI века «для радикальной очистки» поэтического языка «более действенные глагольные формы, восполняющие банальные два пальца в горло» и «стал носителем глубинной вероятностной поэтики», воплотив тем самым в своих, сдержанно говоря, курьёзных стишках давние чаяния и грёзы философа Л.Витгенштейна о свободе так называемого «полного языка», т.е. языка «поэзии будущего». Мало вам для убедительности Витгенштейна? Не беда. Для пущей солидности своих умозрений критик то и дело ссылается и на других корифеев мировой эстетической мысли – В.Библера, М.Эпштейна, П.Пепперштейна, а в качестве окончательно «убийственного» аргумента – и на «американского учёного-космолога одесского происхождения» (цитирую дословно) некоего Гамова, придумавшего, оказывается, для обозначения «межмировой частицы-челнока», связующей макро– и микрокосм, «чисто» по-одесски гениальный термин: «урка-частица»! Теперь-то вам ясно, закосневшие в своей махровой необразованности сограждане-читатели, что речь идёт не о праздном стихоплётстве, очень сильно напоминающем клинический бред, а об абсолютно «новаторской» и доныне небывалой «урка-поэзии»? Н-да... Что на всё это скажешь? Что Маяковский именовал себя «ассенизатором революции» отнюдь не в «языковом» или поэтическом, а совсем в ином, политическом и социально-бытовом смысле? Но ведь любой, окончивший когда-то среднюю школу критик должен бы про это знать. Что всей этой местечковой «урка-поэзии» давно и с лихвой хватает и на неисчислимых «радио-шансон», и на подмостках родимой эстрады? Так ведь достаточно посетить в самых «престижных» концертных залах столицы авторский вечер какого-нибудь Розенбаума, Танича или Шуфутинского – вот тебе и самая что ни на есть натуральная «урка-поэзия». К чему зря изобретать велосипед и ломать критические копья? Неужели А.Люсый всерьёз считает всю эту несуразную абракадабру, добытую из глубин души посредством «двух пальцев в горло», «новым поэтическим словом», неслыханным и грандиозным открытием «полного языка»? Сомневаюсь. Не настолько же пришло в упадок и «поплохело» наше филологическое образование, да и трудно представить себе более-менее эстетически грамотного человека, не способного отличить «Венеру Милосскую от печного горшка». Выходит, дело-то тут совсем в другом. Выходит, всё это расчётливый и сознательный блеф то ли ради каких-то «тридцати серебреников», то ли ради возможности почаще мелькать в литературных «тусовках» и клубах: глядишь, и заприметят, и запомнят, и дружески похлопают по плечу, а там, если повезёт, допустят и к какой-нибудь более сытной кормушке, где включают в «комиссии» и «жюри», раздают премии и гранты. Номинантам и учредителям всех этих «букеров-антибукеров» тоже ведь нужна своя сноровистая, проверенная в деле, завсегда готовая «поступиться принципами» обслуга.
Второй эпохальной фигурой, выдвинутой А.Люсым в авангард современной поэзии и причисленной к великим реформаторам стиха, объявлен К.Кедров. С его «философическими» доктринами о тайнах мироздания можно познакомиться по нескольким опубликованным книжкам, где умело, не без сноровки и лихости, собраны и скомпилированы из разных, в основном переводных «научно-популярных» брошюр порой весьма занятные факты и сведения о «вывернутом наизнанку космосе», чудесах и загадках астрологии или о «звёздном коде», легко и доходчиво объясняющем, с точки зрения Кедрова, всё и вся, все «начала и концы» мира. Не могу сказать, что чтение это совсем нелюбопытно, особенно поначалу. Но когда на тридцатой или какой-то уже «...надцатой» странице вдруг узнаёшь, что даже простой бублик из булочной это ничто иное как соединившиеся в окружность «месяц воскресающий» и «месяц умирающий», а маковые зёрнышки на бублике – символика «млечного пути», становится почему-то не только довольно смешно, но и чересчур тоскливо. Впрочем, и это не большая беда. Возможно, мы, рядовые обыватели, скептики и материалисты, просто ещё не дозрели, не доросли до настоящего, философски глобального, воистину «космического» осмысления окружающей нас жизни. Когда же несколько лет назад К.Кедров стал постепенно обнародовать и свои поэтические опыты познания мира, я понял, что «вывернутым наизнанку космосом» хитроумный «астролог» нам просто и цинично морочил голову, не утруждая себя ничем, кроме собственных доморощенных, по-хлестаковски завиральных «теорий» и досужих, отдающих ужасающим провинциализмом фантазий. Мы по наивности полагали, что нам поверяют тайны космологии, а нам то и дело показывали старый как мир цирковой фокус с дыркой от бублика. Но всякий, даже очень смекалистый и увёртливый иллюзионист, вынужден рано или поздно саморазоблачиться, выставляя публике напоказ и облепленные тройными зеркалами шкафы, и потайные ниши, куда неожиданно исчезают улыбчивые, грудастые ассистентки, и фанерные ящики с двойным дном – словом, весь свой немудрящий казённый реквизит, предназначенный для околпачивания доверчивых зрителей. Чтобы понять это, достаточно привести всего несколько цитат из «метаметафорических», «экспериментальных» поэтических откровений Кедрова, которые он сам бесстрашно относит к жанрам то «драматической поэмы», то «трагедии», а то и вовсе «космологической эпопеи»: «Лев Толстой... над собой увидел небо и услышал ржание конское, / когда убили Болконского»; «Ферзь-Христос ставит мат вечным ходом... / На кресте Христос рокируется с Буддой / впадая в нирвану. / Христос играет в шахматы – / все фигурки / к которым он прикасается / превращаются в распятия»; «Гениталии всех стран, соединяйтесь!»; «Женщина – это пространство мужчины / Проститутка – это невеста времени / Время – это проститутка пространства / Пространство – это развёрнутый конь/ Пространство – это транс Канта / а время – блядь / сука-сволочь-проститутка-Троцкий»; «Голос Холина в раю / мать твою мать свою / он священник ветра / служит там смакуя / во имя говна и света / и святого х...я», ну и т.п. Для ясности – отточие в последнем слове моё ( на случай, если вдруг эти заметки всё же опубликуют), а «Холин» – это, как я понимаю, некое подобие «лирического героя», так сказать, своеобразное «альтер эго» автора. Помнится, согласно одному из наставлений Талмуда, правоверный иудей обязан, проходя мимо христианского храма, обругать Спасителя и Богородицу и плюнуть в сторону церкви. Чем-то подобным, очевидно, г-н Кедров пытается нашкодить нынче в русской поэзии, которая, какая бы «смута» ни творилась в стране, для нас, соотечественников Пушкина и Блока, по-прежнему святыня и храм. Что ж, наглости и цинизма записному «астрологу» и «метаметафористу» в данном случае явно не занимать, да и восторженные приспешники, конечно, всегда найдутся. Вот и А.Люсый, всесторонне и вдумчиво вникнув в глубины кедровских экспериментов, уверенно величает Кедрова «мастером поэтического афоризма», подвижником, самоотверженно возродившим в современной поэзии «древнегреческий способ письма бустрофедон (как пашут волами), когда одна строка идёт слева направо, а другая – наоборот. То есть в одну сторону словополе пашется головой(!), а в другую – тем, заместителем чего, по Фрейду, стал гоголевский Нос, у Кедрова ритуально обожествляемый». Такая вот, с позволения сказать, литературно-сельскохозяйственная сексопатология. На этом можно было бы и закончить цитаты из глубокомысленных пассажей критика да и просто выйти на улицу прогуляться, услыхать птиц, глотнуть свежего воздуха. Однако «сеанс саморазоблачения» и «магистра», и его свиты будет всё же неполным без заключительного, торжественного апофеоза: «Творчество Кедрова представляет собой просвещенческий тип культуры. К.Кедров в словесности – Верещагин нашего времени... Уровень ненормативной космологичности(!) Кедрова позволяет уловить ритм мироздания. В ходе процесса постигаемой им космологии он не только изучил и по-своему проинтерпретировал, но и практически подвёл итоги(!) русской поэзии ХХ века». В.В.Верещагин, поясню на всякий случай обескураженным эдаким словоблудием читателям,– знаменитый живописец, реформатор русского батального жанра, героически погибший в 1904 г. в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Коли стыда и совести никакой не осталось, вполне можно было сравнить г-на Кедрова хотя бы с Шекспиром, Данте или Гагариным. Кого и чего нынче побаиваться-то? Свобода слова, господа-товарищи! Никто, как прежде бывало, в подневольные времена, не одёрнет, не высмеет, не пристыдит. «Смежили очи гении, всё разрешено».
Впрочем, что уж тут удивляться Люсому, когда сам убелённый сединами и увенчанный славой «мэтр», живой классик, автор нетленных эстрадных шлягеров про «миллион алых роз» и «голубые яйца дрозда» А.Вознесенский, прочтя дерзновенные кедровские «поэзы», авторитетно и на всю страну изрёк: «Кедров из тех, которые продолжаются, как Пастернак. Он великий человек, и книга его великая, роскошная, совершенно авангардная во плоти книга» (радио «Маяк», 13.11.2002 г.) Когда жюри одной из очередных литературных премий объявляет книгу Кедрова «настоящим шедевром современной поэзии». Книгу, изданную, кстати, не подпольно, как большевистская прокламация, где-нибудь в Житомире или Бердичеве, а в столичном издательстве «Мысль», флагмане, так сказать, отечественной «науки» и «культуры». Да что Вознесенский! Знаем мы этих поэтов – иррациональные, легко ранимые жизнью, мечтательные и субтильные существа, ведущие крайне нездоровый образ жизни, далёкий и от ясного трезвомыслия, и от регулярных занятий фитнессом. Мало ли что им на ум иногда взбредёт. Тут вот, намедни сам профессор С.П.Капица чуть ли не со слезой в голосе так передал свои неизгладимые впечатления от словотворчества Кедрова: «Расширение нашего мыслительного понятия найдено в этих экспериментах над языком, над смыслом, над содержанием. Здесь существует гораздо большая дисциплина ума, чем во многих областях современной литературы. Если в своё время Эйнштейн говорил, что романы Достоевского дали ему больше, чем многие научные труды, то мне кажется, что поэтическое мышление Кедрова сопоставимо с основами квантовой механики и принципом дополнительности» (радио «Маяк», 9.02.2003 г.). Очевидное-невероятное, да и только. Что на это всё скажешь? Воистину, как у Гоголя, перо вываливается из рук и немеет язык. Столь откровенной беспардонности и бесстыдства мы не слыхивали, пожалуй, со времён продажной «советской» критики, взахлёб восхвалявшей когда-то одиозную «секретарскую» литературу.
«Возьмём гонг и подведём итоги», как выражается один популярный телеведущий, уровень философских сентенций и обобщений которого мне сильно напоминает оголтелые кедровские «поэзы». Что же всё-таки происходит ныне с нашими записными критиками, профессорами, стихотворцами? Одни рекламируют и зазывают, цепко хватая зазевавшихся прохожих за полы и фалды: «Мировая сенсация! Скорее сюда! Вам выпал беспрецедентно выигрышный билет! Ваш счастливый приз – книжка нового гения, пророка, титана мысли! Уникальная разгадка всех тайн! Нострадамус и Достоевский просто отдыхают!..» А другие, «новые Пастернаки», под шумок «самономинируются» на Нобелевскую премию, пописывают жалкие скабрёзные стишки, решают, втихую посовещавшись, кого бы ещё объявить новым «мессией», мелькают на телеэкране, назначают сами себя наследниками «футуризма», чуть ли не современными «диссидентами», без стыда и совести несут такую несусветную околёсицу, в сравнении с которой стишки капитана Лебядкина или Никифора Ляписа – и то настоящие шедевры, просто-таки «перлы» и «диаманты» стихосложения, ей-Богу.
Первые объявляют вторых чуть ли не «светочами» мировой культуры, былинными богатырями духа, философскими «махатмами» и «гуру», законными наследниками и «продолжателями» всех, кого только не лень ни к селу, ни к городу впопыхах вспомнить – Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Эйнштейна, да хоть самого Будды, а чего тушеваться и стесняться-то? Чем наглее, агрессивнее, сумасброднее и несуразнее блеф, как поучал некогда небезызвестный специалист по идеологической пропаганде, тем скорее и легче в этот бред поверят. И наши предприимчивые напёрсточники от литературы, старательно усвоив эти полезные для выживания в новых «рыночных условиях» уроки, дружно и слаженно запустили в дело свой пусть и немудрёный, халтурно сработанный, зато вполне прибыльно функционирующий «лохотрон».
Разумеется, я отчаянно и безнадёжно далёк от иллюзии, что мои беглые «заметки на полях» способны хоть как-то вразумить, усовестить и наших «новых» критиков, и их новоявленных «кумиров». И всё же на прощание напомню и им, и всем нам всего лишь несколько фраз из посвящённой Пушкину речи, ставшей творческим завещанием А.Блока: «Поэт – величина неизменная, сын гармонии. Сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна. Никаких особенных искусств не имеется и не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать».