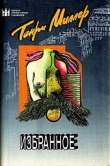Текст книги "Собака Перголези"
Автор книги: Гай Давенпорт
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Этот великий ум Раскина, столь искусный в восприятии в пору юности и столь многонаправленный в зрелости, вспыхнул дугой иррациональности и погас. Десять последних лет Раскин просидел в своей комнате в Брэнтвуде под бдительной охраной Севернов. Тёрнер тоже рехнулся, Свифт и Ницще, Эмерсон и Джон Клэр. В безумии Раскина была своя логика: его отчаяние усугубили его неосуществимая любовь, неспособность заставить людей понять его мечты о справедливом обществе, его религиозные сомнения. Добавим преклонный возраст, мучительное ущемление грыжи (после того, как станцевал джигу), одиночество и преследующие его «голоса».
Биографы охватывают внешнюю сторону жизни, а о внутренней рассказывают по мере возможности. Это могут быть резко отличные друг от друга реальности. Существование в пространстве и времени историков искусства Макса Рафаэля и Эрвина Панофски, двух великих продолжателей дела Раскина, будет драматичным и интересным, когда у нас появятся такие же полные их биографии, как хилтонская Раскина, но пока мы не прочитаем их книги, наше знание о них будет немногим лучше невежества. Любопытно, что мы в это не поверим. Я знаю нескольких интеллигентных людей, которые читали биографии Джойса и Витгенштейна, но не самих Джойса и Витгенштейна. Исключительно читабельную и тщательно исследованную биографию Раскина в исполнении Хилтона будут читать сотни людей, который никогда не прочли ни слова Раскина и, наверное, не прочтут.
Одного они лишат себя – голоса Раскина. При всей его ворчливости и проповедническом тоне он не пишет, а говорит. Это в самом замечательном смысле слова мысли вслух, максимальное духовное родство, разговорность, богатство занимательных деталей, и всегда – наблюдательность. Он – лучший спутник в мире, когда глядишь на венецианское здание или готическую резьбу. Он может вам рассказать, что каменные цветы, кажущиеся простым украшением на верхушке колонны собора, растут на воле в окрестных полях. Он ничего не принимает как само собой разумеющееся; его читатели – дети, которых следует учить, завлекать учением. На одну из своих оксфордских лекций он привез плуг, чтобы убедиться, что студенты знают, как он выглядит (то была лекция по скульптуре). Он мог заставить отрывки из Библии звучать, как слова, услышанные впервые. Лекция, которая начиналась с Микеланджело, кончалась тем, какие туфли нужны девочкам, лекция о пейзажной живописи – промышленным загрязнением рек и как с ним бороться.
Большинство проблем, которыми занимался Раскин, – это и наши проблемы. Столетие, начавшееся в год его смерти, было свидетелем самых ужасных войн за описанные в истории времена, и жестокость, без стыда и жалости, по-прежнему позорит человечество. Пятьдесят лет Раскин пытался показать нам, как жить и как воздавать хвалу.
ВИТГЕНШТЕЙН
© ПЕРЕВОД А. ЦВЕТКОВА
Подобно деликатному Антону Брукнеру, который коротал воскресные послеполуденные часы, считая листья на деревьях, Людвиг Витгенштейн в приступах странности высчитывал высоту деревьев, отмеривая шагами от ствола катет треугольника, разворачиваясь и устремляя взгляд на верхушку вдоль трости (по гипотенузе) и прибегая затем к величественной теореме Пифагора. Помимо изобретения швейной машины (еще подростком), проектирования дома в Вене (сохранившегося), который вызвал восхищение Фрэнка Ллойда Райта, и прилежного посещения фильмов с мисс Бетти Хаттон и Кармен Мирандой, это – один из немногих поступков философа, которые были достаточно прозрачны. Тем не менее, ни его жизнь, ни его мысль не покрыты никакой тайной. Если он был и не величайшим философом нашего времени, то наверняка важнейшим. Он основал (непредумышленно) две системы философии и отрекся от них. Когда он умер, он «начинал что-то понимать» – мы никогда не узнаем, что именно. В конце своей первой книги «Логико-философский трактат», законченной в концентрационном лагере во время Первой мировой войны, он написал: «Мои тезисы могут послужить разъяснением следующим образом: каждый, кто понимает меня, в конечном счете признает, что они являются чепухой, – после того, как использует их как ступени, чтобы подняться над ними». В начале другой своей книги, «Философские исследования», он писал: «Нет ничего невозможного в том, чтобы этой книге, в ее скудости и во мраке этой эпохи, выпала судьба озарить светом тот или иной ум, – но, конечно, это весьма маловероятно». Однажды, когда на одном его занятии в Кембридже студент задал вопрос, Витгенштейн сказал: «С тем же успехом я мог бы читать лекцию этой печке». Среди посмертного имущества Витгенштейна была найдена коробка с записками, Zettel.На каждом клочке бумаги записана мысль. Порядок этих клочков, если такой существовал, уже, конечно, не установить. Что-нибудь в них понять, как ободрил бы нас сэр Томас Браун, – не за пределами всех возможностей, но мы должны заниматься этим под шепот духа Витгенштейна: «Но, конечно, это весьма маловероятно».
Прежде чем взяться за философию, Витгенштейн был математиком, музыкантом, архитектором, скульптором, инженером-механиком, учителем начальной школы, солдатом, авиатором. Не подлежит сомнению, что он мог бы посвятить себя любой из этих профессий с блистательным успехом – накануне прибытия в Кембридж (там ему вручили докторат перед входом) он испытывал сильную склонность «стать аэронавтом». Судя по всем рассказам о его странной жизни, он пыталсяпреподавать. Он не обедал с профессурой, потому что профессура в своем великолепии всегда обедает в докторских мантиях, черной обуви и при галстуках. Витгенштейн вечно был без галстука и носил замшевую куртку, которая расстегивалась и застегивалась посредством замечательного изобретения, «молнии», а туфли у него были коричневые. Он читал лекции в своем кабинете – по континентальному обыкновению. Поскольку мебели там не было, кроме армейской раскладушки, складного стула, сейфа (для Zettel)и карточного стола, студенты приносили стулья с собой. Философские аудитории в нашем столетии часто были не менее драматичны, чем сцена: Сантаяна, Сэмюэл Александер, Бергсон – люди страстной артикулированности, чьи лекции обрушивались на студентов, как ветер и дождь. Но Витгенштейн, горбясь на стуле, время от времени тихо запинался. Он был привержен абсолютной честности. Ничему, абсолютно ничему не было позволено избежать анализа. Он ничего не утаивал в рукаве, ему было нечему учить. Мир был для него головоломкой, большой чушкой непрозрачного чугуна. Можем ли мы о чушке думать?
Что такое мысль? Что значит «можем», или «мы можем», или «мы можем думать»? Что значит «мы»? Что значит искать значения «мы»? Если мы ответим на эти вопросы в понедельник, действительны ли эти ответы во вторник? И если я вообще на них отвечу, думаю ли я этот ответ, верю ли в ответ, знаю ли ответ или воображаю ответ?
Судя по всему, Витгенштейну совершенно не было дела до того, что Платон уже ответил на определенные вопросы, которые должны задавать философы, или что на них ответили Кант или Мен-цзы. Иногда ему нравились вопросы других философов, но он, похоже, никогда не обращал внимания на их ответы. Истина была упряма, Витгенштейн был упрям, и никто из них друг друга не переупрямил. Если мы хотим найти другого человека, который так откровенно был бы самим собой, который был бы так упрямо искренен, нам надо вернуться к стоику Музонию. На самом деле, Витгенштейн очень мало преподавал в своей жизни. Он уезжал в норвежские леса, в Россию, на запад Ирландии, где – и это все, что мы знаем об этих уединениях, – учил коннемарских птиц прилетать и садиться ему на руки. Он не освоил никаких условностей, кроме речи, ношения одежды и, неохотно и ворча, математических символов. Будничные хлопоты нашей цивилизации были для него чудесами, и когда он принимал в них участие, они становились не менее странными, чем домашнее хозяйство банту. Ему нравилось мыть посуду после еды. Он складывал тарелки и приборы в ванну, внимательно изучал моющее средство, температуру воды, и тратил на это занятие часы, и еще часы на ополаскивание и сушку. Если он гостил где-то несколько дней, всей пище следовало быть идентичной той, что подавалась в первый, будь то завтрак, обед или ужин. То, что он ел, не имело значения, но это всегда должно было быть одно и то же. Он внимательно прислушивался к человеческой речи и на глазах у собеседника разбирал ее на части. Язык, решил он, – это игра, в которую люди научились играть, и он всегда, подобно антропологу с Марса, пытался понять правила. Когда он лежал, умирая от рака, в доме своего врача, добрая жена доктора вспомнила о его дне рождения и испекла ему торт. Она даже написала на нем кремом: «Many Happy Returns». [64]64
Еще много раз (англ.) – традиционное поздравление с днем рождения.
[Закрыть]Когда Витгенштейн спросил ее, понимает ли она, что из этого следует, она расплакалась и уронила торт. «Видите, – сказал Витгенштейн врачу, когда тот прибыл на место происшествия, – у меня теперь нет ни торта, ни ответа на мой вопрос». За несколько дней до этого жена доктора, эта терпеливая мученица на алтаре философии, показала Витгенштейну свое новое пальто, в котором собиралась пойти на вечеринку. Он молча взял ножницы, молча срезал с пальто пуговицы и молча положил ножницы на место. Эта святая женщина заметила, что, дескать, действительно, если подумать, пальто без пуговиц смотрится лучше, но лишь когда спадут печати в Судный день, откроется смысл сноровки философа с ножницами.
Если исключить математика Давида Пинсента, которому посвящен «Трактат» и который был убит на Первой мировой войне, ему не везло с друзьями; похоже, что женщин он замечал лишь затем, чтобы знать, куда бежать. Мысль о том, что женщина может быть философом, вынуждала его в отчаянии закрывать глаза. Безумие и самоубийство были в его семье наследственными. Он убеждал своих студентов заниматься черной работой (и сам время от времени работал сельским учителем и механиком). Жизнь была, наверное, странной болезнью, которую преодолеваешь героизмом, а мысль наверняка была болезнью, которую, наверное, могла излечить философия. Подобно Генри Адамсу он считал, что здоровый интеллект не осознавал бы себя, а просто бы занимался жизнью, создавая прекрасные машины, музыку и поэзию, без рефлексии. В чем бы ни состояла истина мира, она проста в том смысле, что, например, можно сказать: смерть не является частью жизни (одно из прозрений в «Трактате»), мир не зависит от моей воли (другое) и он сложен в том смысле, что все происходит в результате многих причин, не все из которых могут когда-либо стать известными.
Только то, что написано Витгенштейном в середине его карьеры, может довести до припадка – та часть, которая породила (к его сожалению) лингвистический анализ, эту темнейшую ночь философии. Раннюю работу, «Трактат», отличают прозрачность и мощь. Новооткрытые Zettelможно сравнить лишь с фрагментами Гераклита. Действительно, всю жизнь Виттгенштейн восхищался эпиграммами злоязыкого Лихтенберга и считал, что мысль – это, в основе своей, восприятие. То, что философ говорит о мире, не так уж сильно отличается от пословицы, народной мудрости, бесконечно повторимой поэтической строки. Очевидно, что Zettel —возвращение к манере «Трактата», к архаическому периоду философии, к болтливому обаянию Сократа. Философ, как сказал Уиндэм Льюис о художнике, берет начало от рыбы. Физика во времена Витгенштейна возвращалась к Гераклиту (ключ к разгадке атома был найден Нильсом Бором у Лукреция) – то же самое и искусство, и архитектура. Что может быть более откровенно пифагорейским, чем геодезические строения Бакминстера Фуллера, что – более по-бытовому пещерным, чем живопись Паля Клее? Одно из определений «современного» – это возрождение архаического (подобно тому, как Возрождение восходило к эллинизму, к Риму, к зрелой цивилизации, а не к ранней весне этой самой цивилизации).
«Пределы моего языка – это пределы моего мира». «Самый прекрасный порядок в мире – это, тем не менее, произвольное собрание предметов, которые сами по себе незначительны». Где здесь Гераклит, а где – Витгенштейн? «Философ, – написано в одной из Zettel, —не является гражданином какой бы то ни было общины идей. Именно это и делает его философом». И еще: «Как насчет фразы – Wie ist es mit dem Satz– “Нельзя вступить в одну и ту же реку дважды”?» Это прозрение Гераклита всегда вызывало восхищение своим сокровенным вторым смыслом. Нельзя вступить… – тут ведь не только течение реки делает изречение истинным. Но истинно ли оно? Нет, улыбнется (или нахмурится) Витгенштейн, но оно мудрое и интересное. Его можно анализировать. Оно гармонично и поэтично.
Чем больше мы читаем Витгенштейна, тем сильнее убеждаемся, что он доГераклита, что он нарочно начал бесконечную регрессию (затем, конечно же, чтобы идти вперед, когда найдешь, на что упереться). Он изящно вывернулся из традиции, по которой все философы переваривают всех прочих философов, отвергая и обогащая, формируя союзы и соперничества и излучая свою версию того, что они выучили, в завоеванной позиции, которую должно день и ночь защищать. Витгенштейн отказался рассматривать историю философии. Нельзя сказать, что даже перед смертью он пришел к пониманию числа 2. Два чего?Два предмета должны быть идентичны, но если идентичность имеет какой-то смысл, это абсурдно. В одной из Zettelвысказывается недоумение насчет того, что может означать фраза «дружеская рука». В другой – является ли отсутствие чувства чувством. Еще в одной – есть ли у печки воображение, и что значит утверждать, что у печки нет воображения.
Витгенштейн не спорил – он просто уходил мыслью в более тонкие и глубокие проблемы. Записи, которые три его студента сделали на его лекциях и беседах в Кембридже, представляют трагически честного и замечательно, поразительно абсурдного человека. В любых воспоминаниях о нем мы встречаемся с личностью, о которой жаждем узнать больше, ибо хотя каждая фраза остается для нас темной, очевидно, что архаичная прозрачность его мысли не похожа ни на что, чему была свидетелем философия на протяжении тысяч лет. Очевидно также, что он пытался быть мудрым и сделать мудрыми других. Он жил в мире и для мира. Он пришел к заключению, это нормальный честный человек не может быть профессором. Это ученый мир создал ему репутацию непроницаемости и невразумительности – никто не смог бы меньше заслуживать такой. Ученики, приходившие к нему, ожидая встретить человека невероятно глубокой учености, обнаруживали, что он видит человечество связанным исключительно страданием, и он неизменно советовал им быть по возможности добрыми к другим. Он читал Толстого (неизменно застревая), и Евангелия, и стопки детективных романов. Он покачивал головой над Фрейдом. Умирая, читал «Черную красавицу». Его последние слова были: «Скажите им, что у меня была замечательная жизнь».
НАБОКОВСКИЙ «ДОН КИХОТ»
© ПЕРЕВОД М. МЕКЛИНОЙ
«Я с восторгом вспоминаю, – сказал Владимир Набоков в 1966 году Герберту Голду, который приехал в Монтрё, чтобы взять у него интервью, – как разодрал в Мемориал-холле на клочки «ДонКихота», жестокую, грубую старую книгу, на глазах у шестисот студентов, к вящему ужасу и конфузу моих более консервативных коллег». Разорвать-то он разорвал, имея на то веские причины критика, – но и собрал вновь. Шедевр Сервантеса не входил в набоковский план занятий в Корнеле; вероятно, Набоков не испытывал к «Дон Кихоту» особой любви и, когда начал готовиться к гарвардским лекциям (Гарвард настаивал, чтобы Набоков не упускал «Дон Кихота»), тут же обнаружил, что американская профессура годами облагораживала грубую и жестокую книгу, превращая ее в претенциозный причудливый миф о видимости и реальности. Поэтому первым делом Набокову нужно было отыскать для своих студентов текст, освободив его от всей ханжеской чепухи, налипшей за долгое время неверных истолкований. Новое прочтение Набоковым «Дон Кихота» стало событием в истории современной критики.
Набоков намеревался отшлифовать лекции, которые читал в Гарварде в 1951–1952 годах, а также с 1948-го по 1959-й в Корнеле, но так и не собрался, и тем из нас, кто не был записан в класс «Гуманитарные науки 2» в числе «шестисот юных незнакомцев» в весенний семестр 1951–1952 годов, приходится читать лекции Набокова о Сервантесе, дошедшие до нас в картонных папках, кропотливо и блистательно обработанные Фредсоном Бауэрсом, одним из самых выдающихся американских библиографов. [65]65
Набоков В.В.: Лекции о «Дон Кихоте». Пер. с англ.: Предисл. Ф.Бауэрса, Г.Давенпорта. М.: Независимая Газета, 2002.
[Закрыть]
Мемориал-холл, в котором Набоков читал свои лекции, настолько символичен, что самый привередливый остроумец не мог бы пожелать более подходящего места. Это безвкусное викторианское здание, при виде которого марк-твеновский янки из Коннектикута мог бы заверить нас, что именно такой обманчивый сплав средневековой архитектуры предстал перед ним во сне. Оно было задумано Уильямом Робертом Уэйром и Генри Ван Брантом в 1878 году как показательный образец университетской готики в честь солдат, погибших от рук донкихотствующих конфедератов в Гражданской войне. В этом здании, в этой абсолютно донкихотской архитектурной риторике, будто извергнутой воображением Вальтера Скотта и Джона Раскина, что может быть уместнее истории о простодушном старике из Ла-Манчи, которой будоражит нас ценитель нелепого позерства и пикантных нюансов.
Однажды, когда я преподавал «Дон Кихота» в Университете штата Кентукки, один из студентов вдруг вытянул свою длинную баптистскую руку и сказал, что до него дошло, наконец: герой нашей книги спятил. Именно это утверждение, подтвердил я, обсуждается уже почти четыреста лет-и сейчас мы, уютно устроившись в классной комнате в осенний день, тоже пальнем в эту мишень. «Однако, – как-то недовольно пробурчал студент, – мне с трудом верится, что кто-то может сочинить целую книгу о ненормальном». Это его «кто – то» – абсолютно правомерно. Книга, которую Набоков так ловко разорвал на клочки в Гарварде, на самом деле вылупилась из текста Сервантеса, так что когда «Дон Кихот» упоминается в разговоре, возникает вопрос: чей Дон Кихот. Дон Кихот Мишле? Мигеля де Унамуно? Джозефа Вуда Кратча? Ибо герой Сервантеса, подобно Гамлету, Шерлоку Холмсу и Робинзону Крузо, начал отделяться от своей книги почти сразу же после того, как был придуман.
Происходила не только постепенная сентиментализация Дон Кихота и его приятеля Санчо Пансы – милый зачарованный Дон Кихот! комический Санчо, живописно рассудительный селянин! – но и смещение текста иллюстраторами, особенно Густавом Доре, Оноре Домье (а в нынешние дни – Пикассо и Дали), их последователями, их имитаторами, их драматизаторами и просто людьми, употребляющими слово «донкихотствующий», становящееся носителем любого смысла, который вы в него захотите вложить. Слово это должно значить нечто вроде «галлюцинирующий», «самозагипнотизированный» или «смешивающий игру с действительностью». Отчего оно стало обозначать «похвально идеалистический» и объясняет Набоков в своих лекциях.
Для того, чтобы поместить Дон Кихота обратно в сервантесовский текст, Набоков (которого на это вынудило ознакомление с кучкой американских критиков и их смехотворно безответственными оценками книги) сначала выписал краткое содержание каждой главы, – которое профессор Бауэрс уместно включает в свое издание. Тщательность этого составленного Набоковым краткого конспекта может только устыдить учителей, которые по-прежнему берут «Дон Кихота» штурмом (протяженностью не больше недели) в обобщающих курсах для второкурсников во всей Республике, не перечитывая книгу с тех пор, как сами были студентами, полностью упуская – и тогда, и сейчас – второй том, или(одного такого я знаю) не читая книгу вообще.
Ибо «Дон Кихот», как Набоков понимал с определенной долей огорчения и раздражения, – это совсем не то, что кажется многим. Обилие вставных новелл (подобных тем, что портят "Записки Пиквикского клуба" и которые мы рады забыть) осложняет бессюжетный сюжет. Все мы переписываем эту книгу в уме в виде увлекательной ленты событий: тазик цирюльника, превращенный в Мамбринов шлем, атака на мельницы (становящаяся квинтэссенцией книги), нападение на овец, и так далее. Множество людей, которых нельзя заподозрить в прочтении этого текста, могут предоставить вам его правдоподобное содержание.
Готовясь к лекциям, Набоков не упускал из виду верно подмеченный факт, что книга провоцирует жестокий смех. Дочитавшийся до сумасшествия сервантесовский старикан и его дурно пахнущий оруженосец были придуманы, чтобы стать объектом насмешки. Довольно-таки ранние читатели и критики стали избегать этого испанского развлечения и истолковывать повествование как тип сатиры, в котором в сущности разумная человеческая душа в бесчувственном и неромантическом мире может показаться душевнобольной.
Проблема не так проста. У Испании, традиционно чуравшейся чужаков, нет способностей (как у Китая или Соединенных Штатов, к примеру) к тому, чтобы этих чужаков приютить. Во времена Сервантеса истерично изгоняли евреев, мавров и христианских неофитов иудейского и исламского происхождения. Испания продолжала устраивать на аренах гладиаторские побоища (для развлечения черни) еще долгое время после того, как Римская империя от них отказалась. Национальная народная забава, бой быков, до сих пор отделяет Испанию от цивилизованного мира. Момент в истории, когда был написан «Дон Кихот», правление Филиппа II, параноидального фанатика, гордившегося манерами «самого католического короля», посеребрен лунным светом Романтизма. Набоков читал свои лекции в самый сезон романтизации Испании. Лоуэлл и Лонгфелло изобрели Испанию, которая засела в американском воображении (тому свидетелем мюзикл «Человек из Ла-Манчи»), и которую толпы американских туристов, к сожалению, ищут в Испании нынешней.
Однако Испания Филиппа II была по-своему «кихотична». Ее знать носила доспехи, в которых ни один кавалерист не осмелился бы ринуться в бой. Филипп, этот суетливый придира, а не король, бывало, выставлял по стойке смирно свои пустые латы, давая смотр войскам. Сам он оставался во дворце, посреди чувственных Тицианов, проверяя счета, читая и комментируя каждое письмо, посланное и полученное через сеть посольств и шпионов – сеть шириной от Западного полушария до Вены и глубиной от Роттердама до Гибралтара. Филипп, если вообще можно ему найти прототип, – Дон Кихот, но он – «анти-Кихот». Как Дон Кихот, он жил мечтой, в иллюзорной ткани которой постоянно возникали дыры. Он сжигал еретиков, но как определить, что еретик – действительно еретик? Разве не был он в той же эпистемологической «горячей точке», что и Дон Кихот, видящий в овцах овец, но также и мавров? Свирепые шпионы Филиппа без устали отлавливали всех клявшихся своим мучителям в том, что они являются истинными католиками, подозревая, что на самом деле их жертвы были (знать бы, как это определить) лживыми неофитами: гуманистами, протестантами, иудеями, мусульманами, атеистами, ведьмами и бог знает кем еще.
Европа переживала эпоху, когда реальность вставала вверх тормашками. Гамлет морочил голову Полонию двусмысленными очертаниями облаков. Способность Дон Кихота к одурачиванию самого себя – средоточие опасений того времени. Самоопределение личности, впервые в европейской истории, стало вопросом мнения или убеждения. Насмешки Чосера над «свиными костями» [66]66
Джеффри Чосер, «Кентерберийские рассказы», «Общий пролог». Имеются в виду свиные кости, которые носил с собой в коробке продавец индульгенций, выдавая их за мощи святых.
[Закрыть]не были проявлением скептицизма по отношению к подлинным реликвиям, которые должны вызывать благоговение. Но в «Дон Кихоте» путаница между лошадиной поилкой и крестильной купелью со всей серьезностью ставит вопрос (независимо от намерений Сервантеса), не является ли то, что мы называем крестильной купелью, бессмыслицей, полностью лишенной «кихотичного» волшебства, которое мы ей приписываем.
Я полагаю, что за многие годы значение «Дон Кихота» усвистало в ветра Просвещения и выразительно проплыло под фальшивыми флагами, которые мы охотно вздернули на флагшток. Поэтому пристальный взгляд Набокова и посуровел. Он хотел, чтобы книга оставалась самой по себе – сказкой, вымышленной постройкой, не имеющей отношения к мифической «реальной жизни». И тем не менее «Дон Кихот» – именно та книга, что играет в игры с «реальной жизнью». В своем роде она представляет собой нечто вроде трактата о том, как значения заползают в вещи и судьбы. Это книга об очаровании, о неуместности очарования в разочарованном мире и о вздорности очарования в целом. Несмотря на это, она очаровывает. При нашем содействии вкупе с неверным прочтением книга превратилась в то, что сама и высмеивала.
Набоков, проницательный наблюдатель американской души, знал, что шестьсот гарвардцев и клиффовцев в его аудитории верят в рыцарей так же, как верили в старый добрый Запад с его странствующими ковбоями и в готическую архитектуру Мемориал-холла. Он не стал терять времени на разубеждения; фактически, он бодро заявил, что от негоони не услышат ни о самом Сервантесе, ни о его временах, ни его левой руке, утерянной у Лепанто. [67]67
Битва при Лепанто (7 октября 1571 г.), в которой испано-венецианский флот сокрушил флот Оттоманской империи, таким образом положив конец господству турков в Средиземном море.
[Закрыть]Вместо этого он потребовал доскональных знаний о мельнице, нарисовал им оную на доске и сообщил, как называются ее части. Он пояснил, почему помещик мог ошибиться, приняв их за гигантов: мельницы были новшеством в Испании XVII века – стране, узнававшей последней о европейских новинках.
Набоков очень остроумно и понятно говорит о Дульсинее Тобосской. Но он не распыляет внимания своих студентов отступлениями на тему куртуазной любви, ее диковинного метаморфичного прошлого и любопытной живучести в наши дни. Читая свои тщательно выстроенные ревизионистские лекции, мыслями Набоков явно пребывал в Университетском музее в четырех минутах ходьбы (там он восемь лет занимался энтомологией – изучал анатомию бабочек) и в то же время размышлял о куртуазной любви, ее сумасшествии и слепых безрассудствах, – три года спустя, повзрослев, этот проект превратится в «Лолиту». Уменьшительное имя от испанского Долорес пробуждает нашу пытливость. «Лолита» столь последовательно продолжает набоковские темы («другой как я сам», «продуктивная власть иллюзий», «игра смысла и одержимости»), что нельзя заключить, будто она вдохновлена исключительно скрупулезным и пристальным чтением «Дон Кихота». Однако, и там, и там есть авантюрное путешествие, которое служит «гармонизирующей интуицией» обоих произведений. И есть фея Лолита. Она зародилась как соблазнительное дитя в первом пришествии романтической любви на Запад: мальчик или девочка, душки Сафо или юнцы Анакреона. Платон сделал эти безнадежные влюбленности в нечто предметом философии, тем, что называется «любовь к совершенной красоте». Эта тема в свинцовых римских руках выродилась в непристойную и громоздкую, практически испарилась в раннее Средневековье, чтобы опять явиться в X веке как рыцарский роман. Ко времени Сервантеса куртуазная любовь насытила литературу (как насыщает ее и до сих пор), и в своей сатире на нее и ее новый контекст, Рыцарство, Сервантес счел совершенно закономерным переплавить стойкий образец добродетели и красоты в деревенскую девку с большими ступнями и бросающейся в глаза бородавкой.
«Дон Кихот» не имел никакого воздействия на здоровье рыцарского романа; он просто изобрел животворную параллельную традицию, вечного спутника. У Ричардсона сейчас был бы Филдинг. Мы не расстались бы с совершенной красотой, если бы по соседству не жила мадам Бовари. Скарлетт О’Хара и Молли Блум, обе – энергичные ирландки, в равной степени воздействуют на наше воображение. Уже в старинных романах, с ранних времен благонравная красавица уравновешена колдуньей, Уна – Дуэссой. [68]68
Героини аллегорической поэмы «Королева фей» английского поэта Эдмунда Спенсера (ок. 1552–1599).
[Закрыть]После «Дон Кихота» обманная красота стала интересовать нас сама по себе: Ева, предъявившая древние права искусительницы. К поздним XVII и XVIII векам она открыла лавочку и в литературе, и в реальной жизни. Чтобы заполучить французского короля, заметил Мишле, нужно было прорваться сквозь стену женщин. Любовница стала чем-то вроде общественного института; литература утверждала, что любовница требовательна и опасна, однако интереснее и приятнее жены: ритуальная деталь рыцарского романа, который «Дон Кихот» предположительно захватил в плен. Во времена перезрелого декаданса любовница превратилась в пряную Лилит, первозданную особь женского пола в кружевной комбинашке, пахнущую обреченностью, проклятием и смертью. Лулу, назвал ее Бенджамин Франклин Ведекинд. Молли, сказал Джойс. Цирцея, изрек Паунд. Одетта, провозгласил Пруст. И из этого хора Набоков выдернул свою Лулу, Лолиту, в чьем подлинном имени, Долорес, многое было от Суинберна, смешав ее с ее кузинами Алисой (Набоков – автор перевода на русский «Алисы в стране чудес»), Розой Раскина и Аннабел Ли Эдгара По. Но ее бабушка была Дульсинеей Тобосской. И мы помним, что мемуары Гумберта Гумберта были преподнесены нам профессором как бред сумасшедшего.
Таким образом, эти лекции представляют некий интерес для тех, кого приводят в восторг романы Набокова. Оба – Сервантес и Набоков – признают, что игра может выходить за пределы детства не только в качестве естественной трансформации в сновидения наяву (которые психиатры, считая их подозрительными, не одобряют) или в любой вид творчества, но и в качестве игры самой по себе. Именно этим и занимается Дон Кихот: играет в странствующего рыцаря. В отношении Лолиты к Гумберту тоже присутствует игра (она удивляется, что взрослые интересуются сексом, который для нее лишь одно из развлечений), а психология Гумберта Гумберта (которой предназначено ускользнуть от теорий Фрейда), вероятно, указывает на то, что он просто зациклился на детских играх.
В любом случае, когда критик рассматривает плутовской роман или литературную трактовку иллюзии и самоопределения личности, он одновременно вспоминает и Сервантеса, и Набокова.
Эти лекции по Сервантесу были триумфом Набокова в том смысле, что он сам изумился, придя к окончательному мнению о «Дон Кихоте». Он отнесся к задаче со всей скрупулезностью, несмотря на то, что считал этот классический анекдот громоздкой безделкой и подозревал, что там кроется некий подлог. Именно ощущение обмана и пробудило его интерес. Затем, я думаю, он увидел, что подлог заключался в репутации книги, распространившейся, подобно эпидемии, в среде критиков. Такие вещи Набоков любил разметать в хвост и гриву. Он стал выявлять в кишащей неразберихе некую симметрию. У него зарождается подозрение, что Сервантес ничего не знает об «отвратительной жестокости» книги.
Ему начинает нравиться сухой юмор Дон Кихота, его заразительный педантизм. Он соглашается с «любопытным феноменом»: Сервантесом был создан характер величественнее самой книги, от которой он отделился – и вошел в искусство, в философию, в политический символизм, в фольклор грамотеев.