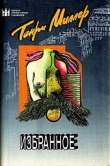Текст книги "Собака Перголези"
Автор книги: Гай Давенпорт
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
НОВЫЙ МИФ
Хоть Кафка и рассчитывает на то, что при чтении «Охотника Гракха» в глубине наших умов всколыхнутся мифы и народные сказания об охотниках, заколдованных кораблях, Вечном Жиде, кораблях для душ умерших, и вся остальная культурная закваска, он, в отличие от Джойса, прямо их не называет. Он от носится к ним как к грунтовым водам, до которых может дотянуться его главный корень.
Даже отбирая что-то из груды мифического старья, он это что-то обособливает. Его Дон Кихот, Вавилонская Башня, Буцефал – преобразования.
Герман Брох точно определил отношение Кафки к мифу: писатель выше этого исчерпанного ресурса. Брох одним из первых чутко разглядел величие и уникальность Джеймса Джойса. Собственное же его творчество, при этом, было концом и кульминацией. Роман Броха «Смерть Вергилия» (1945) можно считать финальной элегией, завершающей долгий век европейской литературы от Гомера до Джойса. В Кафке он увидел новое начало, неистово яркое солнце, пылающее сквозь плотный предрассветный туман.
Поразительная взаимосвязь искусств на основе общей для них абстракции, общего стиля старости – клеймо нашей эпохи – обуславливает внутреннюю взаимосвязь таких творцов, как Пикассо, Стравинский и Джойс. Эта взаимосвязь поразительна не только сама по себе, но и в силу параллелизма, посредством которого стиль старости был навязан этим личностям, даже в довольно молодые их годы.
Тем не менее, абстрактизация не образует Gesamtkunstwerk [111]111
Общее художественное творчество (нем.).
[Закрыть]– идеал поздних романтиков; искусства остаются обособленными. Литературе особенно невозможно стать абстрактной и «музыкализированной-: поэтому стиль старости гораздо более зависит здесь от другой симптоматичной позиции, а именно – от тяги к мифу. Чрезвычайно значимо то, что Джойс возвращается к «Одиссее›.И хотя это возвращение к мифу – уже предвосхищенное у Вагнера – нигде не проработано столь детально, как в творчестве Джойса, при всем этом оно – превалирующая позиция современной литературы: возрождение библейских тем, как, например, в романах Томаса Манна – один из признаков стремительности, с которой миф вырывается на передний край поэзии. Однако это лишь возвращение – возвращение к мифу в его древних формах (даже если они осовременены до такой степени, как у Джойса), а нового мифа пока еще нет ни в общем, ни в частном виде. И все же мы можем предположить, что по меньшей мере первое воплощение такого нового мифа уже очевидно – в произведениях Кафки.
У Джойса все еще можно обнаружить неоромантические тенденции, интерес к сложностям человеческой души, восходящий напрямую к литературе XIX века, к Стендалю, и даже к Ибсену. Ничего подобного нельзя сказать о Кафке. Здесь личная проблема более не существует, а то, что еще кажется личным, в самый момент своего словесного выражения растворяется в надличностной атмосфере. Пророчество мифа внезапно оказывается у нас под рукой. [Брох, введение к эссе Рашель Беспалофф «De l’Iliade» (1943, английский перевод – «On the Iliad», 1947)]
Пророчество. Все у Кафки – об истории, которая еще не свершилась. Его сестре Оттле предстоит умереть в лагерях, вместе со всей его родней. Немецкое слово насекомое( Ungeziefer; «паразит»), примененное Кафкой к Грегору Замзе – то же слово, которым нацисты называли евреев, а истребление насекомых,по замечанию Джорджа Стайнера, стало одним из их постыдных эвфемизмов.
Довольно скоро после Второй Мировой войны стало очевидно, что в «Замке» и «Процессе», и особенно в «В поселении осужденных», Кафка безошибочно описал механику тоталитарного варварства.
ВЕЧНОЕ КОЛЕБАНИЕ
Кафка, говорит Брох, «достиг стадии выбора: либо поэзии под силу дорасти до мифа – либо она банкрот».
Предчувствуя новую космогонию, новую теогонию, которую ему требовалось завершить, борясь со своей любовью к литературе, со своим отвращением к литературе, ощущая крайнюю недостаточность любого художественного подхода, Кафка решил (как и Толстой, стоявший перед похожим решением) покинуть сферу литературы и просить об уничтожении своего творчества; он попросил об этом ради той вселенной, чья новая мифическая концепция была ему дарована.
В «Голубых тетрадях» Кафка написал: «До какого же безразличия могут дойти люди, до какого глубокого убеждения в том, что верный путь утерян навсегда».
И: «Наше спасение – смерть, но не эта».
Проза Кафки – твердая поверхность, сродни полированной стали, без резонанса или точного отражения. Она, как заметил Брох, абстрактна («состоит из насущных элементов и безусловной абстрактности»). Она, как говорили многие критики, – чистый немецкий, тот аскетический немецкий, на котором велись административные дела Австро-Венгерской империи, рациональный, спартанский стиль, не допускающий ни украшений, ни поэтических нот. Его изящество строилось на отрывистой информации и голой утилитарности.
Кристофер Миддлтон говорит (в письме) о «ясном, неизменно пытливом, мягко юмористическом, предельно парадоксальном голосе повествователя, выбранном Кафкой для рассказов “Как строилась китайская стена” и “Певица Жозефина”: последнемголосе Кафки».
Повсюду у Кафки парадокс состоит в том, что эта рациональная проза вычерчивает образы и события, бюрократической администрации навеки чуждые. Комментарий Миддлтона мы встречаем, когда речь заходит о духовном танце языка.
Я читаю об Абрахаме Абулафии, его «мистическом опыте», теориях музыки и символических слов. Был в Смирне замечательный сефардский раввин Ицхак ха-Коэн, позаимствовавший и развивший теорию о мелодии, которую в свою очередь усвоил и взлелеял Абулафия, теорию с явно древними корнями, но прослеживаемую до Византии; мелодия как пересказ – с ее волнообразными подъемами и понижениями – танца души к экстатическому союзу с Богом: чтобы пересказать душу, вели своим музыкантам играть… и мелодия становится вдохом и выдохом, покровом дыхания, что струится и волнуется, покрывалом Руаха (духа). Когда слушаешь недавно воссозданные византийские мелодии, эта теория кажется все более ребяческой, но самые факты, которые она объемлет, становятся все более внятными – даже звучаниенот флейты и струн арфы раскрывает тот головокружительный замысел, то «отпускание», из любой последовательности мгновений в невообразимое пипс starts, [112]112
Остановившееся настоящее (лат.).
[Закрыть]вхождение в «совершенное и полное одновременное обладание безграничной жизнью» (как это выразил дорогой старина Боэций). Как ни странно, это (что значит «это»?) – ключ к голосу повествователя (как я полагаю)… выбранному Кафкой для «Как строилась китайская стена».
Особенно же ясно и просто Кафке требовалось выразить то, что нет ничего ясного и простого. Будучи при смерти, он сказал о цветах в вазе, что они на него похожи: одновременно живые и мертвые. Все демаркационные линии мерцающе размыты. Некоторые мощные группы противоположностей, по Гераклиту, совершенно не взаимодействуют. Они борются. Они опрокидывают равновесие всякой уверенности. Мы можем, сказал Кафка, легко поверить в любую истину и одновременно в ее отрицание.
LUSTRON UND KASTRON
Lebensproblem [113]113
Жизненная проблема (нем.).
[Закрыть]Гракха, как это называют немцы, – в том, что он не может встретиться со своей противоположностью и обратиться (или нет) в Существо или Не-существо, в зависимости от результата.
Противоположности не взаимодействуют; они уничтожают друг друга.
В 1912 году, на нудистском минеральном курорте в Австрии, Кафке приснились две группы нудистов, стоящие друг против друга. Одна группа выкрикивала в адрес другой оскорбление «Люстрон и Кастрон!»
Оскорбление было сочтено столь ужасным, что началась драка. Группы уничтожили друг друга, как Кошка из Ситца и Тиковый Пес [114]114
Герои стихотворения американского юмориста и детского поэта Юджина Филда (1850–1895) «Схватка».
[Закрыть]или как субатомные частицы, обращаемые соударением в небытие.
Кафка заинтересовался сном; он его записал. Он не проанализировал его – по крайней мере, на бумаге. Фрейда он знал досконально. В греческом языке нет таких слов, как lustronи kastron,хотя во сне они и предстали греческими. Если мы заменим их на латинские слова, заимствованные из греческого, то получим castmm(за?мок) и lustrum(духовное искупление в римской религии, совершаемое раз в пять лет). Оба слова – антонимы, заключающие в себе собственные противоположности (как altus,глубокий или высокий). Lustrum,очищение, также означает «грязный»; [115]115
Топь, трясина, лужа (лат.).
[Закрыть]корень создает нам «непорочный» и «кастрат». Lustи chaste [116]116
«Похоть» и «непорочный» (англ.).
[Закрыть]в сопоставлении также порождают игру значений.
На курорте Кафка не без иронии пишет в заметках о двух молчаливых шведских мальчиках, чья прекрасная нагота напомнила ему Кастора и Поллукса, чьи имена, по странности, означают Чистый и Грязный (наши chasteи polluted). [117]117
«Непорочный» и «запачканный» (англ.).
[Закрыть]Эти архетипические близнецы, сыновья Леды, братья Елены, благородные герои, двойники Дамона и Пифия в дружбе, существовали поочередно. Один жил, пока другой был мертв, и этими состояниями бытия они могли меняться. Они представлены в зодиаке Близнецами и часто упоминаются в фольклоре, сливаясь с Иисусом и Иаковом.
Когда Гракх заявляет во фрагменте, что он – святой покровитель моряков, он лжет. Кастор и Поллукс – вот святые покровители моряков, те странные огоньки на мачтах, что сверкают в оснастке, как яркое пламя.
В греческом языке для имени Поллукс есть эвфемизм: Полидевк (Милосердный). Когда греки ощущали потребность умилостивить богов, они избегали настоящего имени (называя, к примеру, мстительниц Эринний Эвменидами). Поллукс был кулачным бойцом в те времена, когда все бои завершались смертью.
Стало быть, грязное и чистое, треф и кошер послужили мотивом для сна Кафки. Оскорбление состояло в том, что одна группа нудистов бьла и тем, и другим. Кафка был нудистом в купальных трусах, не соблюдающим обряды евреем, чехом, писавшим по-немецки, мужчиной, неоднократно обручавшимся, но умершим холостяком. Он мог вообразить «чудное животное, наполовину котенка, наполовину ягненка» (взятое с фотографии его самого в пять лет, где он опирается на чучело ягненка, чья задняя часть замечательно похожа на кошачью). Он мог вообразить «одрадека», чью природу ни один исследователь так пока и не определил.
Мы живем – как, похоже, подразумевает Кафка, – зависнув во всех вопросах между верой и сомнением, знанием и неведением, законом и случаем. Гракх – одновременно доисторический человек, охотник и собиратель, и человек в его самом цивилизованном виде. Он думает, что его судьба обусловлена падением в девственном лесу и тем, что его смертная барка сбилась с курса.
Кафка мог видеть беду человека под различными углами. Мы живем по многим сводам законов, написанных сотни или тысячи лет назад для людей, чьи обстоятельства с нашими не совпадали. Это не исключительно еврейская или мусульманская проблема; Конституция Соединенных Штатов тоже не обошлась без скандалов и проблем. Отсюда – юристы, одним из которых был Кафка. Он ежедневно имел дело с несчастными случаями среди рабочих и их требованиями компенсации. Какова стоимость руки?
Его ум был до-до-сократовским. Его преподаватель физики учился у Эрнста Маха, чей крайний скептицизм по поводу атомов и причинно-следственной связи направил деятельность Эйнштейна в весьма иное русло.
Вальтер Беньямин, первый толкователь Кафки, сказал, что сквозь него из прошлого дует сильный доисторический ветер. В рассказе есть эта картина на стене – Гракху видно ее с его ложа – на ней бушмен «целится в меня копьем, а сам прячется за пышно размалеванный щит». [118]118
Перевод А. Глазовой.
[Закрыть]Бушмен, который еще не упал с обрыва и не сломал шею.
«Mein Kahn ist ohne Steuer,er fahrt mit dem Wind, der in den untersten Regionen des Todes blast».(Челн мой носится без руля по воле ветра, который дует в низших областях смерти.)
Это голос XX века – из печей Бухенвальда, из осыпаемых бомбами траншей Марны, из Хиросимы.
Именно слова развязали сокрушительную битву во сне Кафки, бессмысленные слова, придуманные его грезящим разумом. Они, казалось бы, обозначают противоположные вещи, как чистые, так и нечистые. Однако в них зашифрованы и противоположные значения. Отношение слова к вещи – вечная мука юриста, философа, правителя. Слово еврей(не встречающееся нигде в творчестве Кафки) обозначает не антропологическую расу, но культуру, и все же и Гитлер, и евреи употребляли его так, как если бы оно определяло расу «Охотник Гракх» задается вопросом о значении слова смерть.Если есть загробная жизнь в неком вечном состоянии, тогда оно не означает смерть; оно означает переход, и смерть как слово бессмысленно. Оно уничтожает любое из своих значений, если собрать их воедино.
Язык закона, говорящих собак и приматов, поющих мышей-полевок, людоедов и мостов, умеющих говорить, – все для Кафки имеет свой логос. (Макс Брод рассказывает о беседе Кафки с осликом в Париже.) Слова – тираны посильнее любого Цезаря. Когда они ложь, они бесы.
Стиль Кафки присущей ему чистотой убеждает нас в своей надежности как свидетельства. Именно эта чистота, подобная невинности ребенка или прерогативе ангела, допускает Кафку в метафизические реальности, где риторический или бутафорский стиль потерпели бы фиаско. Попробуйте вообразить «Охотника Гракха» в стиле позднего Толстого или По. Один предался бы морализаторству, другой попытался бы нас напугать. Кафка же говорит: «Вот каково ощущать себя потерянным».
Как заметил Оден, если бы у Кафки трактуется как есть.Применение естьк области кафкианского если бызакончится лишь уничтожением их обоих.
ПЯТЬДЕСЯТ ДЕТЕЙ В ДВА РЯДА
Читая «Охотника Гракха», мы неизбежно вспоминаем все те корабли беженцев, по самые планширы загруженные евреями, пытавшимися избежать отправки в Освенцим в еще более переполненных вагонах для скота, и получающие отказ в одном порту за другим.
Одним из организаторов некоторых этих эвакуаций была Ада Серени, итальянская еврейка-аристократка – корни ее семьи уходят в Рим первого века. В сентябре 1947 года она помогала устраивать тайные перелеты еврейских детей из Италии в Палестину. Двухмоторный самолет, управляемый двумя американцами, должен был приземлиться ночью за окраиной Салерно. Ада Серени и двадцатилетний Мотти Фейн (позже – командующий израильскими ВВС во время Шестидневной Войны) ожидали его вместе с пятьюдесятью детьми, отправляемыми в кибуц. Когда самолет стал приближаться, все пятьдесят были построены в два ряда по двадцать пять детей в каждом, они держали свечи, послужившие посадочными огнями на сицилийском лугу. Операция заняла всего несколько минут и прошла успешно. Дети оказались в апельсиновых рощах на следующее утро. «Аn der Stubentur klopfteer an, gleichzeitig nahmer den Zylinderhut in seine schwarzbehandschuhte Rechte. Gleich wurde geoffnet, wohl ftinfzig kleine Knaben bildeten ein Spalier im langen Flurgang und verbeugten sich».(Он постучал в дверь, одновременно сняв цилиндр затянутой в черную перчатку правой рукой. Ему тут же открыли, пятьдесят мальчуганов выстроились шпалерами в коридоре и по клонились.)
Черные перчатки носили эсэсовцы.
КОРАБЛИ СМЕРТИ
Кафка не расшифровывает. Он не отсылает нас к «Летучему Голландцу» Вагнера, или к мифу о Вечном Жиде, или к фараоновым баркам смерти, для которых в безлюдной пустыне были выстроены гавани, или к кораблям-сокровищницам, в которые клали правителей викингов во всем их убранстве, или к полинезийским смертным лодкам, скользившим от острова к острову, собирая мертвых, или к погребальным каноэ американских индейцев, или к Старому Мореходу Кольриджа, или к любому кораблю – призраку из легенд и сказаний. Есть призрачный охотник в Шварцвальде. Способность Кафки написать «Охотника Гракха» – доказательство того, что имел в виду Брох, назвав Кафку изобретателем новой мифологии.
SIND SIE ТОТ?
В Освенциме было трудно отличить живых от мертвых.
ВОРОН И ЧЕРНЫЙ ДРОЗД
Ум По был круглым, жирным и белым; ум Кафки – кубическим, постным и прозрачным.
РИВА
Когда Макс Брод и Кафка посетили Риву в сентябре 1909 года, это был австрийский городок, где проживало восемь тысяч итальянцев. Он расположен в северо-западной оконечности озера Гарда. «Северная Италия» – путеводитель Бедекера за 1909 год называет его «очаровательным» и сообщает, что «вода обычно лазурно-синяя».
ЭОН
Время у Кафки – время сна, зеноновское и бесконечное. Жених никогда не попадет на свою свадьбу за городом, обвинения против Йозефа К. никогда не станут известны, погребальная барка Охотника Гракха никогда не ляжет на правильный курс.
ЦИРКАДНЫЙ РИТМ
Начало «Охотника Гракха» – картина городской бесконечности. Всегда возможен другой бросок костей. Другая газета печатается, пока читают сегодняшнюю; кувшин с водой наверняка вскоре наполнят вновь; продавец фруктов занят «вечным обменом денег и товаров» (Гераклит о береге, формирующем море, и море, формирующем берег); мужчины в кафе будут там и завтра; спящий хозяин – в одном из циклов своего циркадного ритма. [119]119
Циркадный ритм – «внутренние часы», регулирующие примерно суточный цикл биологических процессов человека, животных и растений.
[Закрыть]Игра, чтение, домашнее хозяйство, дела, отдых: именно этим обыденным мирным вещам противопоставляет Кафка долгую длительность тысячелетних Гракховых скитаний, космическую бесконечность.
ЧТО-ТО ВРОДЕ ПАРАДОКСА
Реальность – самая действенная маска реальности. Наше самое заветное желание, исполнившись, перестает быть нашим самым заветным желанием. Успех – величайшее из разочарований. Дух живее всего, когда он утерян. Тревога была спокойствием Кафки, как отчаяние было счастьем Кьеркегора. Кафка сказал: нетерпение – наша величайшая ошибка. Он, человек у врат Закона, прождал там всю свою жизнь.
ОХОТНИК
Нимрод – библейский архетип, «сильный зверолов перед Господом» (Быт. 10:9), но Таргум, [120]120
Таргум – перевод Ветхого Завета на арамейский язык, местами значительно отступающий от оригинала.
[Закрыть]как было известно Мильтону, [121]121
Джон Мильтон, «Потерянный рай», книга XII.
[Закрыть]содержит предание о том, что он был ловцом как зверей, так и человеков («греховная охота на сынов человеческих»). Кафка был вегетарианцем.
ДВИЖЕНИЕ
Гракх объясняет бургомистру Ривы, что он все время движется, хоть и лежит неподвижно, как труп. По огромной, «бесконечно широкой» лестнице, ведущей в «мир иной», он перемещается вверх и вниз, то левее, то правее, «вечно в движении». Он говорит, что из охотника превратился в бабочку. Есть некие врата (по всей вероятности, рай), к которым он рвется, но стоит ему к ним приблизиться, как он, очнувшись, снова оказывается на похоронных носилках в каюте своего корабля, «застрявшего в каких-то унылых земных водах». Движение – в его сознании (его псише,что по – гречески значит и «бабочка», и «душа»). Эти грезы (или сны) – передразнивание его былого охотничьего проворства. Бабочка – одно из самых радикально метаморфических созданий: ее превращения внешне более разнородны, чем у всех остальных. Гусеница не умирает; она становится совершенно иным существом.
Когда Гракх оступился и упал в Шварцвальде, он рад был умереть; он весело распевал в первую свою ночь на смертном корабле, «…и в саван облекся, как девушка в подвенечный наряд. Потом лег и стал ждать. Тут-то и приключилась беда».
Ошибка, ставшая причиной долгого странствия Гракха, случилась послеего смерти. За каждой загадкой у Кафки скрыта другая.
«Охотника Гракха» можно поместить среди притч Кафки. Мы, живые, уже умерли? Как узнать, сбились мы с курса или нет? Мы говорим об утрате жизней из-за катастроф и войн, словно это мы владеем жизнью, а не она – нами? В том ли дело, что мы никогда не живы вполне, если жизнь – вовлеченность в мир в масштабе наших талантов? Или Кафка подразумевает, что мы можем существовать, но не быть?
Перспективы ради не стоит забывать и Кафку, полного жизни, очаровательного друга и спутника в путешествиях, остроумного и ироничного, его восхищение народным еврейским театром, его обширный круг чтения, скрещения его головокружительных любовных связей. Он бесспорно был «одинок, как Франц Кафка» (замечание, сделанное, несомненно, с лукавой улыбкой).
И какой-нибудь гениальный критик однажды покажет нам, насколько Кафка – писатель комический, насколько чувство смешного, весьма родственное тому, которым обладали Стерн и Беккет, наполняет все его творчество. Подобно Кьеркегору, он увидел, что абсурдность жизни – самый выразительный ключ к ее неуловимой жизнеспособности… Его юмор подтверждает его серьезность. «Только Маймонид может сказать, что Бога нет; ему дозволено».
ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ДЖЕЙМСА ЛАФЛИНА «ЧЕЛОВЕК В СТЕНЕ» (1993)
© ПЕРЕВОД М. НЕМЦОВА
Высокий человек, написавший эти стихи, однажды спускался с горы на лыжах с таким безрассудным проворством, что брюки его лопнули по шву. Одна лыжница, голубоглазая блондинка, обнаружив его бедственное положение и имея при себе иголку с ниткой как раз на такой случай, вызвалась помочь с ремонтом. Так Джеймс Лафлин из питтсбургских Лафлинов, основатель, единственный владелец и редактор издательства «Нью Дайрекшнз» [122]122
"New Directions Publishers" ("Новые направления") – издательство, основанное в 1936 г. Джеймсом Лафлином (1914–1997), в то время студентом-второкурсником Гарварда. Компания стала корпорацией в 1964 г.
[Закрыть]нагнулся прямо на австрийском снегу, а Юлиана, нидерландская принцесса крови, заштопала ему прореху в штанах. Благодеяние воздается: незадолго до этого он сам чинил спустившее колесо Гертруде Стайн и сообщал Джеймсу Джойсу названия всех притоков Аллегейни. Знаменитости оказываются толковее, чем мы о них думаем.
История на этом не закончилась. Лафлин рассказал все это одному из авторов, которых печатал у себя в издательстве, – Эзре Паунду, в то время пытавшемуся реформировать весь мир: для этого всех нас необходимо было обратить в конфуцианство. Под руку попался Джэз (как Паунд его называл) Лафлин – верный путь к обращению голландской королевской семьи. Так экземпляр паундовского перевода «Незыблемой оси» был торопливо надписан и вручен Лафлину для пересылки в Гаагу вместе со словами благодарности за вовремя починенные брюки.
Анекдот симптоматичен. Значительную часть жизни Лафлин провел на побегушках у тех авторов, которых печатал, дипломатически следил за интригами Томаса Мёртона, водил дружбу с Кеннетами Пэтченом и Рексротом, тринадцать лет навещал Паунда в заточении, поддерживал (публикуя их) Теннесси, Джонатана и Уильяма Карлоса Уильямсов. История модернистского движения в американской литературе в большой степени неотторжима от истории издательской корпорации «Нью Дайрекшнз». Единственный читабельный и неизменно интересный поэт, которого до сих пор Джеймс Лафлин не напечатал, – сам Джеймс Лафлин.
В литературной мифологии модернизма в общем и целом подразумевается, что много лет назад казавшийся семифутовым Джеймс Лафлин отправился в Рапалло, где в овощной лавке можно было увидеть Макса Бирбома с авоськой, в кафе – Уильяма Батлера Йейтса и Эзру Паунда, а на молу встретить даже одышливого Форда Мэдокса Форда. Далее миф гласит, что, взглянув на стихи Лафлина, Паунд отправил его учреждать издательство, снабдив попутно начальным списком авторов.
Стихи Лафлина покоятся на традиции: он – классицист. Стихи, которые мог бы написать пышущий здоровьем американский бизнесмен и гиперактивный спортсмен, писали греки и римляне. Не излияния по поводу красот природы, не философические вздохи. А облеченные в придирчиво выбранные формулировки и метрический порядок (чтобы чтецы не меняли местами слова) заметки о мире – политическом и личном, – о прелести и сложности женщин и мальчиков, о напыщенности сенаторов, застольных беседах, лживости политиков, упадке морали по сравнению со старыми добрыми временами.
Как переносить стихи на бумагу, Лафлину показал Уильям Карлос Уильямс. Прежняя ритмическая система, чувствовал Уильямс, более не пригодна для демократического народа. Уитмен писал естественными разговорными фразами, но Уитмен был силой природы, сродни погоде. А случайному ироническому комментатору необходим аккуратный прямоугольник фраз, ровно очерченный на странице, где каждая строка – сама по себе событие. Забудьте о пунктуации: у греков и римлян ее не было, да и Аполлинер без нее обходился. Так мистер Лафлин изобрел свою собственную разновидность стихотворения – одновременно очень старую и очень новую. Форма его достаточно универсальна для любого сюжета: любовных романов, воспоминаний о детстве, путешествий, политики.
Стиль его прозрачен, как вымытое оконное стекло. Его ум (та его часть, что сочиняет стихи) – волшебный чердак, набитый книгами, образами, людьми, голосами.
Мир раньше проводил разграничительную черту между людьми культурными и неграмотными. Эта демаркационная линия, неудержимо нестойкая с начала нынешнего [XX] века (настолько, что преподаватели, не знающие ни слова по-итальянски, преподают Данте общаговским красоткам, взращенным на телевизионных мыльных операх), теперь полностью рассосалась. Со всей своей зоркостью и восхитительным чувством юмора Лафлин, в первую очередь – человек культуры, а сердце, так сильно и горячо бьющееся в его стихах, влюблено во все наследие прошлого.
Прошлое же прошло, умерло, лишилось смысла, если в нем не поддерживать жизнь (оно поддерживает жизнь в нас), продолжая его. Если мы когда-либо окажемся в таком времени, когда вынуждены будем говорить, что раньше существовал тот тип поэзии, который назывался эпиграммой, и его писали веселые греки и римляне, то наше культурное наследие (то есть, разум человеческой расы) в самом деле будет утрачено.
Однако этого пока не случилось. В Джеймсе Лафлине мы имеем весьма ироничного римского поэта и весьма скабрезного – греческого. Что не означает, будто он кого-то имитирует или предлагает гипсовые слепки антиквариата. Он – самый молодой и самый современный поэт из ныне пишущих в Соединенных Штатах. Он – настоящий.