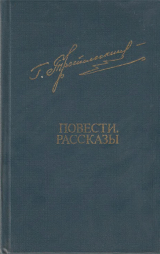
Текст книги "Повести. Рассказы"
Автор книги: Гавриил Троепольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
– На каждом венике вензель выжжен – «Н. Ж. И.». Повыше – «Н. Ж.», а «И.» – чуть ниже. Это значит, – объяснял он, – колхоз «Новая жизнь», а вязал веник Игнат. Таким веником хоть Красную площадь подметай – не стыдно!
Кто ж его знает, этого Игната! Может быть, он и вправду мечтал, что веники попадут в Москву и кто-то будет подметать ими Красную площадь.
Всю зиму увлекался он вениками и наконец стал их делать прямо-таки художественно: вплетал лычки, хитро перевивая на рукоятке, весь веник подбирал по одной стеблинке, а у основания рукоятки приделывал бантик из тонкого белого прутика. Правда, изготовлял он веников вполовину меньше прочих мастеров-колхозников, но лучше никто не вязал.
…К весне ближе, когда пригрело солнышко и набухла речка, когда с бестолковым перекликом полетели гуси да засвистели в сумерках крыльями утки, Игнат заскучал.
Он подолгу прислушивался к скворцу, всплескивал руками и восхищался, когда тот то ворковал голубем, то свистел по-мальчишьи или хохотал по-сорочьи.
– От музыкант так музыкант! – восклицал Игнат. – От скворец – молодец, а ворона – дура!
Иногда часами просиживал около пожарного сарая, встречая и провожая стаи гусей, и тихо говорил:
– Эх вы, гуськи, гуськи! Молодцы гуськи!
Часто заходил, по соседству, ко мне в агрокабинет, сидел молча, читая газету, и никогда не мешал работать, разве только скажет:
– Все пишешь, Акимыч.
– Надо. Требуют, чтобы аккуратно и вовремя все делалось, по плану.
– Летом – днями в поле, зимой – все пишешь… Трудная работа!
– Нет, – говорю, – хорошая, Игнат Прокофьевич, работа.
– Требуют, говоришь? – спросил он, глядя в пол.
– А как же!
– Эх-эх-хе! – вздохнет он. – А с меня никто не требует: вроде так и должно быть.
– Вот подойдет лето, снова будешь хлопотать, добиваться противопожарного порядка: оно и веселее будет.
– Да они теперь, двадцать километров не доезжая, позаряжают огнетушители, а на фермах – привыкли… Чего я буду делать? Нечего Игнату делать! Бочка воды, насос и лошадь: сиди, Игнат, жди пожара! Разве это работа?! – После этих слов махнет безнадежно рукой и выйдет.
Заскучал Игнат и, потренькивая на балалайке, тихонько пел у пожарного сарая:
Эх, летят утки…
Летят утки и два гуся…
Он долго тянул последнюю ноту, потом вдруг резко встряхивал головой, вскрикивал: «Э-эх!», делал паузу и, медленно поникая головой, заунывно продолжал:
Эх, чего жду я… Чего жду я,
Не дожду-у-уся-а-а…
Чего ждал Игнат – неизвестно, но недаром же он переделал куплет на свой лад: «кого люблю» заменил «чего жду я». Пел он тихо, плавно и вдруг давал дробь пальцами по балалайке, высыпал прибаутку:
Бабка сеет вику, дедка – чучавику!
Чучавику с викою, да вику с чучавикою!
– Э, будь ты, Игнат, неладен!
А потом снова:
Летят утки, летят утки…
Перепуталось настроение у Игната, совсем перепуталось! И делать, как видно, он ничего не хотел, даже и ходить стал как-то еще медленнее, нехотя, будто отяжелел.
Дежурство своему подсменному он сдавал перед вечером, около шести часов, уходил на берег речки и подолгу смотрел на воду.
Вот там-то, на реке, и произошел случай, запомнившийся всем в колхозе надолго, случай, о котором часто рассказывают сейчас и будут, может быть, рассказывать внукам.
В ночь тронулся лед, а к утру остановился. На хуторе Веселом этого не знали, и трое ребятишек пришли в школу по льдинам. Учительница, увидев их, перепугалась и домой не отпустила, но Сережке Верхушкину, десятилетнему мальчугану, не то чтобы не хотелось оставаться в селе ночевать, а, наоборот, захотелось во что бы то ни стало перейти еще раз речку. Он и пошел. Дошел до середины реки, а тут где-то захрустело, загремело, вода хлынула к краям. Он побежал к тому берегу, а там разлило по краю так, что впору вплавь бросаться; подумал да бегом назад. Подбегает обратно к селу, а тут еще шире, от льдин до берега – метров двадцать. Не выдержал Сережка, закричал.
Берег в том месте довольно крутой, хотя и не обрывистый, множество тропинок спускается к реке. Люди бежали на крик, собралось уже человек пятнадцать, все кричали с берега:
– Перемычку смотри!
– Сережка-а! Беги влево-о! До перемычки-и!
Влево, метров за двести, действительно образовалась перемычка: в узком месте реки несколько льдин отползло к берегу, и по ним можно бы и пройти, но Сережке внизу не было видно этой самой перемычки, а сверху кричали, махали руками, грохот льда все приближался, лед под ногами вздрагивал, вода бурлила в просветах между льдинами. Мальчик растерялся и уже не кричал, а тихонько плакал, не двигаясь с места. Кто-то пытался добросить ему веревку, но куда там: воды уже больше тридцати метров, а глубина теперь выше человеческого роста! Трое мужчин во главе с Ефимычем тащили лодку. Все сбежали вниз, советовали, кричали; вдруг что-то хрустнуло, огромная льдина на середине реки стала торчком, затем со скрежетом грохнулась о соседнюю, расколола ее, и лед зашевелился.
Все ахнули.
В этот момент и показался на берегу Игнат. Он спокойно смотрел в течение нескольких секунд на все происходящее и бросился стремглав под гору, к реке.
– А ну посторонись, у кого ума нету! – бросил он на бегу, и все расступились, так как он бежал быстро, не похоже на Игната.
– Не дури! – озлился Платонов. – Не видишь – беда!
А Игнат, не слушая, сорвал с себя пиджак, снял сапоги, бултыхнулся в ледяную воду и поплыл к Сережке.
– Ах-х! – выдохнули все разом.
Перемахнул Игнат воду, вцепился руками в край льдины, пробует взобраться, а никак.
– Пропал Игнат! – сказал кто-то с дрожью в голосе.
Но Сережка – откуда и прыть взялась! – подскочил с краю, снял с себя пиджак, взял его за рукав, а другой подбросил Игнату; тот схватился одной рукой за пиджак, а мальчик, напрягаясь изо всех сил, помог, и наконец Игнат выбрался на лед. Он взял Сережку за руку и побежал к перемычке. Лед тихонько пошел… Игнат бежал с Сережкой зигзагами, обегая полыньи, навстречу ходу льдин, бежал, не выпуская руки мальчика, к тому месту, где река уже и льдины шли плотно к берегу. И люди бежали по берегу вровень с Игнатом и что-то кричали, махали руками, шапками. Вдруг рокочущий бас покрыл все крики и шум льда.
– Дава-а-ай сюда-а-а! Игнат! Сюда-а! – кричал Ефимыч, заметивший у берега затор льдин. Это было ближе, чем перемычка, да и цела ли она теперь там, никто не видел – на горе никого не было.
Игнат повернул на зов Ефимыча и две минуты спустя был уже на берегу. В этот момент прибежал и председатель колхоза и многие другие: народу все прибавлялось и прибавлялось.
Кто-то надел на Игната его пиджак, кто-то подал сапоги, принесенные с того места, где разулся Игнат… С горы приволокли тулуп и сразу набросили на героя, а Ефимыч нахлобучил ему свою громадную баранью шапку. Вручили и сухие ватные брюки. Игнат же спокойно, как всегда, сказал:
– Бабочки, повернитесь передом на запад, а задом на восток и перекреститесь в таком положении. А я портчонки сменю на сухие.
На лицах у всех появились улыбки. Кто-то сказал:
– Ну и Игнат!
А он посмотрел на гору как-то печально, вздохнул, взялся за голову рукой, закрыл глаза и повалился. Упасть ему, конечно, не дали, подхватили на руки, захлопотали, заахали:
– Ах! Ах! Сердце зашлось у бедняги!
– Фельдшера надо!
– Понесли на руках! – скомандовал подбежавший Алеша Пшеничкин.
Из двух весел и из пальто моментально соорудили носилки, положили на них Игната в тулупе и понесли на гору: впереди – Пшеничкин и Ефимыч, позади – сам Петр Кузьмич и Платонов. Игнат был человеком негрузным, и вчетвером они быстро вынесли его наверх.
Как только носилки очутились на горе, Игнат открыл глаза и сказал:
– Хватит. По ровному сам дойду, – и встал как ни в чем не бывало.
– Да ты что? – воскликнул Пшеничкин.
Все недоумевали.
– Э-ва! – сказал им Игнат. – Гора-то во какая высоченная! Чего на нее без дела лезть? – и побежал трусцой, а обернувшись к оставшимся и запахнув полы тулупа, добавил: – Я ж застудиться могу, если лежать до самого дома! А то бы лежал…
Нет, они не просто недоумевали, а буквально опешили и ничего не успели ему сказать на это. Наконец Ефимыч бросил оземь весло, плюнул и сказал:
– А черт его знает, что он за человек!
– Да-а! – протянул Петр Кузьмич.
Ефимыч негодовал:
– Лень ему, вишь, на гору вылезть! Несите его! Знает, чучело, что понесут!
– Да-а! – еще раз сказал председатель. – Подшутил он над нами! Уж не загадку ли он снова загадал нам? Бегают, мол, по берегу, как куры на пожаре, а мальчишка – на льду. Нате вам за это, тащите, дураки, на гору!
– А леший его знает, что он там загадал! – все еще сердился Ефимыч и, обернувшись к Алеше Пшеничкину, уже спокойнее попросил: – Там у меня, под верстаком, четвертинка водки. Дойди быстренько, отнеси ему. Вода ледяная – пропасть может Игнатка. Ему водки сейчас – обязательно: и в нутро принять и снаружи протереть надо. Сходи, Лексей Антоныч, а я… к нем^не пойду, – заключил он решительно, попробовал было нахлобучить по привычке шапку, но ее не оказалось. Ефимыч плюнул и добавил: – И за шапкой не пойду!
Я пришел на берег одним из последних. Петр Кузьмич как раз говорил:
– Напрасно, напрасно, Ефимыч! Наоборот, надо тебе сейчас пойти к нему и, пожалуй, даже и выпить с ним по стопочке…
А когда мы втроем пришли к голубой, вновь покрытой хате Игната, то хозяин к тому времени уже успел принять две четвертинки благодарственных приношений и спал как убитый, тихо, без храпа.
– То ничего, – успокоительно сказал Ефимыч. – Через поллитру никакая простуда переступить не может.
ПРОХОР СЕМНАДЦАТЫЙ,
КОРОЛЬ ЖЕСТЯНЩИКОВ
Спрашивается: какое отношение к запискам агронома имеет король, да еще семнадцатый?
Вношу ясность.
Прохор семнадцатый – это и есть тот самый Прохор Палыч Самоваров, который еще до Петра Кузьмича Шурова был председателем колхоза; что же касается королевского титула, то это люди ему прилепили такое – беру только готовое.
Общий вид Прохора Палыча, конечно, резко выделяет его среди всего населения колхоза. С этого и начну.
Комплекция плотная, рост выше среднего, животик изрядно толст, ноги поставлены довольно широко и прочно; голова большая, лоб узковат, но не так уж узок; нос узловатый, широкий и тупой, слегка приплюснутый, с синим отливом; нижняя губа приблизительно в два с половиной раза толще верхней, но не так уж толста, чтобы мешала; две глубокие морщины – просто жировые складки, а не то чтобы следы когтей жизни; глаза на та-’ ком лице надо бы ожидать большими, а они, наоборот, получились маленькие, сидят глубоко, как глазок картофелины, и цвета неопределенного, будто подернуты не та пылью, не то марью. Прохор Палыч не брюнет, не блондин, но, однако, и не полный шатен.
Одевается он с явным подражанием работникам районного масштаба: темная суконная гимнастерка с широким воротом – зимой и летом, широкий кожаный желтый пояс, ярко начищенные хромовые высокие сапоги и широкие синие галифе. Голову на плотной шее Прохор Палыч держит прямо и, проходя, ни на кого не смотрит (если поблизости нет кого-нибудь из работников района).
Вот он какой представительный!
Знакомы мы с ним уже порядочное время, довольна хорошо знаем друг друга, давно я хочу о нем написать, но все-таки каждый раз, как возьмешь перо, думаешь: что о нем писать?
Писать о том, что у него огромный клетчатый носовой платок, в который свободно можно завернуть хорошего петуха и в который он сморкается трубным звуком, так что телята шарахаются во все стороны, – это же неинтересно.
Сказать о нем, что он блудлив, нельзя, так как у него было только три жены: первая после развода вскоре умерла, вторая живет с двумя детьми где-то не то во Владивостоке, не то во Владимире, а с третьей он живет и сейчас (пока еще не регистрировался и, наверно, не думает).
Ну что еще? Сказать, чтобы он не делал ошибок, тоже нельзя. Ошибки он делает и всегда их признает рьяно, признает, даже если этих ошибок нет, а начальство подумало, что ошибки есть. Иной день ему в голову приходит даже такое: «А какую бы мне такую ошибку отмочить, чтобы и взыскания не было и весь район заговорил?» Но для признания своих ошибок он всегда оставляет, так сказать, резервы. Вот он, например, как мы уже заметили, не регистрируется с последней женой – это тоже резерв! А ну-ка да скажет высшее начальство: «разложение» или что-нибудь вроде того? Тогда можно признать свою ошибку и скрепя сердце вернуться к прежней жене; так что в конце концов получается – жена у него одна-единственная, а эта теперешняя – так, ошибка.
Или, скажем, написать, что он много водки пьет, – клевета, оскорбление личности! Ничего подобного! Он никогда больше пол-литра в один присест не выпивает. А разве, спрошу я вас, нет людей, которые выпивают больше? Есть. И здесь Прохор Палыч прав, говоря, что он норму знает. Ну, не без этого, конечно, праздник там большой или свадьба в колхозе случится, тогда выпьет вдвое больше или около того; в таком случае в конце процедуры у него появляется непонятное головокружение, душевные переживания всякие, даже тоска какая-то, и он плачет. Прохор Палыч прав, говоря, что когда он пьян, то становится смирным настолько, что и курицу не обидит.
Еще о чем же? Разве о характере? Можно. Характер у него таков: с одной стороны прямой и твердый, а с другой – мягкий и податливый, как воск. Внутри же ничего не видно; тонкое дело – заглянуть внутрь человека! Может быть, со временем и выяснится, что там, внутри, а пока буду писать о том, что видимо как факт и что подтверждает сам Прохор Палыч.
Например, что значит: «прямой и твердый с одной стороны»? Это значит: если он что-либо надумал, а кто-то из людей ниже его по должности перечит, то Прохор Палыч найдет способ доказать твердость характера и прямоту. Быками не своротишь – найдет! Собственно, прямота проявляется чаще всего под конец собеседования, и он не моргнет глазом сказать возражающему: «К черту! Не выйдет по-твоему!»
Теперь: «с другой стороны – мягкий». Тут надо примером. Допустим, заехал из района в колхоз председатель райисполкома, или заведующий райзо, или кто-либо – упаси боже! – выше, тогда Прохор Палыч, заходя в кладовую, делает следующее: сначала складывает колечком большой и указательный пальцы и произносит мягко, обращаясь к кладовщику: «Ко-ко – двадцать» (яиц, значит, двадцать). Затем покрутит пальцами около лба, завивая рожки, и говорит еще ласковее, со вздохом: «Бе-бе – четыре» (это означает – четыре килограмма баранины). Таким же шифром он передает мед (жужжит), ветчину («хрю-хрю») и наконец щелчком слегка бьет себя по горлу сбоку, подняв шею, и изрекает: «Эх-эх-хе! Маленькие мы люди. Ничего не попишешь: сама жизнь того требует».
В общем, о своем характере он так и говорит: «Я, если залезу на точку зрения и оттуда убеждаюсь, тогда я человек твердый и прямой, как штык; а если руководителя уважить или угостить, то я человек мягкий и податливый: не могу, говорит, покойно видеть начальника, если он не ест и не пьет, аж самому тошно… А тут… – и он легонько постучит кулаком по груди. – Тут! Эх, товарищи, товарищи!» Просто даже интересно становится: а что же все-таки у него внутри? Я не говорю там о кишках, о печенках, о ложечке, под которой у него болит после выпивки, о катаре, который, по словам Прохора Палыча, есть в желудке каждого человека и который, собственно, и урчит-то всегда, – это все вещи известные и местоположение их ясно, – я говорю о характере: снаружи – человек как человек, а вот внутри – загадка.
И тем более, уж если бы он не читал совсем ничего, тогда можно было бы подумать о плесени, о наслоениях прошлого, о пережитках капитализма внутри и тому подобном… Но он же все-таки читает! Ежедневно, каждое утро читает отрывной календарь. Иногда чтение вызывает у него неожиданные эмоции: сидит на кровати, еще не обувшись, оторвет листок календаря, прочитает о восходе, заходе солнца и долготе дня, прочитает о восходе луны, подумает, подумает и скажет: «Эх вы, календарщики, календарщики! Знали бы вы нашу нагрузку! Не тем занимаетесь, товарищи!» Но какие предложения конкретно он вносит, остается неясным. Думаю, что речь идет об изменении долготы дня, а неопределенность замечания в адрес календарщиков объясняется, надо полагать, тем, что у него все-таки возникают сомнения: зависит ли это мероприятие от них? Прохор Палыч, конечно, не дурак!..
Правда, насчет астрономии у него в голове довольно большая туманность, что объясняется очень сильной нагрузкой; по этой же причине и сведения о химии походят на колбу с бесцветным газом: а черт же ее знает, есть там что, в этой колбе, или нет! Может быть, там и действительно ничего нет, а один обман природы! Недаром же Прохор Палыч говорит про всех землеустроителей: «Знаю я этих астрономов! Мошенники!» И об агрономах отзывается презрительным языком: «Ох, уж эти мне химики: то не так, это не так! Вот они мне где! – И постучит ладошкой по загривку. – Спрашивается: за что зарплату получают?
Нет, пусть бы он сел у меня в правлении да писал или диаграммы какие-нибудь чертил, а я бы посмотрел, чем он занимается, а то уйдет в поле на весь день – и до свидания! Химики!»
И тут, конечно, Прохор Палыч прав, когда говорит, что насчет теории ему требуется только вспомнить кое-что, но пока сильно некогда.
Больше того. Он определенно имеет склонность к философскому мышлению. Право, редкому человеку удастся из одного-единственного слова построить длинное предложение с глубокой мыслью, а он может, да еще как может! Как-то вытащили его чуть не за шиворот в кружок заниматься. Там-то он и сказал такое умное, что облетело весь район. Когда у него спросили, как он усвоил материал и что думает по этому вопросу, он сказал: «План – это, товарищи, план. План до тех пор план, пока он план, но как только он перестает быть планом, он уже не план. Да. А наши планы были планы, есть планы и будут планы. Точнее, не может быть плана, если он не план…» Но тут его вежливо перебил руководитель кружка и, вытирая со лба пот, выступивший как-то сразу, сказал: «Мне теперь все ясно. Садитесь!»
Видите! Даже руководителю ясно стало все, так умеет сказать Прохор Палыч.
Нет, Прохор Палыч положительно интересный человек! Во всякий вопрос вносит он свое. Взять, к примеру, оценку своих знакомых. Он разделяет их на четыре группы: на беспартийных, кандидатов партии, членов партии и… кандидатов из партии. При этом он иногда скажет: «Вперед не забегай, сзади не отставай и в середке не толпись!» Но тут-то Прохор Палыч и допустил большую ошибку: не туда причислил себя и думал совсем не так, как оно получилось. Правда, у него всего только три выговора с предупреждением (или четыре? Нет, три; четвертый – это не выговор, а одно только предупреждение в развернутом решении), но чистосердечное раскаяние всегда и у всех вызывало сочувствие. И это сочувствие заливало туманом его светлый разум, не дало возможности разобраться в том, куда везет его кривая. Он даже иногда, бывало, скажет: «О! Наш председатель райисполкома – человек! С этим не пропадешь!» Но… ошибся. Ой, как ошибся! Ошибся потому, что не учел, что и районные работники сменяются.
И уж если нечего писать о Прохоре Палыче, как сказано выше, то я подумал: «А дай-ка напишу насчет этой самой роковой ошибки жизни!»
Однако ясно, что человек приходит к ошибке не сразу, хотя он ее и признает, поэтому и написать коротко, одним скоком, не удастся, тем более мы еще совсем не знаем, что у него там внутри.
План моих записок таков:
А. Какими кривыми путями привела кривая Прохора Палыча до председателя колхоза, и насколько кривы были кривые пути его.
Б. Как он руководил колхозом, и что из того получилось, и получилось ли вообще что-нибудь.
1
Когда-то давно Прохор Палыч работал в мотороремонтной мастерской. Работал хорошо, старательно, заработки были хорошие. За старательность и силу его уважали. Линия жизни у него была прямая, а сам Прохор Палыч был тогда совсем не таким: и нос не такой, и синевы на лице не было, так как норма подпития была совсем другая, не та, что сейчас.
Но случилось однажды так. Вызвали его и говорят: «Работник ты хороший. Пора к руководству привыкать: пойдешь заведующим складом «Утильсырье». Никак не подберем туда кандидатуру». Прохор Палыч возражал, очень сильно возражал, но он многого тогда еще не знал о товарище Недошлепкине. А товарищ Недошлепкин был тогда председателем райисполкома. Если он, Недошлепкин, сказал: «Я думаю»[1], то это все должны понимать: «Так будет»; если он сказал: «Я полагаю», то это значило: «Будет только так»; если же сказал: «Мне кажется», то надо было понимать: «Так должно быть, так и будет». Только много спустя Прохор Палыч приспособился к такой манере руководителя района изъясняться, а тогда еще не понимал ее по неопытности и простоте своей. Товарищ Недошлепкин не дослушал возражений и сказал:
– Я, Недошлепкин, думаю, полагаю, и мне кажется, что ты, Самоваров, пойдешь в «Утильсырье».
Ах, если бы вдумался тогда Прохор Палыч в эти слова! Да где там вдумаешься, когда председатель повторил твердо, с пристуком ладонью по столу:
– Я высказался. Принимай работу!
Не понял тогда Прохор Палыч, что было сказано. Через несколько лет Прохор Палыч с улыбкой вспоминал: «Какой же я был тогда дурак! Не понимал самых простых вещей. Вот что значит неопытность в руководстве!» Понемногу он перенял тон и приемы Недошлепкина, появилась смелость, уверенность в своих силах и так далее, но это много после, а в то время он принял склад «Утильсырье» и приступил к работе.
И пошло!
Трое его подручных были люди опытные, деловые, вороватые. Делали все чисто. Сначала сверх зарплаты Прохор Палыч почему-то получал немного денег, а потом – больше. Поработал год. Вдруг откуда-то, не то из области, не то из центра, следствие: в тюках шерстяного тряпья, в середине, заложены отходы мешков, пакли, кострики, а вместо цветного металла где-то кому-то всучили какой-то черный. Кто туда положил не такое тряпье, Прохор Палыч не знал, но сколько денег он положил себе в карман, он все же знал – всучили-таки, жулики! – и сознавал свою ошибку. И только хотел было изучить утильдело, как его сняли.
И снова он у Недошлепкина. Тот сказал: «Я думаю…». Прохор Палыч понял его уже с одного слова и мигом очутился на складе «Заготзерно». Дело новое, надо подучиться, расспросить, вникнуть в теорию: все-таки хлеб, а не утиль. Но Прохор Палыч был уже куда смелее и в первый же день, по совету Недошлепкина, проверил лабораторию. Походил, походил по ней, посмотрел в зерновую пурку одним глазом, как в микроскоп, потрогал влагомер, надавил пальцем на технические весы (отчего лаборантка даже вскрикнула, испугавшись за их целость) и сказал:
– Работу перестрой!
По личному горькому опыту на утильскладе он знал, что с подчиненными надо строже, иначе влипнешь, что подчиненный – не совсем полноценный человек (убеждения приходили постепенно, но довольно прочно). Кладовщиков он собрал под навесом. Сам сел на ящик, а им велел стоять и сказал:
– Я, Самоваров, много не говорю. Коротко: если замечу, что кто-нибудь насыплет ржи в пшеницу или овса в кукурузу, – прощайся с родными: тюрьма! Мне так кажется.
Помнил Прохор Палыч, как подкузьмили его подчиненные на утильскладе, и предупреждал ошибку. Опыт расширялся и углублялся медленно, но все-таки расширялся.
Проработал он год.
И кто же знает, откуда беде взяться! Недостаток обнаружился в девяносто тонн зерна. Какого зерна – толком сразу и не поймешь, но только недостаток обнаружился. Кто брал зерно, когда брали, куда девали – Прохор Палыч, истинное слово, не знал. Он, правда, знал, что конюх привозил ему откуда-то муку-первач, но ведь не девяносто же тонн! Еще вспомнил, что в какой-то не то ведомости, не то отдельном списке он расписывался в получении денег и что бухгалтер говорил насчет этого списка: «Мы его со временем чик-чик – и нету!» А черт же его знал, как это «чик-чик!» Но только следствие было, кое-кого судили, а Прохора Палыча защитил Недошлепкин. Написал отличную характеристику, напомнил, что Самоваров только начинает руководить, что имеет мало опыта, что жулики его обвели вокруг пальца, – много написал Недошлепкин, много беседовал с прокурором, звонил куда-то, хлопотал, и все сошло.
Но ведь и оставить после этого у руководства нельзя. Сняли. Походил, походил Прохор Палыч вокруг районных организаций и учреждений и пошел к своему покровителю. Приходит. Спрашивает его Недошлепкин:
– Ну как?
– Да так, – ответил Самоваров неопределенно.
– А все-таки?
– Так себе!
– Значит, ничего?
– Да как сказать…
Недошлепкин, как видно, изучал собеседника и мыслил про себя: «Не ошибся ли я в нем?»
– А точнее?
– Обыкновенно! – вздохнул Прохор Палыч, ожидая слов «я думаю» или, что еще лучше, «мне кажется».
– Как так – обыкновенно? – недоумевал председатель.
А Прохор Палыч видит, что тот в недоумении, и осмелел.
– Убил бы!
– Кого? – Недошлепкин привстал в полном испуге, так как был не очень храбр.
– Эх! – замотал головой по-бычьи Прохор Палыч. – Убил бы!
– Кого? – уже шепотом произнес председатель и стал за спинку кресла.
Прохор Палыч молча понурил голову. Начальник продолжал испуганно смотреть на него и не мог, конечно, в таком случае сказать ни «я думаю», ни «я полагаю», ни тем более «мне кажется». Так получилось, что Прохор Палыч ушел в себя, а Недошлепкин, наоборот, вышел из себя.
И третий раз вопросил глава района, еле выдавив из себя:
– Кого?
Прохор Палыч поднял голову, еще раз покрутил ею, ударил себя в грудку (тихонько, слегка!) и наконец с надрывом выкрикнул:
– Себя! Ошибку допустил!
И сразу после этого все вошло в норму: Прохор Палыч вышел из себя, а Недошлепкин ушел в себя – сел в кресло, поднял острый носик вверх, поправил громадные роговые очки и нахмурил брови. Покатая лысина заблестела матово-желтым цветом. Он застучал пальцем по столу, продолжая дальше изучать Самоварова. Глаза у Недошлепкина были настолько узкими, к тому же заплывшими, что создавалось впечатление, будто он ни<> чего не видит даже около своего носа. Но он видел, изучал, задавал наводящие вопросы:
– Ну так как же?
– Да так.
– А все-таки?
– Да как сказать…
– Значит, признаешь?
– Признаю.
– Каешься?
– Каюсь!
– Ну так что же ты скажешь?
Прохор Палыч совсем осмелел и выпалил, жестоко бия себя в грудь:
– Ошибка моя вот тут! – и сделал совсем жалобное лицо.
Недошлепкин расчувствовался – высморкался, плюнул тихонько и так же тихо произнес:
– Вот, черт возьми!
Прохор Палыч тоже высморкался, но трубно, громко.
Конечно, начальник уже был готов произнести чарующие фразы, которые начинаются с буквы «я», но Прохор-то Палыч еще не понимал, что тот готов. Лишь позже он научился догадываться о течении мыслей начальства, но тогда еще много не понимал.
И вот наконец Недошлепкин говорит:
– Что же тебе сказать?
А Прохор Палыч изрекает, уже оправившись от сморкания:
– Я думал, товарищ Недошлепкин, что вы полагаете и вам кажется.
– Да, братец ты мой! – восхищенно воскликнул тот. – Таких проницательных людей я в первый раз встречаю. Вот это – да! Самородок! Кусок народной мысли, как говорит какой-то писатель или историк. Да ты знаешь, какая перед тобой линия открывается? Да ты сам не понимаешь, кем ты можешь быть! – И пошел, и пошел! Хвалил, хвалил, а напоследок напутствовал: —Держись за меня! Со мной кривая вывезет. Помогу, поддержу, научу.
И стал после этой беседы Прохор Палыч торговать керосином в магазине райпотребсоюза. Но не это важно, а важно то, что Прохор Палыч уже понял – точно понял! – что такое признание ошибок, как их признавать, когда признавать и перед кем признавать; важно еще, что после этой беседы он понял себя: кто он есть и кем он может быть, то есть оценил себя так же высоко, как оценил его Недошлепкин. И пошел после этого расти и расти! Вот он уже пробует произносить речи – его поддерживают, выдвигают по рекомендации Недошлепкина. Вот он уже критикует небольших начальников, от которых ему ни жарко, ни холодно, критикует громко, смело, со всей прямотой своего нового характера. Пошел человек в гору!..
На керосине он, правда, прогорел (не то недостачу ре то излишек, но больше года и здесь не работал), однако стал директором райтопа и числился уже в районном активе.
Наконец к переменам должностей и профессий он так привык, что считал это вполне нормальным для актива, считал, что настоящий-то актив и перебрасывается «для укрепления»: укрепил в одном месте – крой на следующее, укрепляй еще; не укрепил – признавай ошибку, плачь, сморкайся и валяй дальше – укрепляй в другом месте! Для вытирания носа он завел большой, темного окраса клетчатый платок, о котором мы уже заметили, что он якобы интереса не представляет. Но это только кажется. Действительно, большой платок неинтересен, когда он есть, а вот когда его нет… Попробуйте с полным чувством признать четырнадцатый раз двенадцатую ошибку без платка. Не получится!
На каких только должностях не был Прохор Палыч! И в Сельхозснабе, и на кирпичном заводе, и в лесничестве, и в Конволосе, и по дорожному делу, и по заготовкам сена и соломы, и по яично-птичным делам, и завхозом в МТС. Накопил громадный опыт. Наконец после двух выговоров с предупреждением в его послужном списке значилось: «Председатель артели жестянщиков». А Прохору Палычу перевалило за сорок пять.
И до этого ему учиться совсем не надо было в связи с частой переменой мест, а тут – каждый поймет – жестянщики: кружки, ведра, половники… Чепуха! Опыт руководства большой – Прохор Палыч принялся смело укреплять отстающую артель. Это было по счету шестнадцатое место за пятнадцать лет руководящей работы в районе. С таким багажом укрепить артель – раз плюнуть!
И он приступил.
2
Первым делом он обнаружил полное отсутствие кабинета для председателя артели и задал вопрос:
– Как же вы могли так работать, товарищи? Это же полный развал! Мне кажется, работу надо перестроить.
Счетовод, маленький щупленький старичок с пушком на лысой голове, осмелился вопросить вежливо:
– А какой же кабинет в такой маленькой комнатке, как наша контора?
Прохор Палыч ответил:
– Я думаю, что так необдуманно думать нельзя. Все было ясно.
В артели было двенадцать человек мастеров разного возраста, тринадцатый – счетовод, четырнадцатый – председатель. Делала артель большей частью кружки, которые иногда протекали. Требовалось укрепить артель, чтобы кружки были полноценными. Задача Прохора Палыча, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы кружки не протекали, но он уже имел размах, умел вникать, он уже думал, полагал, ему казалось.
Целый месяц половина членов артели во главе со счетоводом работала на «стройкабе», а половина – на кружках. (Объясняю новое слово в русском языке – Прохор Палыч их сотворил немало: «стройкаб» – стройка кабинета.) Конечно, кружек сразу стало недостаточно, и домохозяйки начали протестовать: дескать, и так протекают, да еще и недохват. Прохор Палыч, чтобы успокоить всех, вывесил объявление: «Происходит преобразование производства на новые технические рельсы увеличенного плана». Успокоились, стали ждать.








