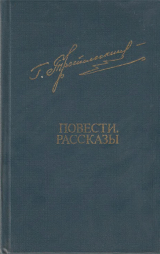
Текст книги "Повести. Рассказы"
Автор книги: Гавриил Троепольский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
– Хорошо! – улыбаясь, сказал Евсеич. Он сдвинул кепку с пуговкой на самый затылок и поднял взгляд к вершинам деревьев. – А ведь какие маленькие были, ну прямо проволочки!
– А я и не помню, как их сажали, – сказал Петя.
Евсеич ласково положил ему руку на плечо.
– Тебе и было всего не то год, не то два. Папашка твой сажал, лесоводом был в колхозе. Понял?
– Знаю, – ответил Петя.
– И ты сажай, Петруша! Сажай больше! Долго люди помнят тех, кто сажает деревья. Кто не любит дерева, тот не любит и человека. Ясно дело.
– А комсомольскую полосу дубков мы-то и посадили.
– Еще больше сажай!
Мы пошли дальше. Петя вдруг остановился.
– Дедушка, смотри – сук надломлен! Зимой снегом отломит.
– А ты приметь дерево, да потом и привяжи сучок к стволу. Он весной и срастется. Буря была недавно, вот и надломился.
– Обязательно привяжу, – сказал Петя.
И я знаю: он хозяин, обязательно привяжет.
Немного прошли молча, а у первой просеки остановились.
– Начнем, – весело сказал Евсеич и стал снимать ружье с плеча.
Найда до сих пор спокойно плелась на сворке за хозяином, а тут начала визжать, рваться, встала передними лапами на грудь Пете, тянулась к лицу, стараясь лизнуть.
– Ну, ну! Целоваться полезла! – шутил Евсеич. Он снял ошейник, ласково похлопал ее по боку. – Не подкачай, Найда!
Черно-красным пятном Найда заюлила по зяби, ныряла в лесополосу, снова показывалась на чистом поле и наконец скрылась в соседней полосе. Евсеич распределил места:
– Ты, Акимыч, оставайся тут! Ты, Петя, давай к дубовой-гнездовой! А я – к яру, в приовражную. Тут, брат ты мой, заяц обязательно этим кругом ходит. Сперва вдоль полосы, потом – в просеку, потом – к дубам, а вдоль них – к яру. Это у них дорога такая. Ясно дело, заяц тоже к лесным полосам приспособился. Теперь и охота в поле иная – и лесная и полевая. Сноровка другая должна быть… А ты, Петя, главно дело – не шевелись, когда он попрет на тебя, замри! Дубки – по пояс, а если мертво будешь стоять, то он выше дубка не увидит, у него глаз глупой…
Петя трусцой, вприпрыжку побежал к дубкам. Евсеич спокойно, не спеша направился к яру, а я, осмотревшись, выбрал местечко и стал за куст так, чтобы можно было стрелять и вдоль полосы и по просеке. Мешала ветка впереди меня. В большом лесу я ее обязательно срезал бы, а здесь нельзя, пусть растет. Справа от меня, за пригорком, видны верхушки лесополосы, посаженной в год начала Великой Отечественной войны; слева, метрах в трехстах, – «Комсомольская», этой всего только семь лет; а дальше по полю видны квадраты лесных полос; они, как дети в многодетной семье, растут лесенкой; каждый год прибавлялось по одной полосе, а набралось уже до сотни гектаров.
От яркого солнца и густой зелени озимых рябило в глазах. Застрекотала сорока, увидев меня; пробежали через просеку хохлатые подорожнички; деловито простучал невдалеке дятел; тихонько захохотала синица, выпрыгнула из чащи, прилепилась к ветке в трех метрах от меня и уставилась черными бусинками в глаза. «И что это делает здесь неподвижный человек?» – казалось, спрашивала она, потом вспорхнула, будто прощаясь, прощебетала: «Чиви! Чиви!» Очень похоже: «Живи! Живи!» «Ну и ты живи!» – подумал я.
Вдруг: «Гав!» Немного погодя еще: «Гав-гав!» И потом ритмично, размеренно: «Гав-ав-ав-ав!» То Найда подняла русака. Только охотник поймет, какая дрожь пробегает по телу при первом лае гончей! Мир сужается до предела: охотник, ружье и, еще невидимые, собака и заяц или лисица. А лай все ближе, все ближе, и дрожь ушла уже внутрь, но руки спокойны и уверенны. И вдруг, как из-под земли, вываливается сам «косой». Он идет прямо на меня «ниткой», смешно закидывая задние ноги вперед, будто на костылях. Выстрел! Заяц перевернулся через голову, высоко подбросив вверх задние лапы… Подвалила Найда, хвостом приветствуя удачный выстрел, полезла целоваться, а через некоторое время снова заюлила, повизгивая, закружилась, засопела и потянула дальше. Вскоре она скрылась из виду и снова погнала голосом, спокойно, ровно, не спеша. В лесных полосах быстроногая собака не годится: из-под нее заяц летит пулей, сбивает с круга и несется как сумасшедший, куда глаза глядят. Но Найду Евсеич приучил так, что она и «взрячую» гонит тихо: «сноровка» другая.
Петя выстрелил дублетом. Собака замолкла, значит, попал. Потом, как из пушки, ахнул Евсеич. По одному зайцу я «расписался» впустую; он проскочил к Пете, тот тоже промахнулся, и только около Евсеича Найда замолчала.
К середине дня все вместе мы убили пять зайцев. Несколько раз перебегали с места на место, перехватывая «круг» сообразно направлению лая Найды, и наконец, порядком умаявшись, устроились закусить.
Евсеич прищурил глаза, почесал висок, сдвинул набок кепку и чуть-чуть шмыгнул носом. Я-то уже знаю, что все это предшествует веселому сочинению.
– Садись, Акимыч, отдыхай! Петька, вон он маячит. Подождем его, а я тебе расскажу заячью историю.
Петя действительно маячил в километре от нас, уже на той стороне яра. Мы уселись на засохший бурьян, Евсеич закурил трубку и начал:
– Зайцев бы-ыло: миллион с тыщами! А один был смелый-пресмелый зайчишка. Так. Хоть и знают косые, что в магазине Союза охотников не бывает к сезону ни пороху, ни дроби, а посылают этого зайчишку в город: все-таки проверь, дескать! Поковылял, значит. Ясно дело, зайцу по городу трудно пройти. Ну, задворками, бульварами пробрался к магазину. Стучит легонько лапкой в окно, машет продавцу: выйди, дескать, на минутку! Выходит: «Что вам, гражданин зайчик?» А тот спрашивает тихонько так: «Порох есть?» – «Нету», – отвечает. «А дробь есть?» – «Нету». – «Тогда передайте, говорит, товарищу Медведкину (председателю Союза охотников), что мы, зайцы, плевать на него хотели». – «Как так плевать?» – «А так: орешками, орешками!» Подпрыгнул зайчишка, оставил пару орешков, да и был таков… Вот они дела-то какие случаются смехотворные!
Евсеич рассказывает без смеха, но глаза его смеются, так и сыплют искорками, так и сыплют! Счастлив человек, у которого к старости сохранятся такие глаза!
Вдали показался Петя. Он вразвалку идет к нам вдоль лесополосы, изредка останавливаясь и посматривая хозяйским глазом на деревья.
Вдруг лицо Евсеича сразу сделалось серьезным, он даже привстал.
– Гляди, Акимыч! Петька бегом к нам побежал… Что за оказия?
Действительно, Петька торопливо бежит, придерживая одной рукой зайца. Вот он уже близко и на бегу кричит:
– Дедушка! Владимир Акимович! Там… там два дерева… срублены… большие!
Мы заспешили за Петей.
– Тут недалеко… И ветки очищены на месте. Большие, – тяжело дыша и чуть не плача, говорил Петя. Картуз сбился у него козырьком на ухо. Прядь волос упала на угол лба.
Два пенька рядом сиротливо белели в середине полосы. Потянул легкий ветерок, слегка зашуршали ветви, будто жалуясь… Мы понуро стояли над пнями. Евсеич то мял кепку в руках, то набрасывал ее на голову, то снова снимал и теребил за пуговку; в волнении руки не давали покоя и клинышку бородки; он пробовал зажечь спичкой трубку, забыв набить табаком, и снова совал ее в карман.
Потом сжал кулак и с озлоблением потряс им в воздухе.
– Сук-кин сын! Подлец! Гришка Хват, больше некому!
– Он, – мрачно подтвердил Петя.
Охотиться уже не хотелось. Найда поплелась за Евсеичем. Я смотрел ему в спину, и мне казалось, что он сгорбился и постарел… Мы шли молча. Некоторое время спустя Евсеич сказал, ни к кому не обращаясь:
– Дня три-четыре как срублены – зарубы обветрило: теперь уже не найдешь… Каналья!
Утром следующего дня Евсеич зашел за мной, и мы направились к председателю колхоза Петру Кузьмичу Шурову. Он сидел в своем кабинете, рассматривая какую-то бумагу, делал пометки то красным, то черным карандашом.
Мы поздоровались.
– Знаю, с чем пришли, – заговорил Шуров. – Петя успел сообщить, уже и заметку в стенгазету потащил. Садитесь, подумаем вместе. – Он положил перед нами ведомость трудодней. – Поинтересуйтесь, а потом о деревьях поговорим.
Против фамилий колхозников – цифры трудодней. Пятьсот и выше – в красном кружочке, это, понятно, передовики. Шестьдесят – в черном колечке, тоже понятно – болтуны и лодыри, но таких только три. Но вот пятьдесят два – в красном, а сто пятьдесят – в черном: это не сразу поймешь, и я вопросительно поднял глаза на Петра Кузьмича, указывая на эти цифры.
– То-то вот и оно, что не сразу понять. А разберись – дело простое. Пятьдесят два – это лучшая колхозница, но она больна, надо помочь ей и направить в санаторий. А сто пятьдесят…
Но я уже вслух прочитал:
– Хватов Григорий Егорович – сто пятьдесят.
– Во! Гришка Хват, – подтвердил Евсеич, подняв палец вверх.
– Минимум выработал: все в порядке, все законно, – продолжал Петр Кузьмич, – работает – шатай-валяй, а живет – сыр в масле. Все понятно, но… с какой стороны его взять? Вот вопрос.
Он задумался. Взгляд его направлен на чернильницу, но, казалось, он видит перед собой Хватова и мысленно всматривается в него, прощупывает.
Евсеич покачал головой.
– Во всяком чину – по сукину сыну. Ясно дело.
Петр Кузьмич оживился, пристукнул ладонью о край стола и решительно встал. Видно было, что его осенила новая мысль, и он ее высказал:
– Брать его надо всего целиком… Выдернуть его и показать всем, а сначала сам пусть на себя посмотрит. И домой к нему надо сходить, посмотреть, раскусить хорошенько. Говорят, мой предшественник – бывший председатель колхоза Прохор Палыч Самоваров – только у Хватова и угощал начальников разных и сам там угощался.
– Там, там, Кузьмич, только там, – подтвердил Евсеич, – туда и баранинку, туда и яички, все туда, а самогонку-то Гришка и сам мастер гнать.
– Сходим, Владимир Акимыч? – обратился ко мне Петр Кузьмич.
– Пошли хоть сейчас!
– Вы там в сарай загляните, в сарай! – напутствовал нас Евсеич. – Да кусок хлеба возьмите! Кобель у него как тигра.
Краюшку хлеба председатель и в самом деле сунул в карман, зайдя в кладовую.
Вскоре мы подходили к усадьбе Хватова. Аккуратная, чисто выбеленная, с новыми наличниками на окнах, по-хозяйски крытая камышом «под гребенку», хата стояла на отшибе, небольшой ярок отделял ее от улицы, будто она откололась от села. Двор огорожен высоким почти новым плетнем, на котором сверху в одну нитку протянута колючая проволока. Ворота забраны тонкими досками с клеймами железной дороги: видно, какие-то ящики употреблены на это дело. И ни одного дерева, ни одного цветка, не говоря уже о клумбе.
Калитка оказалась запертой изнутри, и мы постучали щеколдой. Залаяла собака, захлебываясь и надрываясь, кто-то цыкнул на нее во дворе, потом загремел засов, и калитка открылась. Перед нами стоял Хватов – Гришка Хват. Он, казалось, был в некотором недоумении и молчал, переводя взгляд с одного из нас на другого.
Небольшого роста, широкоплечий, кряжистый, с крепко расставленными короткими ногами, в клетчатой ковбойке, из-под которой торчала нижняя рубаха; краснорожий, рыжие волосы коротко острижены «под бокс» – по-модному; глаза большие, равнодушные; жирные губы выгнулись полумесяцем; кончик большого и мясистого носа приподнят кверху задиристо и вызывающе. Ему не более сорока лет.
– Милости просим! – наконец проговорил он, пропуская нас вперед.
От калитки к крыльцу, выходящему во двор, пройти можно, но в середину двора нельзя: огромный пес, такой же рыжий, как и сам хозяин, оскалив пасть, бегал вдоль протянутой поперек двора проволоки, на которой каталось взад-вперед рыскало цепи.
– Уйми ты его, Хватов! – попросил Петр Кузьмич.
– Заходите в хату! – сказал хозяин так же равнодушно.
– В хату потом, – возразил Петр Кузьмич. – Зашли посмотреть, как живет богатый колхозник, а у тебя… «тигра». Плохо гостей принимаешь.
Гришка понял это по-своему.
– Литровочка есть, и закус найдем.
– Это тоже потом. – С этими словами Петр Кузьмич решительно подошел к собаке совсем близко, но так, что она не могла его достать с цепи, остановился и молча посмотрел на нее в упор, засунув руки в карманы пиджака. И удивительное дело – пес уже не рвался с цепи, не надрывался, он лаял как бы по обязанности. Когда же Петр Кузьмич бросил краюшку хлеба, он мирно поплелся в конуру, недоверчиво оглядываясь на хозяина и погромыхивая колечком рыскала.
Во дворе стало тихо. Хватов, заложив руки за спину, смотрел на председателя без какого-либо выражения гостеприимства и проговорил с ноткой недовольства:
– В укрощатели годитесь, товарищ председатель.
– Ну, как живешь, Хватов? – спросил Петр Кузьмич, будто не обратив внимания на его слова, и уселся на грядушки ручной тележки.
– Да как… Ничего живем, налог уплатил, с займом рассчитался, минимум выработал. Закон есть закон. Все по уставу.
– Все правильно, – подтвердил Петр Кузьмич не без иронии.
Хватов стоял сбоку, опершись ногой о тележку, гря-душки которой были новыми и совсем еще сырыми, а колеса – с конных плугов.
– Новые наделки, – заметил я.
Хозяин будто не слышал моих слов, а Петр Кузьмич прищурился и в упор спросил, постукивая пальцем о тележку:
– Ясеньки-то в лесной полосе срубил? Смотри – свежий ясенек, как с корня.
У Хватова не было заметно ни тени страха, ни тени волнения. Он почему-то обратился ко мне:
– А вы видали, как я рубил? Купил на базаре.
– А колеса с плужков? – спросил Петр Кузьмич.
– Видать, с плужков, – ответил Хватов с притворным вздохом.
– Когда снял?
– Купил за двадцать восемь рублей и пятьдесят копеек.
– Где?
– На базаре.
– У кого?
– У чужого дядьки, – мирно ответил Хватов и вдруг перешел в наступление: – Евсеича слушаете! Клеветой руководиться негоже, не по-советски! Сто шестьдесят первая статья на это имеется, можем написать – люди грамотные и ходы знаем, куда подать и к кому обратиться.
Петр Кузьмич пристально смотрел на него не отрываясь, сжав зубы. Краска бросилась ему в лицо, но он тряхнул головой, сдерживая себя, закурил папиросу и уже спокойно сказал совершенно неожиданно и, казалось, не к месту:
– Во время войны где был?
– Служил.
– Где?
– А что? – не изменяя позы и наглого выражения лица, спросил Гришка Хват. – Следствие, что ли, хотите наводить?
– Ну вот ты уже и обиделся! – возразил Петр Кузьмич. – С тобой по-хорошему, а ты…
– Что я?
– Значит, не был на фронте? Ну тогда – где работал в тылу? Тыл – это тоже очень важно. И в тылу много героев. Что делал?
– Служил.
– Где?
Гришка не выдержал словесной перестрелки и сдался:
– В милиции.
– Кем?
– Конюхом.
– Ну так бы и говорил! Хорошая должность – конюх, и у нас в колхозе почетная. Вот теперь и понятно.
– Что понятно?
Петр Кузьмич не ответил на его вопрос, а спросил сам:
– А знаешь, что у Евсеича два сына погибли на фронте?
Гришка молчал. Петр Кузьмич барабанил по грядушке пальцем и потихоньку насвистывал, выжидая. Будто ненароком я прошелся по двору взад-вперед. Квохтали куры, в хлеву похрюкивали свиньи; в углу, между сараем и плетнем, – штабель толстых дубовых дров, хватит года на два; старые колеса от тарантаса, рама от старой конной сеялки, две доски с брички и деревянная ось свалены за сараем в кучу. Запасливый хозяин тащил все, что плохо лежит и за что никто не может привлечь к ответственности. На стене сарая висел большой моток толстой проволоки, две старые покрышки от автомашины и перерезанный гуж от хомута; штабель кизяков – такой огромный, что на две хаты хватит топить полную зиму.
– А навоз для кизяков тоже купил на базаре? – спросил я.
Гришка не удостоил меня ответом, а Петр Кузьмич ответил за него:
– Зимой на поле вывозил: воз – на поле, а воз – домой. Рассказывают, так было. Этак гектарчика на два удобрений и хапанул. Правда, Хватов?
Но тот не ответил.
– Вы по какому делу пришли?
– Да вот ходим с агрономом, знакомимся, как наши колхозники живут, – невозмутимо сказал председатель.
– С обыском, что ли?
– Ой, какой ты, Хватов, законник!
– Законы знаем.
И вдруг неожиданный вопрос Петра Кузьмича:
– Корма корове хватит?
– Занимать не будем.
– А продавать будем?
– Там видно будет.
– Ты же на сенокосе не был, процентов не заработал, как же это получается?
– Покупается, – тоном превосходства ответил Хватов.
Петр Кузьмич решительно встал и открыл дверь сарая. Гришка не выдержал и заскочил вперед. Лицо его стало озлобленным, но говорил он спокойно:
– Отойди, товарищ председатель! Добром говорю! За самовольный обыск тоже статья имеется…
– Да ты никак испугался, Григорий Егорович? – засмеялся Петр Кузьмич. – А мы в сарай не пойдем. Разве можно не по закону? Посмотрю, хватит ли корма. Должны же мы заботиться и о скоте колхозников? Ясно?
– Может, и ясно, – приостановился Гришка, поняв, что не выдержал своей линии.
– А ты не бойся, – продолжал Петр Кузьмич. – Если купил, то все законно и никакой статьи не потребуется. Купил, говоришь?
– Купил.
– Почем же люцерновое сено?
– Двести рублей воз, – не моргнув глазом, ответил хозяин.
– Прошлогоднее?
– Должно быть.
– У кого?
– У чужого мужика. Базар велик.
Я вспомнил, что прошлым летом на семенниках люцерны во время цветения появлялись в середине массива выкошенные пятна, и подумал: «Вот они и пятна».
На крыльцо вышла жена хозяина и поздоровалась так, что слово «здравствуйте» прозвучало как «уходите». Одета она по-городскому. Ни широкой, просторной, с каймой юбки, ни яркой кофточки с пухленькими и такими симпатичными «фонариками» на рукавах, ни плотно уложенных на макушке волос – ничего этого не было. Короткая, до колен, юбка обтягивала зад, похожий на огромный футбольный мяч; толстые, как гигантские кегли, икры – в тонких чулках; тесная кофточка, в которой с трудом умещалась грудь; громадная брошь в виде плюшки с начинкой посредине: вот какая, дескать, культурная! А лицо! Какое лицо! Жирный подбородок, пухлые щеки с двумя круглыми пятнами румян, маленький нос с полуоткрытыми ноздрями приподнят кверху, белобрысая, а брови намалеваны черные, как осенняя ночь. И рыжий «бокс» на голове мужа, и его клетчатая ковбойка с торчащей из-под нее грязной нижней рубахой – все это как нельзя более подходило к облику его супруги.
– Чего ж в хату не зовешь начальников?
Оттого ли, что она заметила мой пристальный взгляд, оттого ли, что Петр Кузьмич на ее «здравствуйте-уходи-те» ответил вежливым приветствием, или, подслушав наш разговор, она поняла, что обострять дело не следует и надо нас отвлечь от люцерны, – не знаю почему, но голос ее стал немного приветливее.
– Чего ж не зовешь? – повторила она. – Небось в хате и поговорить лучше. Заходите!
Мы обменялись с Петром Кузьмичом взглядами и взошли на крыльцо.
Я совсем не ожидал, что жена Хватова будет знакомиться с нами, так сказать, официально, но она подала прямо вытянутую ладонь, как толстую длинную вчерашнюю оладью, и произнесла мужским тенором:
– Матильда Сидоровна.
Настоящее ее человеческое имя – Матрена, но сказано ясно – «Матильда». Петр Кузьмич сначала не удержался от улыбки, а потом все-таки прыснул и зажал рот платком, как бы утирая губы. «Ошибочный жест, Кузьмич! Ой, ошибочный!» – подумал я. И правильно подумал: Матильда поняла так, что, утирая губы, председатель просит выпить. Молча, одними взглядами, которые, впрочем, не так уж трудно заметить со стороны, они с мужем согласовали этот вопрос, и Хватов распорядился:
– Собери закусить!
Матильда вышла в сени, а муж «на минутку» выскочил за ней.
– Ну? – спросил я тихонько, когда мы остались вдвоем.
– Подождем, что дальше будет, – шепнул председатель. – Не бойся! По стопам Прохора Палыча в бутылку не загляну. У меня – план.
Возвратился Гришка совсем другой, щеки его вздулись двумя просвирками: он улыбался. Но глаза так и остались мутными и равнодушными, глаза не улыбались. Матильда внесла колечко колбасы и тарелку огурцов и… тоже улыбалась. Ах, как она улыбалась! Накрашенные половинки губ узкими полосами окаймляли рот, а ненакрашенные вылупились из середины. Тяжело ступая и сотрясая телеса, она засуетилась:
– Заведи пока патефон, Григорий Егорович. Выбери какую покультурней!
Хозяин завозился с патефоном, меняя иголку, а мы осмотрели комнату. Тут и громадный плакат-реклама с гигантским куском мыла «Тэжэ» и надписью: «Это мыло высоко ценится, это мыло прекрасно пенится»; и еще противопожарный плакат «Не позволяйте детям играть с огнем»; большие портреты обоих супругов, увеличенные с пятиминуток и разретушированные проходящим фотографом до полной неузнаваемости; ленты из цветной бумаги на стенах, на окнах – и широкие и узкие – ленты, ленты, ленты, как на карусели.
Захрипел патефон, будто на плите убежало молоко, а затем мы услышали пластинку двадцатилетней давности – романс в исполнении Леонида Утесова:
Лу-уч луны-ны упал на ваш портре-е-ет,
Ми-илый друг-уг давно забытых ле-е-ет,
И во-о мгле… гле, гле, гле, гле, гле, гле, гле…
Игла запала в одной строке пластинки, и патефон хрипел: гле, гле, гле, гле, гле… Это была самая высокая нота в романсе, казалось, что исполнителю очень трудно повторять ее.
Матильда стукнула по мембране деревянной ложкой, и игла проскочила дальше. Оттого, что пластинка была очень старой, голос Утесова стал совсем хриплым, натужным, как при ангине. Гришка Хват упер руку в бок, закинул, стоя, ногу за ногу и серьезно, как в церкви, смотрел в потолок, как бы вслушиваясь в звуки патефона.
Патефон отхрипел. На столе – колбаса, огурцы и крупные ломти пшеничного хлеба, такие крупные, что надо открыть рот во всю ширину, чтобы ухитриться откусить. Хозяин нагнулся, достал из-под кровати литровую посудину, заткнутую кукурузным початком, поставил на стол и сел сам с нами, пододвинув к себе стакан. По всем неписаным правилам таких хватов процедура выпивки с начальством совершается медленно, не спеша.
Петр Кузьмич взял бутылку и, понюхав горлышко, сказал:
– Самогон. Купил?
– Ну, да эти дела, как бы сказать, не покупаются, – ответил хозяин почти радушно.
– Своего, значит, изделия?
Гришка кивнул головой в знак согласия.
– Крепкий? – спросил председатель.
– Хорош! – улыбнулся деревянной улыбкой Хватов.
– С выпивкой – потом. Сейчас давай, Григорий Егорович, договорим о деле и… поставим точку. – Петр Кузьмич поставил точку ручкой вилки на столе.
– Дак мы ж еще ни о каком деле не говорили, – возразил хозяин.
– И стоит вам о пустяках разговаривать! – вмешалась Матильда. – Мы вечные труженики, а на него всякую мараль наводят. Пустяк какой-нибудь – в бутылку рассыпанной пшеницы подберешь на дороге, а шуму на весь район. Да что это такое за мараль на нас такая! И всем колхозом, всем колхозом донимают! При старом председателе, при Прохор Палыче, еще туда-сюда, а вас обвели всякие подхалимы, наклеветали на нас, и получается один гольный прынцып друг на дружку. – Она входила в азарт и зачастила совсем без передыху: – Мы только одни тут и культурные, а то все темнота. Машка, кладовщица, со старым председателем путалась. Федорка за второго мужа вышла, Аниська сама сумасшедшая и дочь сумасшедшая, Акулька Культяпкина молоко с фермы таскает, а на нас – мараль да прынцып, мараль да прынцып.
И пошла, и пошла!
– Я ему сколько раз говорила, – указала она на мужа, – сколько раз говорила: законы знаешь? Чего ты пугаешь статьями зря, без толку? Напиши в суд! В милиции у тебя знакомые есть: чего терпишь? Чего ты терпишь?
Наконец Петр Кузьмич не выдержал и перебил ее:
– Послушайте, хозяйка! Дайте нам о деле поговорить!
Она в недоумении посмотрела на него и обидчиво продолжала, поправив плюшку-брошь и не сбавляя прыти:
– Вот вы все такие, все так: «Женщине – свободу, женщине – свободу», а как женщина в дело, так вы слова не даете сказать. Извиняюсь! Женщина может сказать что захочет и где захочет. Что? Только одной Федорке и говорить везде можно? Скажи, пожалуйста! – развела она руками. – Член правления, актив!
– Нельзя же только одной вам и говорить, – не стерпел я. – Вот вы высказались, а теперь наша очередь: так и будем по порядку – по-культурному.
Последнее слово, кажется, ее убедило. Скрестив руки, она прислонилась к припечку и замолчала.
– Итак, о деле, Григорий Егорович, – заторопился Петр Кузьмич, – о деле…
– О каком таком деле? – недоверчиво спросил Гришка.
И тут председатель словно из ушата холодной водой окатил:
– Вот о каком: первое – люцерну привези в колхоз^ ный двор!
Гришка встал.
– Ай! – взвизгнула Матильда.
– Цыц! – обернулся к ней муж и задал вопрос Петру Кузьмичу: – Еще что?
– Колеса с плужков и грядушки с тележки принеси в мастерскую, – спокойно продолжал тот.
– Еще что? – с озлоблением прохрипел Хватов.
Петр Кузьмич взял обеими руками литровку:
– А вот это возьмем с собой. Придется ответить!
Прошло несколько минут в молчании. Гришка вышел из-за стола, давая понять, что выпивки не будет. Лицо его приняло прежнее, внешне спокойное выражение, – он удивительно умел влезать в личину, как улитка, – и только чуть-чуть вздрагивала бровь.
– Ну так как же? – спросил с усмешкой Петр Кузьмич.
– Ничего такого не будет: не повезу. А бутылку возьмете – грабеж… Вас угощают, а вы… Эх, вы! – Он махнул рукой и прислонился спиной к рекламе «Тэжэ». – Люцерну – не докажете, тележку – не докажете, не пой^> манный – не вор. Купил – и все! Докажите!
– Хорошо, – вмешался я. – Люцерну докажем очень просто. Только в одном нашем колхозе желтая люцерна «Степная», а в районе вокруг нас нет ни одного гектара этого нового сорта. Как агроном могу составить акт.
Гришка вздрогнул. Да, вздрогнул, я не ошибся! Будто невидимой стрелой пронзило его лицо, оно передернулось, и тень страха пробежала во взгляде.
– Понятно? – спросил Петр Кузьмич и, не дожидаясь ответа, добавил: – А колесико с плуга, одно колесико, номерок имеет, а номерок тот сходится с корпусом. Видишь, оно какое дело, Григорий Егорович!
Я понимал, что никаких номерков на колесах плуга нет, а Петр Кузьмич знал, что такой же сорт люцерны есть и в райсемхозе, и в совхозе, и в ряде других колхозов, но, разгадав план председателя, я помогал ему – он прощупывал Гришку, исследовал по косточкам, изучал. Тот стоял у стены, опустив голову, не пытаясь возражать, и смотрел на носки своих сапог, будто они очень и очень для него интересны. Матильда в удивлении и испуге прислонилась задом к рогачам.
А Петр Кузьмич уже добавил:
– Да ты пойми, Хватов! За самогонку – не меньше года, хоть и без цели сбыта, за люцерну – тоже… А? Жалко мне тебя, Григорий Егорович! Ей-право, жалко, а то не пришел бы.
В последних словах я уловил нотки искренности и теплоты и никак не мог поверить, что слова эти обращены к Хватову – к Гришке Хвату. До сих пор Петр Кузьмич изучал, какое действие оказывает прямота руководителя, знание законов, каков Хватов в страхе и как докопаться до страха, а последними словами он докапывался уже до самого человека – до Григория Егоровича Хватова. А тот поднял глаза на председателя – уголок губ дергался, глаза часто моргали, брови поднялись, чувство растерянности овладело им, и он уже не мог этого скрыть, он стоял перед нами уже без скорлупы, с голой, обнаженной душой.
Петр Кузьмич методично оттирал все остатки его личины.
– Привык ты, Григорий Егорович, не тем заниматься, чем следует, а остановить было некому… Оторвался от народа, ушел в сторону и стал единоличником внутри колхоза… Может быть, хочешь остаться единоличником по-настоящему? Так мы можем это сделать, и есть к тому все основания. Как, а?
И Хватов хрипло проговорил, уже беспомощно и жалобно:
– Исключить, значит… Ну… убивайте! – и, неуверенно сделав несколько шагов, сел на лавку.
Это оказалось самым страшным для него словом, и он сам произнес, рубанул самого себя наотмашь, обмяк, согнулся и уже больше ни разу не взглянул на нас прямо. Ни разу!
– Позора боишься? – спросил Петр Кузьмич. – Не надо до этого допускать.
– Вы… меня теперь все равно… – Хватов не договорил и махнул безнадежно рукой.
Петр Кузьмич подошел к нему, сел рядом, закурил и, пуская дымок вверх, примирительно сказал:
– Ну хватит нам ругаться… Пиши заявление!
– Куда? – спросил Хватов не глядя.
– В правление, куда же больше.
– Тюрьму, что ли, себе написать? – угрюмо бросил Хватов, не оставляя своего метода – отбиваться вопросами.
– Зачем в тюрьму? Колхозную честь соблюсти. Напиши, что просишь принять излишки сена… Ну и… – Председатель немного подумал. – Ну и напиши, что хочешь в кузницу молотобойцем. По ремонту инвентаря будешь работать: руки у тебя золотые, силенка есть… А плужки на твоей совести останутся.
– Через все село везти сено! У всех на глазах! – неожиданно закричал Хватов. – Не повезу!
– Тогда… обижайся сам на себя. Я сказал все. – И Петр Кузьмич встал, будто собираясь уходить. – Значит, не напишешь? – Он заткнул литровку тем же кукурузным початком и поставил ее на окно.
В хате наступила тишина. Лениво жужжала на стекле запоздалая осенняя муха. Тикали ходики. Шумно вздохнула Матильда и приложила к глазам фартук. Кукарекнул во дворе петух… Колбаса, огурцы и хлеб лежали нетронутыми.
Хватов произнес неуверенно:
– Подумаю.
– Ну подумай! Хорошенько подумай, Григорий Егорович! Мы к тебе с добром приходили… Хорошенько подумай! – повторил Петр Кузьмич и обратился к хозяйке с нарочито подчеркнутой вежливостью: – До свидания, Матильда Сидоровна!
Попрощался и я. Мы вышли. Рыжий пес попробовал залаять, но сразу раздумал, вильнул хвостом в сторону, опустил его снова и поплелся в конуру.
…Через несколько дней председатель зачитал на заседании правления в «разных» заявление:
«Председателю колхоза тов. Шурову П. К.
от рядового колхозника Хватова Г. Е.
Заявление
Как я имею излишний корм и как в колхозе от засухи кормов внатяг имеется, то прошу принять с одной стороны от меня лишок сена. Точка, желаю жить в общем и целом а также прошу назначить меня молотобойцем в кузницу как я имею понятие по ремонту и тому подобно.
Прошу тов. председатель попросить правление в просьбе моей не отказать а работать буду по всей форме и так далее.
К сему роспись поставил: Хватов».
Все присутствующие знали, что это за сено и как оно попало в колхоз, и все глядели на Хватова с презрением, смешанным с сожалением. Он же что-то рассматривал то на потолке, то на кончике сапога и избегал смотреть прямо на сидящих.
Никаких возражений заявление не встретило: Петр Кузьмич заранее договорился с членами правления. Ни-кишки Болтушка здесь не было, и просьбу «удовлетворили» без прений. Только Евсеич напоследок сказал:
– Ясно дело, Гришка! Должон понять, ультиматум тебе поставили. Только думаю – хитришь ты. А?
Хватов ничего не ответил и не возразил. Он переминался с ноги на ногу и мял в руках фуражку.
…Как-то там теперь Матильда Сидоровна?
ИГНАТ С БАЛАЛАЙКОЙ
В один из предуборочных дней я работал на апробации посевов пшеницы: набирал снопы для определения сортовой чистоты, учета болезней и вредителей; сделаешь шагов тридцать – сорок, путаясь в густых хлебах, заберешь в горсть пучок стеблей, выдернешь их с корнем – и дальше, а через такой же промежуток – еще пучок. И так до тех пор, пока не составишь средний образец с участка, апробационный сноп, в котором после, уже в агрокабинете, анализируется каждый колосок.








