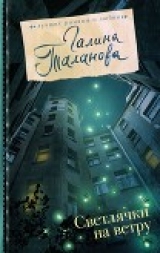
Текст книги "Светлячки на ветру"
Автор книги: Галина Таланова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
34
Было что-то такое совсем неожиданное для нее в Глебе. Он частенько мог сказать, что у нее руки вставлены не тем концом, причем говорил это нарочито, при людях. Ей было обидно и смешно одновременно. Она умела очень многое для своего возраста: она могла не только готовить, но очень хорошо шила и вязала. Она никогда не осмелилась бы сказать родителям: «Я хочу вот такое платье». Она просто распарывала, раскраивала бабушкины и мамины старые вещи и шила из них новую одежду, забавно комбинируя гладкие и цветные ткани, из двух старых платьев получалась одно новое: ее маме просто не хватало роста, чтобы дочь могла из одного ее наряда сшить новое платье для себя. Даже все школьные коричневые платьица были перешиты в красивые и модные сарафаны с цветными строчками.
После смерти папы Вика обнаружила полную неспособность Глеба к мужским делам: он был теоретик. Поэтому она потихоньку стала осваивать слесарно-столярно-электрические работы. Перебирала выключатели, меняла перегоревшие и оплавившиеся патроны, вешала люстры и бра, чинила настольные лампы, аккуратно спаивая проводки и заматывая их изолентой, ковыряла штукатурку и вставляла туда новые розетки. Отбивала цементную пробку на канализационной трубе и прутом чистила засор. У нее не было хорошего настоящего прута сантехника, поэтому она связывала проволокой дюралевые уголки и стальные пруты, оставшиеся от каркаса пластикового шкафа, который собирал когда-то в ее детстве отец. Один раз проволока между элементами такой конструкции перетерлась – и уголок остался в канализационной трубе. Вытащат его много лет спустя, когда будут менять трубы, а тогда она никому ничего не сказала. Глеб просто устранился от бытовых дел. Сначала изредка топтался около нее и мешал советами, даже попробовал один раз чинить розетку, но шурупчики из нее падали со звяком на пол, закатывались под шкаф и диван, Вике приходилось лезть в кладовку и рыться в папиных запасах, чтобы найти подходящий. Она не выдержала, отодвинула его рукой от стены и стала все делать сама. Она никак не могла понять, как это может сын матери-одиночки, амбициозный и изо всех сил карабкающийся вверх, быть таким беспомощным.
Еще он все время мерз. Закрывал все форточки, а она задыхалась от духоты. Говорила:
– Ну неужели нельзя одеться? Я же кожу свою не сниму.
Напяливал три свитера, съеживался от холода так, что становился сутулым и похожим на старичка. Она всегда рада была устроить сквозняк. Глеб же мгновенно выходил из равновесия, только почувствовав легкое дуновение ветерка. Вике иногда казалось, что она задыхается от присутствия Глеба, что это из-за него ей не хватает воздуха. Форточку открыли, форточку закрыли… Глупая детская игра, кто перетянет веревку на свою сторону… Только перетянувший иногда падал, почувствовав пустоту на том конце, который только что тянул в другую сторону… Без воздуха ей было физически плохо: могли начаться спазмы головных сосудов. Муж этого видеть не хотел – и они продолжали перетягивать канат.
В очередные выходные пара сотрудников пригласила их к себе на дачу на шашлыки. Время тогда провели прекрасно: загорали, купались в озере, где вода была настолько прозрачной, что было видно, как зеленые водоросли с налипшими на них пузырьками воздуха колышутся от течения воды. На безмятежную поверхность озера высовывали свои желтые головы не только кувшинки, которые казались Вике в лучах красного, западающего за горизонт огненного шара, головками змей, но и настоящие белые лилии, покачивающиеся среди листьев в форме сердца, прилипших к глади воды. Лилии гляделись Вике каким-то совершенно экзотическим цветком типа лотоса, распространяющим нежный чарующий запах, висевший над озером, будто сгустившийся туман. Вика сидела на берегу и смотрела, как серые невзрачные мальки запутываются в дебрях водорослей и, точно слепые котята, тычущиеся в материнский живот, наталкиваются на сочные зеленые стебли, устремляющиеся к поверхности воды и качающиеся, словно ленты спортсменов на открытии Олимпийских игр. Мальки подплывали к водорослям многочисленной проворной стайкой, которая неизбежно рассыпалась, натолкнувшись на дышащие изумрудные заросли. Она вдоволь наплавалась и теперь устала настолько, что, казалось, дремота охватила все ее мышцы. Ей не только не хотелось куда-то идти, но даже двигаться было тяжело. Просто сидела и смотрела на воду, подставляя лицо слабому ветерку, нежно обдувающему обветренную и загрубевшую кожу, точно опахало из перьев страуса.
Мужчины изрядно напились, но даже это не очень сердило Вику. Она не прислушивалась к их шумным разговорам, то и дело взрывающимся смехом, отключилась – и воспринимала их как ровный пчелиный гул.
Когда к ней подошел Глеб и сказал, что он решил поехать на электричке к еще одному коллеге, у которого была дача всего в пятнадцати километрах от этого места, Вика, отрывая взгляд от воды и возвращаясь в уходящий вечер, полный света багряного закатного солнца, проворчала:
– Да ты что? На ночь глядя… Ты посмотри на себя!
– Нет, поедем! Там заночуем.
– Никуда я не поеду! Я домой хочу! И мама будет ругаться, что ее с Тимкой бросили.
– Нет, поедешь! – заявил Глеб самоуверенным гоном хозяина. – Тимур уже спать будет, пока доедем до дома!
– Нам правда нужно ехать домой, милый. Не глупи!
Она нехотя поднялась, собрала вещи и отрезала:
– Все! Поехали домой!
Минуту он растерянно следовал за ней по шуршащей гравием дорожке, перехватив у нее из рук саквояж, но вдруг в его затуманенный алкоголем мозг пришла мысль, что он всегда так поступает: следует за ней, как собачонка. Он почувствовал себя обиженным ребенком, у которого отняли новую игрушку, потушили свет и сказали: «Спи!» И что теперь – его вечный удел повиноваться ее приказаниям? В нем быстро, будто пена на закипающем бульоне, поднималась злость, которую необходимо было быстро снять, пока бульон не стал мутным. Вика была уверена, что он последует за ней – и через полчаса она будет дремать в электричке, прикорнув на его плече. Однако злость не проходила – и Глеб думал, что, если он ей сейчас уступит и не настоит на своем, он так и будет всегда под каблуком жены и та сама же будет его презирать. Голову его теперь заполняла одна мысль, которая была точно проглоченный мышью подмешанный в муку алебастр, что набухает в желудке – и застывает, приводя животное к гибели: он должен поступить как главный в доме.
– Мы поедем к Логиновым!
– Ты пьян и рассуждаешь как пьяный.
– Нет, я совершенно трезв и знаю, что говорю, – изрек Глеб заплетающимся языком.
– Если ты трезв, то дай мне денег на билет и мотай куда хочешь, только без меня.
Глеб грубо и больно схватил ее за запястье, точно капкан клацнул и захлопнулся.
– Никуда ты не поедешь! Со мной поедешь!
– Еще как поеду! Что ты сделаешь?
Это ее восклицание лишь усилило его хватку. Он буравил Вику сузившимися зрачками, похожими на две потухшие спичечные головки.
– Пусти, алкоголик! Я еду домой! – теперь ярость захлестнула Вику, плеснув вспененной волной мужу в лицо.
– Нет, ты едешь со мной! Мне надоело потакать твоим капризам!
– Кретин!
Крепко держа ее за руку, точно расшалившегося ребенка, потащил жену к кассе, купил два билета до ближайшей станции, затащил в электричку. На них озирались – и Вика обмякла, но еще сопротивлялась, сознавая, что десятки глаз передвигаются по их двуглавой фигуре, точно фонендоскопы по больному. Глеб тащил ее, будто мешок с песком.
Сели на свободные места. За окном замелькали сосны, тонущие в уходящем свете, казавшиеся облитыми малиновым сиропом. Жизнь снова была в розовом цвете. Он победил и сломил ее волю. И хотя капкан был разжат, выпущенная мышь безжизненно оцепенела, откинув голову на спинку кресла – не на его плечо, сжавшись в комок, полная враждебности к своему спутнику, демонстративно отодвинувшись от него на полметра. Глаза ее стали похожи на глаза только что пойманного зверя, когда тот понимает, что попал в неволю. Глеб попытался ее обнять, но она резко дернулась, вывернулась и уставилась в окно, где лес кончился и бежало ровное ничем не засеянное поле, покрытое репьями, чертополохом и полынь-травой. Беспокойство в нем нарастало. Вика сидела маленькая, сгорбленная, в мятом платье, измазанном глиной. Доехали до станции в полном молчании. На станции Глеб, который был еще пьян, купил билеты в город – и они поехали обратно, по-прежнему надутые и отчужденные, в состоянии анабиоза.
Приехав домой, Глеб тут же завалился спать, чувствуя, как тяжелая тьма надвигается на него, как поезд, громыхая колесами.
Утром он пришел к ней в комнату, окунувшуюся в медовый солнечный свет, опустился на колени перед кроватью, и, словно маленький провинившийся мальчик, положил голову на ее грудь, как на плаху, замерев в напряженном ожидании. Ее тонкие длинные пальцы, прижимающиеся друг к дружке, как будто пытавшиеся согреться, оторвались друг от друга и нерешительно пробежали по его голове, точно беличий хвост от бабушкиной муфты, которым она так любила играть. Ему, как домашнему коту, захотелось замурлыкать от блаженства. Слезы наполнили покрасневшие веки, точно маленькие лодочки, и теперь он вычерпывал воду и усилием воли загонял выступившую соленую влагу обратно. Кисть маленькой руки опустилась на его затылок, он ощутил прогоняющее боль тепло, и женская ладонь побежала вперед, ероша его прилизанные волосы.
35
В стране закончилась эпоха развитого социализма и начался хаос дикого первобытного капитализма.
В НИИ, где работали Вика и Глеб, перестали регулярно давать зарплату: задерживали месяца по три, а оклад был меньше, чем минимальная пенсия. Денег теперь еле хватало, чтобы заплатить за квартиру и купить самую примитивную еду: картошку, капусту, крупу, макароны. Вика пристрастилась теперь печь постные блины, смывая остатки кефира со стенок коробочки. Когда однажды мамина подруга, муж которой был директором крупного торгового центра, принесла в подарок триста граммов сыра, радости и благодарности их не было предела.
Умерла старенькая Викина бабушка, ее квартирку примитивно отремонтировали, поклеив свежие бумажные обои, – и сдали студентам за небольшие деньги, позволяющие покупать ребенку одежду, из которой он вырастал, как подснежник по весне, фрукты и развивающие игрушки.
Собирали яблоки в саду, варили пюре без сахара и закатывали в банки. Из супового набора, в котором были одни кости, умудрялись и щи сварить, и картошку потушить на второе.
Один за другим сотрудники увольнялись из НИИ: уходили в растущие, как грибы, кооперативы, которые так же быстро исчезали, будто срезанные грибником: то сожгут ларек, то убьют хозяина, то предприятие просто обанкротится, не в состоянии платить оброки государству, местным рэкетирам и администрации.
Как это всегда бывает, после ухода старого руководителя новый все переделывает на свой манер, отстраняя приближенных бывшего, – и Глеб теперь стал в некотором роде изгоем. Он был несказанно рад, что успел защитить диссертацию, но чувствовал, что после смерти тестя его обходят: сознательно исключают из списков докладчиков на конференциях, из претендентов на гранты и просто не повышают зарплату. А с зарплатой научных сотрудников в то лихое время можно было ходить только за хлебом и сырками «Орбита». Многие его сокурсники уехали по контрактам в Канаду, США, Германию, Англию, кто-то просто ушел в торговлю. Кто-то занимался извозом и ремонтом автомашин, кто-то переквалифицировался в риелторы и инкассаторы. Один из друзей, уволившийся из института и сколотивший бригаду по установке сантехники, предложил Глебу подрабатывать у него напарником по вечерам и выходным. Иногда они стелили еще и линолеум и брали заказы на покраску окон и дверей.
Дома он теперь почти не бывал. После института ехал к заказчику. На неделе чаще всего обдирали от краски окна, вытащив стекла из рам и расплавляя краску горячим феном. По выходным клали линолеум или тянули новые пластиковые трубы. Семью он почти не видел, но это было и не очень плохо. Маленький ребенок подрастал, был гиперактивным и нервным, часто капризничал и пускался в плач, и сил у Глеба на то, чтобы еще нянчиться с таким ребенком, не было. Если же он был дома, то Вика, так или иначе, пыталась втянуть его в воспитание и помощь по хозяйству. Когда он приходил с работы пораньше, жена стрелой вылетала к нему в прихожую со слезами: «Я больше не могу! Я с ума сойду! Посиди с ним!» Ему иногда даже легче было шабашить, чем находиться дома.
С подработками у него появились хоть небольшие, но деньги, которых, впрочем, еле хватало, чтобы свести концы с концами. Он приходил домой и буквально падал. Вернее, сначала ужинал: иногда Вика даже кормила его, но чаще приходилось все греть самому. Уже за ужином чувствовал, как надвигается сон, будто лавина снежного оползня, погружающего сознание в темноту. Несколько раз он засыпал за чашкой чая и свежей газетой или книгой, положив голову на кружевную клеенку.
Жизнь состояла теперь из работы головой, труда физического и короткой передышки на обед и сон. Жизнь вошла в какую-то ровную и глубокую колею, из которой даже в сторону не заносило, хотя дорога была глинистой и развезенной. Он даже подумывал, не уйти ли ему из НИИ совсем, чтобы иметь больше возможности заниматься более прибыльным трудом. Так бы, наверное, все и продолжалось, но в квартире, в которой они вдвоем с напарником сменили трубы, ночью вышибло вентиль. Были выходные – ни хозяина квартиры, ни жильцов из квартир двумя этажами ниже, дома не было. Пролило аж до первого этажа. Залиты были не только четыре нижние квартиры, подмокла стена в подъезде – и штукатурка кусками осыпалась на лестницу. Стена подъезда стала похожа на афонскую пещеру с известняковыми скалами. Только утром соседи снизу увидели, как с потолка сочится вода и весь пол в их квартире блестит лужицами, будто после дождя.
Их обвинили в том, что они не профессионалы, и подали на них в суд. Судья присудил сделать ремонт во всех четырех квартирах, а также в подъезде на подмокших этажах. В результате была продана старая машина тестя, на которой теперь ездил Глеб, но долг еще оставался. Вика держалась стоически, но масло в огонь подливала теща, которая, постоянно обсуждая своих неудачных зятьев, совершала медленную и верную работу, будто копившаяся ледяная подземная вода и накалявшее скалы солнце делают свое дело – и вот уже ручеек бежит в образовавшейся трещине. Трещина становилась все шире и шире… От развода удерживало то, что он все-таки был кормилец. Он не был ни сантехником, ни маляром, ни плотником и никогда не собирался им быть, его называли раньше безруким, но понадобилось освоить эти навыки, овладел ими – и худо-бедно, не чураясь грязной работы, тащил семью, пока Вика сидела дома с ребенком.
Уходить с работы Глеб не решался, но занялся переписыванием видеокассет и музыки дома по выходным и вечерами, опять появились небольшие деньги, позволявшие даже съездить отдохнуть на море втроем в Крым или на Кавказ. Однако его работодатель и напарник, снимающий небольшой офис под студию звукозаписи, видимо, не заплатил кому-то дань – и по наводке конкурентов к нему пришла милиция, завели уголовное дело. Глеб каким-то чудом выскочил сухим из воды: его спасло то, что зарплату он получал черным налом в конверте и нигде не проходил по существующим отчетным бумагам. Напарник же, имеющий офис, зарегистрированный на его имя, ведший отчетность о деятельности фирмы и ищущий клиентов, загремел на год в места не столь отдаленные. По институту пополз слушок про уголовные дела зятя бывшего гендиректора.
Как-то незаметно в их семье поселилась ревность, ревность к возможностям супруга. Пришла погостить, потом стала возвращаться все чаще и чаще. Родители Вики помогали в карьере друг другу и гордились успехами супруга. Отец говорил, что без мамы он бы никогда не добился того, чего достиг. Став директором института, отец всячески опекал своих женщин. Глеб же воспринимал успехи жены, всегда примеряя их на себя, и если она в чем-то опережала его: публиковала статью или ехала на конференцию, то он напоминал Вике, что та просто пользуется именем отца, что люди жалеют ее, делают все, как если б отец просил их об этом. Это была неправда. Человеческая природа почему-то устроена так, что дети людей, достигших чего-то в жизни, вызывают чаще всего раздражение и зависть. Вика будто жила в тени отца… – так маленький цветок типа одинокой маргаритки хиреет в тени большого ароматного куста жасмина, кружащего голову и притягивающего взгляд. На нее в лучшем случае не обращали внимания, но чаще всего ее имя вызывало зависть и сопротивление. Отец, впрочем, тоже старался никогда ее не выделять. У нее всегда была зарплата не выше других, она никогда не ездила на конференции чаще других специалистов, ее не повышали по службе. Но когда Вика делала что-то самостоятельно, отец очень гордился ею. Так она практически сама выучила английский по самоучителю: на курсы ходила только для сдачи кандидатского минимума. Отец всем рассказывал, что его дочка сама освоила чужой язык, то же самое делала и мама. Другое дело Глеб. Когда она пошла на курсы английского при своем НИИ, чтобы усовершенствовать свой разговорный, Глеб устроил целый скандал: кричал, что она забросила семью, что тратит деньги неизвестно на что, на какие-то там курсы, которые «на черта попу гармонь». Злился, когда она «учила по ночам уроки». Самое смешное было то, что через две недели он оказался тоже на курсах английского, только уже при местном институте иностранных языков, дающем диплом установленного образца после четырехлетнего обучения.
Когда Вика решила сдать на водительские права, то дома началось целое движение сопротивления. Машина была папина, но водил ее Глеб – и пускать жену за руль он явно не желал. Ей внушали, что дело это не женское, что надо заниматься ребенком, а не ходить на «вождение», что у нее руки вставлены не тем концом и с ребенком вечерами сидеть он не будет. Вика выдержала осаду, две недели они не разговаривали.
Так стало почти всегда. Если она посылала тезисы на конференцию, то Глеб тут же посылал на две. Если она писала статью, то Глеб писал две. Она была рада его продвижению и понимала, что в какой-то мере заводит его и стимулирует к движению вверх своим примером, но ей было очень тяжело, что ревность к успехам супруга витала в доме. Этого она не понимала. Глеб становился все мелочнее. Раньше менялась погода, теперь изменился климат. Она всегда думала, что надо делать все возможное, чтобы им друг с другом было хорошо. Она так и старалась. Теперь же чувствовала, что Глеб будто злорадствует, если у нее что-то не выходит и ей что-то не дается.
Раньше были грозы со снующими проворными молниями, освещавшими перекошенное яростью лицо, и с шумными ливнями, после которых все зеленые побеги надежд были побиты, но дышалось легко, духота растворялась в отшумевших каплях и благодатная почва впитывала влагу, чтобы дать силы выпрямиться в полный рост поникшим травам, становясь еще мощнее и сильнее. Теперь начались нудные дожди, еще не осенние, моросящие, а августовские, изводящие душу ощущением скорого конца, когда влага стоит в воздухе промозглым туманом, вызывая дрожь и желание прижаться к теплому человеческому телу. Когда знаешь, что еще лето, еще должно быть тепло: еще только август, но дождь день за днем настойчиво барабанит кулачками в окно, требуя впустить в дом. И вот уже серая туча с торчащими клочьями ваты впорхнула в форточку и примостилась на лице, а дождь продолжает стучать с надрывающей сердце тоскливой обреченностью цинкового звона по крышам и карнизам. Вике все чаще хотелось вернуть то время, когда она была девочкой, летящей под потолок в папиных руках, и дух захватывало счастьем. Все больше хотелось участия и понимания. Но нет, что-то ушло из их отношений необратимо.
Годы иногда только приближают прошлое. Она вспомнила, как она влюбилась: ее погладили по голове, как маленького ребенка. Или мы живем только мгновениями? Запоминаем лишь сгустки жизни. Тогда почему вот это прикосновение она пронесла через годы? Может быть, потому, что оно было неожиданно, а ждала она чуда, любви и понимания? Потом ей всю жизнь будет хотеться, чтобы ее взяли за руку и перевели через дорогу, по которой все куда-то мчатся, не видя нарисованной на шоссе зебры.
36
Когда в НИИ стали платить так мало, что двух зарплат еле хватало на то, чтобы оплатить их просторную квартиру, купить крупу и макароны (от мяса отказались почти совсем), к тому же зарплату просто задерживали, все же встал вопрос о новой работе Глеба. Ему пришлось уйти из НИИ, и он устроился в фирму, перегоняющую автомобили клиенту от границы с Польшей. Жить они сразу стали лучше, питались теперь хорошо, но виделись друг с другом еще меньше, чем раньше. Глеб приезжал домой только на день-два. Может быть, это было и к лучшему, так как сил на ссоры теперь не было. Он был кормилец – и никто больше не вышибал ему мозг жалобами, что он не помогает дома. На такие глупости, как уборка, стирка, готовка, времени теперь у него не было.
Новая работа принесла материальное благополучие в семью, но Глеб стал выпивать. Вика никак не могла понять, как перегонка машин связана с нетрезвостью, но, видимо, так в этой системе было заведено: обмывать удачную сделку. Тошнотворная аура винных паров сопровождала теперь Глеба после всех удачных заключений контрактов.
Так продолжалось почти год: Глеб успел привыкнуть к своей новой работе – и она все меньше вызывала у него печаль сродни той, какая внезапно бывает, когда видишь в августовскую звездную ночь, как падает звезда, сгорая на лету и превращаясь в хлопья сажи, растворившейся в антрацитовой ночи. Легкая печаль о несбывшемся, которая все реже и реже, все приглушеннее покалывает сердце иголками побуревшей и облетевшей хвои… И вечнозеленая сосна когда-нибудь высыхает.
В сентябре Глеб с товарищем перегоняли очередной джип. В Бресте заметили белый «Спринтер», из его окна высунулся по пояс какой-то мордоворот и требовательно помахал рукой: стой. Глеб помотал головой. Тогда пасущие их машину обошли ее слева – и повторилось то же самое: машут, чтобы остановились. Глеб с напарником неожиданно уперлись в замерший троллейбус. Включили левый поворот и попытались продолжить движение. Да не тут-то было! Троллейбус тронулся, но… Откуда ни возьмись впереди оказался какой-то грузовой фургон и еще один джип. Попытались сдать назад – позади опять тот же белый «Спринтер». Все, приехали. Зажали.
Из обоих внедорожников вывалили пять крепких ребят с квадратными плечами и такими же квадратными каменными физиономиями с прыгающими желваками на скулах и подошли к ним.
– Открывай двери! – заорал один из них.
Другой показывает молоток:
– Не откроешь – стекло сейчас полетит на хрен.
Нехотя открыли, решив не связываться.
Тут же двое мордоворотов сели в их новенькую машину, и начался «базар»:
– Ну, че, надо платить. За джип у нас такса 500 баксов.
– Да вы че?! У нас столько нет!
– Коль нет, так побьем стекла, пробьем радиатор, попинаем двери! И стойте тут, считайте, во сколько вам это встанет!
Отвалили, только когда получили свой оброк. Написали слово «пропуск» на клетчатом листке, вырванном из школьной тетрадки: «31-й снял. Не тормозить. Хредя»:
– Если будут впереди тормозить, покажете эту «ксиву»!
Следующей их вынужденной остановкой оказался гаишный пост. Гаишник, криво ухмыляясь, долго рассматривал их права, сличал фотографии с их измученными и запылившимися в дороге лицами, потом спросил, благополучно ли проехали город, – и, услышав утвердительный ответ, снова усмехнувшись, отпустил.
Успешно доехали до Смоленска. Спать каждую ночь в машине – и иметь ясную голову было не очень-то легко, поэтому руководство фирмы разрешало иногда ночевать в гостинице. Так они и поступили. Устроившись в отеле, пошли с напарником поужинать в кафе. К ним подсели двое белорусов, разговорились о жизни, выпили, просидели аж до закрытия кафе, расслабившись и отдыхая от дороги.
Как попали в забронированный номер, Глеб помнит смутно, но проснулся он точно в своем номере. После завтрака, рассчитавшись с администратором на стойке регистрации, с гудящей головой вышли на улицу – и обнаружили, что машины нет. Позвонили в «эвакуатор» со слабой надеждой, что машину отогнали в алчном азарте содрать с приезжих «туристический сбор», уже с нарастающим ужасом понимая, что машину украли.
После злополучной поездки Глеб с напарником были поставлены «на счетчик». Подельник Глеба был еврей и срочно эмигрировал в Израиль. Следует отдать ему должное: он предложил Глебу помочь с эмиграцией, но Глеб побоялся, что тогда будут доставать его семью. Был бы он свободен, он бы, не раздумывая, улизнул.
Мама в отсутствие Глеба стала уговаривать Вику подать на развод и выгнать его из дома. Вика разрывалась между мамой и мужем. И хотя любовь незаметно ушла из их простуженного и выстывшего дома, будто кот, выскользнувший на балкон, спрыгнувший и растворившийся в городской толчее, оставалась еще привязанность друг к другу и ощущение, что она не одинока в этом мире. В конце концов, с ее мужем случилась беда, которая ударила по всем ним.
Ее бесконечно расстраивала неспособность Глеба выкрутиться из этой ситуации самому. Он был очень нервный, на любые ее советы срывался и шипел, словно раскаленная плита, на которую закапали слезы. Успокоить своих женщин он не мог. Вика с улыбкой вспоминала свои девичьи грезы о широкой груди, в которую можно уткнуться и спрятать на ней лицо от страшного мира, в котором полыхают грозы, раскалывая окрестность громовыми оглушительными раскатами, от которых вздрагиваешь, как от удара током искрящей электрической розетки.
Она стояла на перекрестке дорог, где гулял пронизывающий до костей ветер, ежилась, пыталась защитить от ветра сына и заодно погреться о его теплое тельце, пахнущее детским хвойным шампунем.
Глеба постоянно доставали какие-то темные личности: они звонили по ночам с угрозами, нарушая тревожную тишину большой квартиры. Больше всего нервничала мама. Она впадала почти в психоз от одного телефонного трезвона, потом всю ночь охала и ахала, накаляя добела и без того раскаленную атмосферу дома. В доме поселились ожидание беды и ощущение, что поезд семейной жизни снова сошел с рельс и катится с откоса, дребезжа наезжающими друг на друга вагонами. Уже звенели разбитые стекла – и крик разрывал тишину, как граната. В их жизнь остро вошло тогда ощущение беспомощности перед смерчем, сначала срывающим с дома крышу, а потом поднимающим на воздух и сам дом, чтобы затем бросить его оземь, перенеся на сотню метров, переломав половину подгнивших досочек.
В конце концов решение было найдено: пришлось срочно вполцены продавать дом в деревне, оставшийся от бабушки. Расставание с домом было для Вики тяжелым. Этот дом был связан с воспоминаниями ее детства и хранил шаги ее бабушки и дедушки. Она любила там бывать. Дом пах бабушкиными пирогами с картошкой, грибами и капустой, плюшками, испеченными в чудо-печке, малиновым и вишневым вареньем, кашей «Дружба», запеченной в горшочке. Продавать его было жалко до слез, но иного выхода не было.
Продажу дома Глеб воспринял как должное, хотя чувство вины перед близкими не покидало его. Отношения становились все натянутее, но не рвались: супруги просто расходились все дальше и дальше друг от друга, будто находились по разным концам растянутой бельевой резинки, мелкие тоненькие резиночки-чувства в которой давно лопнули, но осталась тканевая основа, прочная и уже малоэластичная.







