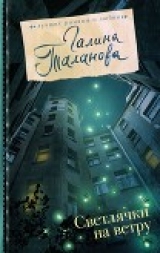
Текст книги "Светлячки на ветру"
Автор книги: Галина Таланова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
37
Она частенько думала о том, что сыну и не нужен никто. Он сам в себе. Смотрит на тебя – и ладно, не слышит, но и не видит тоже… будто ты – воздух, даже не стекло. На стекле отражаются блики от света, по нему сбегают капельки дождя, в него жалобно стучится ветка, и на нем мороз рисует диковинные узоры, которые можно разглядывать. Она думает о том, что детей все же заводят с надеждой на взаимную любовь и тепло. А тут… Мальчик будто улитка, которая почти не высовывает головку, а рожки выставляет, чтобы бодаться… Почти всегда чужой и отстраненный.
Пугало будущее сына. Говорили, что в обычной школе ребенку не место, хотя мальчик умненький, но лучше его отдать в интернат для глухих или учить дома по спецпрограмме, наняв преподавателя, но его услуги не для их кошелька. Учиться в обычной школе ему будет тяжело, и лучше быть отличником среди равных, чем отстающим в нормальном классе. Но они решили, что в спецшколу сына не отдадут никогда. Знакомая врач посоветовала Вике бросить работу и ходить в первый класс вместе с сыном, сидеть с ним за одной партой, объяснять материал и быть переводчиком, помочь преодолеть барьер в общении со здоровыми детьми. Они знали уже, что дети жестоки и могут смеяться над их ребенком. Если ребенок не преодолел барьер застенчивости и страха в детском саду, то теперь, когда занятия переносятся в школу, препятствие представлялось еще более недоступным. Сыну старались не показывать панического настроения, наоборот, всячески пробуждали и пытались развить интерес к школе, но все же не обольщали себя надеждой. Будущее ребенка было расплывчато, как у дошкольника, впервые взявшего в руки акварельные краски, его рисунок.
Чтобы получить разрешение ходить с ребенком в школу, потребовалось собрать кучу справок и подключить бывших знакомых папы, искать по рекомендациям школу с хорошим учителем, который готов был принять сына и маму в своем классе. Вика оформила на работе на полгода административный отпуск (решила, что дальше посмотрит, что будет). С работы уходить не хотелось, но иного выхода не было.
В школу сын собирался с радостью. Первого сентября Вика с замиранием сердца повела сына в первый класс. Всунула ему в руки букет красно-желтых гладиолусов. Тимур, как нахохленный испуганный воробышек, пристроился к своим ребятам, замер, осматриваясь и прячась за огромным букетом, как за деревом. На первой линейке она стояла вместе с сыном и еле сдерживала слезы. Вот уже сын идет в школу. А казалось, совсем недавно она выстраивалась с таким же букетом гладиолусов в синеньком сарафанчике и белой кофточке с кружевным воротничком и рюшечкой по его окантовке. Огромный бант-пропеллер на голове, чудилось, вот-вот закрутится и унесет ее под облака. Это было единственное первое сентября, когда она шла в школу с радостью, хотя всегда была отличницей и учиться ей было интересно. В последующие годы уже с середины августа она начинала считать отпущенные дни ее летней свободы… Как будет у ее сына? Предстоящая учеба в школе пугала не только тем, что мальчик может не понять объяснение материала, но и тем, что над ним начнут издеваться дети, и тем, что в школу учить детей идут неудачники, не сумевшие найти более приличной и престижной работы, ненавидящие и свою работу, и самих детей, на которых им приходится растрачивать свою жизнь.
Вика видела, что сын, как и остальные ребята, чувствует смутное волнение, радость первого дня учебы и ожидание чего-то нового. После приветственных речей под торжественную музыку детей повели в классы. Какая-то рыженькая толстушка-старшеклассница взяла за руку и Тимура. Он сказал Вике: «Ты иди домой, я буду учиться сам». Учительница, сухонькая женщина лет сорока пяти, за стеклами толстых очков которой блестели влажные глаза, успокоила: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». И Вика ушла домой, чтобы сын не видел ее на переменах и хоть раз в жизни почувствовал себя самостоятельным, таким, как все.
Дома Вика расплакалась. Слезы бежали неостановимым потоком, точно из прохудившегося крана. Первый раз в жизни сын остался без нее в большом коллективе. К нему посадили девочку Лену, которой учительница тихонько объяснила ситуацию и попросила помогать. Тимур сидел на первой парте. Девочка указывала пальчиком, что нужно списывать из учебника или решать. Она тихонько, шепотом, постоянно подсказывала и опекала Тимура. В классе к нему настолько привыкли, что никого это не отвлекало, все казалось естественным. Учительница относилась к мальчику очень по-доброму. Часто сама подходила и еще раз все объясняла ему сама. Вика поначалу тоже ходила частенько на уроки, девочку тогда отсаживали, и она выполняла роль «переводчика», но сын сильно стеснялся того, что с ним ходит на занятия мама, и она старалась, чтобы сын карабкался сам. Дома они частенько все проходили с Тимкой заново, думая о том, что индивидуальное обучение было бы сыну полезнее, и если бы не необходимость адаптации ребенка в коллективе, они бы так и сделали. Дети никогда не смеялись над ним (или Тимур не слышал их смеха) и никогда не дразнили.
Тимур, когда пошел в первый класс, уже знал все буквы, умел читать, писать не только печатными буквами, но и прописными, складывать и вычитать. Его же в школе заново учили теперь писать, причем не буквы, а какие-то палочки и закорючки с нажимом, из которых складывались буквы. Ровные закорючки получались плохо, они плясали, наклонялись друг к другу и торопились выстроиться в паровозик, именуемый словом. Сын в раздражении отбрасывал тетрадку, иногда вырывал из нее листки и комкал в бумажный шарик, который тут же бросал на парту, но шарик неизменно скатывался с нее на пол. Комок бумаги медленно расправлялся и как бы надувался от ветерка, задуваемого в форточку. Слишком живой по натуре и чрезмерно быстрый в движениях, он не мог писать медленно и красиво. Учительница успокаивала Вику: «Не переживайте! Половина детей в классе пишет не лучше». Вика расстраивалась: те дети просто еще не умели писать, а их умник, писавший быстрым почерком, где буквы танцевали в пьяном танце, взявшись за руки, даже и не старался научиться написать красиво.
Тяжелее всего давались сыну диктанты. Он просто не поспевал. Замирал над тетрадкой в растерянности, пытаясь уловить продиктованное, а догадавшись о том, что надо написать, успевал вывести только несколько букв – учительница начинала диктовать дальше. Косил глазом в тетрадку к соседке, судорожно списывая слова, не вникая в их смысл, и все равно не успевал. Иногда в раздражении отодвигал тетрадь, сидел и смотрел на склоненные головы одноклассников, старательно выводящих буквы в тетрадках. В его тетрадке бежали лишь отдельные кривые слова, похожие на паровозики, поехавшие под откос.
Когда они пошли в пятый класс, Вика подходила к каждому учителю и разъясняла, с каким ребенком они будут иметь дело, как его можно спрашивать и как себя с ним вести.
Учился сын в основном по учебникам. С губ учителя понимал не все даже в слуховом аппарате. Многое приходилось ему объяснять повторно дома, но мальчик, как губка, впитывал в себя полученные знания, много читал и был способен осваивать материал по книгам.
Учился Тимур хорошо: с ним занимались дома по очереди все: мама, бабушка, папа. К десяти годам он имел словарный запас обычного ребенка, только говорил каким-то немного утробным и механическим голосом, не смогли ему поставить также шипящие и свистящие, сколько ни ходили они к частным дефектологам и логопедам. И то, что он плохо слышит, что говорится у доски, позволяло ему экономить время. Глухота давала ему возможность заниматься на уроках своими делами. Он не обращал внимания на учительские объяснения и уж тем более на ответы одноклассников. Читал учебник самостоятельно.
Тем не менее ребенок чувствовал себя белой вороной, которую не принимают в стаю. Он часто уходил в себя и даже не пытался вникнуть в разговоры одноклассников, многое из их шумной жизни, фонтанирующей, словно причудливые струи воды в аквапарке, уносящие своей силой, проходило стороной. Над ним не подшучивали, его не травили, его уважали за упорство, у него иногда даже списывали домашние задания, к нему не относились как к неадекватному или недоразвитому, но он был изгой. Они с Глебом иногда думали о том, что надо бы его определить в какой-нибудь кружок для детей с остатками слуха, где он сможет общаться со слабослышащими детьми на равных, но сын наотрез отказывался изучать язык жестов, говоря, что он живет среди обычных людей и ему это ни к чему:
– Если мне надо дом какой-то найти, я что, жестами спрашивать буду?
Ответить им на это было нечего. И они гордились такой позицией сына.
Вика частенько видела его сидящим с ногами на диване и смотрящим в пространство. Войдя в его комнату, она натыкалась на черные расширившиеся зрачки, словно у наевшегося белладонны, – казалось, что это сами блестящие черные ягоды, а не зрачки, и пугалась. Сын не только не слышал ее шагов, но и не видел ее. Она подходила к нему, осторожно трогала за плечо, и тогда он вздрагивал, точно от испуга. Потом медленно поворачивал голову, смотрел на нее своими зрачками-ягодами, словно очнувшийся от сна и непонимающий, где он. Она гладила его по мягким волосам, щекотно просачивающимся между ее пальцами, будто вода. Сын прижимался к ее груди – и она вбирала в себя его запах, с печалью думая о том, что он уже не пахнет молоком, но пахнет карамельными конфетами, которые любил сосать, и ее шампунем. Впрочем, иногда сын вывертывал голову из-под ее ласкающей руки, надувшись, как маленький бурундучок, хранящий за щекой орешки.
Сын неплохо рисовал, став постарше, начал выжигать по дереву. Выжиганием увлекся не на шутку. Набор для выжигания купил ему Глеб, она была против, так как боялась паяльника в руках ребенка, но сама делала с ним вместе первую картинку. От этого подарка он был просто в восторге. Сын работал аккуратно, не обжегся и стол не спалил. Выжигал, высунув кончик языка от удовольствия. Бегал по квартире показывать то бабушке, то папе, то маме свою незаконченную первую работу каждые полчаса. Первую свою дощечку с корабликом, летящим по морским пучинам, подарил маме. Сам повесил у нее над столом.
Она видела, что он страдает от одиночества, и пыталась успокоить, что в его жизни еще будут друзья, а пока он должен учиться и много читать, у нее же тоже нет много друзей, хотя она слышит.
– Это просто характер у нас такой, нам и не нужна толпа, – утешала Вика.
Сын молчал… Но она знала, что он с ней не согласен… «Пока не согласен… – думала Вика. – Повзрослеет – будет легче».
38
В пятом классе у Тимура появился друг. Друга звали Аркаша. Его мама умерла год назад от оторвавшегося тромба после операции по удалению желчного пузыря. Аркашу воспитывал папа, папа был доктором наук, и его пригласили работать в их город, он решился на этот переезд отчасти из-за того, что и ему, и сыну в квартире, где они жили, постоянно мерещился голос той, которую они любили. Собираясь что-либо сделать, они словно оглядывались на нее. Так, например, при ее жизни отец иногда кормил Аркашу со сковородки, сам же ел с нее постоянно, за что всегда получал от жены втык. Он даже иногда говорил сыну: «Мы маме не скажем, да?» После ее смерти каждый раз, когда он брал в руки сковородку, собираясь водрузить закопченную дочерна посудину на стол, отчетливо слышал приказ жены: «Не ешьте со сковородки! Положи на тарелку!» Раньше, опаздывая на работу, он частенько оставлял без покрывала кровать или кидал на нее свои скомканные спортивные штаны; домашние носки, до дырки протертые на пятке, вообще оставались лежать на коврике у кровати, точно уползшие от мамки слепые кутята. Теперь же он словно видел укоризненный взгляд жены и аккуратно заправлял одеяло, раскатывая на нем все складочки, как когда-то в армии, когда он делал это из опасности получить штрафной наряд; бережно вешал носки на перекладину стула под сиденьем, а брюки – на спинку стула, разглаживая их руками, точно трущуюся об ноги кошку. Из таких мелочей, делающихся с оглядкой на то, что скажет жена, начинался и заканчивался весь его суетный и уплотненный день.
Вещи жены лежали нетронутые, неразобранные в ее комнате, в которую они оба: и сын, и отец, почему-то боялись заходить. Вернее, отец иногда заходил, открывал шифоньер, прижимался губами к ее платьям, вдыхал ее запах – стоял так минут пять, а потом выходил из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь, точно боялся, что воспоминания, хлынувшие из бывшей обители жены горной речкой, собьют с ног, а он и так еле держится на ногах. Аркаша слышал, как папа зашел в мамину комнату, и цепенел, прислушиваясь, когда папины шаркающие шаги направятся по направлению к его детской. Отец входил, гладил мальчика по голове, вспоминая шелк волос его матери, вглядывался в серые осенние лужицы глаз сына, в которых плавали желтые листья, сорванные ветром, пытаясь отыскать в них весеннее половодье глаз своей суженой, – но только легкий взмах слипшихся ресниц сына напоминал глаза любимой в ту минуту, когда она выходила из моря, отряхиваясь от воды в их первую послесвадебную поездку в Крым. Прижимал мальчика к груди, вдыхал запах детской кожи, гладил маленькие вздернутые лопатки под хлопчатобумажной футболкой, казавшиеся ему крылышками ангела.
Видимо то, что Аркаша носил в себе тщательно скрываемую от чужих глаз боль от неожиданной потери матери, которая, хотя и притупилась, отступая перед его детскими играми и заботами, но неизбежно возвращалась, как только мальчик оставался один, – и толкнуло его к глуховатому Тимуру, замирающему среди шумной, веселой компании детей погруженным в себя: другие дети просто не могли почувствовать эту боль в силу недостатка своего эмоционального опыта. Выражение лица глуховатого мальчика было такое, точно он смотрел на рябое отражение своей физиономии в бегущей реке, а потом вдруг зачерпывал воду в ладони и умывался. Вода стекала по его щекам, по его рукам, падая на отражение его лика, которое колебалось и дрожало, разбиваясь на мелкие осколки, слепленные воедино, будто пуленепробиваемое стекло, приклеенное к полимерной пленке.
Теперь Вике стало гораздо спокойнее, и она все меньше натыкалась на пугающий ее взгляд сына, в котором она читала что-то такое непостижимое даже для ее понимания, матери: нечто шамански-темное, что она встречала иногда у предсказывающих судьбу цыганок или у калек, просящих милостыню в заплеванном переходе метро, и вместе с тем это был взгляд зверя, попавшего в капкан, воющего от боли, но грызущего свою лапу.
Аркаша оказался умненьким мальчиком, но довольно избалованным, который вил из своего отца веревки и, кажется, вполне сознавал, что делает. Он мог, не задумываясь, попросить любую игрушку или путешествие, почти уверенный в том, что его просьба будет исполнена. Тимура же родители воспитывали так, что тот редко просил что-то, чего они не могли себе позволить. Они слишком хорошо помнили ужас от того, что в них летели игрушки, когда Тимур был маленький и ему что-то оказывалось не по нраву, и пытались объяснить сыну, что они не настолько богатые люди, чтобы позволить себе и ему все, что душе угодно.
Тимур по-прежнему сидел за партой с девочкой Леной, которая услужливо подсовывала ему списать не расслышанное, тыкала маленьким пальчиком с аккуратно подстриженным ноготком в учебник – и показывала разбираемый пункт, записывала иногда ему домашние задания в дневник и опекала, как настоящая старшая сестра, но Тимур никогда не делился с девочкой своими переживаниями, никогда они не встречались и не играли вне школы, пути их до дома пробегали в разных направлениях, хотя Тимур частенько звонил Лене из дома, чтобы что-то у нее уточнить, и она всегда очень охотно ему все разъясняла.
Именно по дороге домой и завязалась дружба Тимура и Аркаши: Аркаша приехал жить в соседний дом и спросил у мальчика, как ему лучше добраться до здания цирка. Теперь они частенько ходили до дома вместе, весело помахав Лене на прощание. Очень часто Аркадий обедал у них: видимо, ему было неуютно и одиноко находиться в пустой квартире, где стены и каждая вещь хоть уже не напоминали о матери, но от тишины закладывало уши и казалось, что ты падаешь, как в самолете, сквозь облака на грешную землю. Мама все равно ходила осязаемой тенью по новой квартире, безмолвно укоряя их, что они переделали свою жизнь по-своему.
Несколько раз Аркашу брали в выходные с собой на дачу. Ездили мальчики на природу и с отцом Аркаши.
В шестом классе ребята записались в фотокружок и всерьез увлеклись фотографией. Тимуру был куплен настоящий профессиональный фотоаппарат – и он часами носился по городу и дачным окрестностям, пытаясь остановить мгновение: поймать в объектив мимолетный взгляд, блуждающую на лице загадочную улыбку или какую-нибудь беззащитную травинку с ползущей по ней божьей коровкой в лучах охряного солнца, ныряющего за черную кромку леса на том берегу реки. Их фотографии стали постоянно участвовать в каких-то выставках: сначала детских, а потом несколько работ Тимура взяли даже на выставку, проходившую в фойе центрального кинотеатра города.
Иногда Вике казалось, что слабый слух ее сына делает его глаза способными различать не только миллионы оттенков спектра, но еще и видеть ультрафиолетовый свет, как видят его птицы, а в темноте улавливать и инфракрасное излучение, как змеи.
39
Глеб устроился преподавать физику в мединститут. Зарплата там была смешная, но преподаватели не бедствовали. В институте появились студенты из развивающихся стран, да и вообще про нравы в мединституте поговаривали еще при Советской власти, после «перестройки» взятки брали почти в открытую; тех, кто не при «дележке пирога», теперь тихо презирали и считали неудачниками, не умеющими жить.
Из жизни постепенно ушло то острое чувство счастья, которое бывает в ясный солнечный день, когда еще не жарко, лишь наступило первое тепло и трава вся сочно-зеленая, будто только что промытая дождем от осевшей пыли и пыльцы, по небу плывут редкие и полупрозрачные облака, напоминающие тополиный пух, – и их подвижные очертания дрожат на воде, точно поля белых цветов, которыми играет ветер. Ты нагибаешься к воде, и кажется, что облака вырастают за твоей спиной, готовые подхватить и оторвать тебя от земли.
Ты очень остро ощущаешь эту гармонию. И знаешь, что жизнь еще длинная – и это чувство у тебя еще будет очень долго. Ты просто живешь и радуешься тому, что существуешь, но давно пришло ощущение скуки и той щемящей тоски, что бывает, когда долго пребываешь в одиночку на даче, покосившейся, сыплющей с потолка труху от гниющих досок и жалобно скрипящей от порывов ветра.
Накормить мальчиков, отправить сына в школу – и бегом на работу, которая давно перестала быть праздником и утратила ощущение новизны: летишь на нее, перепрыгивая через серые качающиеся ступени дней, грозя поскользнуться и переломать себе руки-ноги, шею и позвоночник. А после работы – тяжелые сумки, оттягивающие руки и перерезающие пальцы так, что на них остается темно-красная борозда от полиэтиленового пакета, точно затянувшаяся рана. И так изо дня в день… Готовка, опять готовка и кормежка, уроки сына, торопливая случка, давно перешедшая в привычку вроде чистки зубов после каждой еды, от которой даже чувствуешь необычную легкость в теле, но не ту, которую имеет семя одуванчика, летящее на парашютике по ветру, а легкость пустой сухой маковой головки, чьи семена пошли на посыпку румяных плюшек, покачивающейся на ветру, будто и не была никогда ярко-коралловым цветком, – не тем ли аленьким, что мы всю жизнь пытаемся отыскать, забывая о том, что его иногда может протянуть и чудище? Но нет. Добрые чудища ушли из твоей жизни вместе с детством, хоть и неплотно прикрыли за собой дверь, оставив иллюзию возможности возвращения.
С печалью отмечала, что достигли с мужем той стадии злобных ссор, после которых уже никогда не мирились до конца, а просто делали вид, что ничего не произошло. Залитые слезами головешки тлели под грудой пепла, готовые вспыхнуть от сильного ветра в любой момент. Или, наоборот, угаснуть, остыть под холодными каплями дождя и снежной колючей крупой полного равнодушия друг к другу.
40
С некоторых пор она закрывала глаза на то, что у мужа после экзаменов появлялись деньги – и они шли в магазин после сессии и покупали что-нибудь вкусненькое, какую-нибудь машинку сыну и даже иногда что-то из одежды. Первый раз, когда он принес деньги, она удивилась, хотела сказать ему все, что думает об этом, а потом вспомнила, что не знает, из чего заплатить за проводку новой электролинии на даче взамен срезанной, – и промолчала. В конце концов, эти дети могли бы больше заниматься и готовиться к экзамену. Она сделала вид, что не поняла, откуда эти деньги. И внешне все было даже хорошо, но трещинка внутри уже зародилась и побежала по их отношениям. Больше она этому человеку не доверяла так безраздельно, как прежде, жила с глазами, спрятанными под темные очки от бьющей в них очевидности, что никак не хотела жить в гармонии с ее воспитанием. Несколько раз она пыталась заставить его репетировать хотя бы школьников, но муж каждый раз резко ее обрывал, что у него нет на это ни сил, ни желания. Говорил, что жизнь – слишком коротка, чтобы тратить ее на оболтусов и зарабатывание денег, крутясь, как белка в колесе, теряя силы и здоровье. Каждая ее попытка подтолкнуть его на репетиторство кончалась маленьким скандал ом, оставляющим после себя послевкусие от разворошенного гнезда. Каждый раз она думала о том, что ее второй брак тоже неудачен, что она как магнитом притягивает слабых мужиков, потому что ей самой удобнее с такими. Она было хотела взяться за репетиторство сама, но была далека от школьных и вузовских программ, да и предпочитали обычно репетиторов, входящих в приемные комиссии или имеющих там знакомых. Если репетировать она, может быть, и смогла бы, то таланта быть своим человеком в приемных комиссиях у нее точно не было.
Однажды она встретила на улице сокурсницу, и та поделилась тем, что успешно работает в одной фирме, где пишут диссертации, статьи, доклады за других – тех, кто за время «перестройки» выбился в «люди», но у которых, ну совершенно нет желания и времени на такие глупости, как стряпание научных работ для получения ученой степени или вымучивание доклада для какого-нибудь конгресса или симпозиума. Предложила Вике попробовать поработать у них хотя бы для начала по совместительству.
Первым ее заданием было сделать стендовый доклад или постер для какой-то там конференции. Причем ей почти не надо было ничего высасывать из пальца: автор предоставил богатый экспериментальный материал. Вся проблема состояла лишь в том, что заказчик ставил жесткие сроки работы: на своей службе выполнять эту работу она не могла, приходилось трудиться по вечерам и в выходные. Поэтому на сон теперь у нее оставалось три-пять часов. К концу недели она настолько изматывалась физически, что просто закрывала на минуточку уставшие глаза, которые жгло так, будто надуло пыльным ветром, – и проваливалась в сон, прямо сидя на компьютерном стуле за голубым экраном монитора. В таком режиме она проработала три месяца: подготовила две статьи, три доклада и еще материал для настенного календаря. На полученные деньги купила посудомоечную машину и поменяла в квартире сантехнику. Муж раздражался, что она совсем забросила дом: он теперь и прачка, и уборщик, и нянька, что они перестали по выходным выезжать на дачу или ходить хотя бы гулять и в гости; возмущался, что ребенок ошивается на улице в сомнительной компании.
Неизвестно, сколько бы она тянула эту нагруженную баржу против течения, уподобившись бурлаку, если бы не трагический случай с одноклассником сына. Мальчишки сидели на ступеньках лестницы в чужом подъезде и дурачились. Они могли бы гулять на улице: погода была ясная, хотя уже прошел Покров и все готовилось к зиме. Никто толком не понял или, напугавшись, не сказал, что произошло, но ясно было одно: один из них упал с лестницы на каменную площадку, свернув себе шею. Смерть от образовавшейся трещины была мгновенной. Тимур прибежал домой очень испуганный, трясущимися губами рассказал, что Витя оступился, упал и лежит теперь на лестнице. Молнией мелькнула мысль, что дети, дурачась, толкнули одноклассника, и, возможно, это сделал ее сын. Пока остальных ребят по очереди допрашивала милиция, Вика обнимала Тимура и крепко прижимала к себе, чувствуя, как колотится пудовой гирей его сердце. Ночью сын не спал, включил свет, просил ее посидеть рядом и держался за руку, точно малыш, делающий первые шаги. Молчал, она гладила его по голове и по лицу. Волосы были шелковистыми и мягкими, стекали по ее пальцам, пальцы запутывались и перебирали пряди, словно четки. Внезапно губы сына дрогнули, искривились гусеницей, и он разрыдался. Плач сотрясал все его худенькое тельце, бившееся в конвульсиях, переходя в кашель. Она гладила его лопатки, выпирающие крылышками ангела, и чувствовала, что все очертания в комнате расплываются, и все, что произошло, конечно, тяжелый беспробудный ночной сон и кошмар, который отступит с рассветом, облизывающим розовым сухим языком тюль занавески.
Через два дня она написала заявление об увольнении из своего НИИ. Было ли это ошибкой в ее жизни? Она частенько потом жалела, что перечеркнула свои юношеские мечты жирным красным фломастером. Теперь она стала госпожой НИКТО, строгающей научные работы под чужими именами. Зато в семье появились деньги. Они даже могли себе позволить съездить отдохнуть: сначала на Кавказ, потом в экзотический Египет и далекую Турцию, где «все включено». Никогда раньше она даже не мечтала о таком счастье! Но ее не покидало ощущение, что жизнь проходит впустую, она растрачивает свои способности ни на что. В глубине души она презирала этих избалованных богатых папенькиных деток и деловых новых русских, жаждущих обзавестись «корочками», не ударяя палец о палец. Она написала две монографии, но на книгах стояли чужие фамилии, чьим носителям пожимали руки на конгрессах и симпозиумах. А она была в шапке-невидимке. Она была кандидатом наук, а могла бы стать и доктором: наследственность и мозги у нее отменные, но, увы, не сбылось и не случилось. Медленное переползание изо дня в день. Она даже не могла сказать, что жила в неполную меру сил и отпущенных природой возможностей. Нет, она выкладывалась на полную катушку, но лавры за ее работу получали другие. И хотя они с ней щедро расплачивались, чувство гадливости не покидало ее. Иногда она думала о том, что вот так же проститутки торгуют своим телом, ублажая клиентов. Впрочем, задевало ее больше не то, что она делает работу за других, а то, что она не может этими работами похвалиться: они не ее, об этом никто не должен знать, условия договора были таковы, что ее имя, как имя суррогатной матери, было для общества строжайшей тайной. Она была без лица, тенью в пасмурную погоду. Социального статуса у нее просто не было.
Вообще она все чаще думала о том, что желала бы быть маленькой девочкой, которую крепко держат за руку, чтобы ее всегда защищала какая-то неведомая ей внешняя сила. Ей не раз говорили, что она сильная женщина, а она-то всегда считала себя слабой. Ей так хотелось, чтобы повели по жизни, если уж не понесли на руках; мечтала уткнуться в надежную мужскую грудь, заслоняющую и от крепчающего с годами ветра судьбы, и от шумной толпы, быстро текущей мимо, как с грохотом срывающаяся со скалы горная река, готовая подхватить тебя своим бурным течением.
Она была счастлива в девичестве, и всегда они жили с мамой как за каменной стеной. Со смертью отца ей пришлось самой становиться сильной. Мама как была, так и осталась девочкой, созданной для того, чтобы вызывать умиление взрослых и играть в куклы. Взрослые проблемы решал папа. Она хотела теперь, чтобы Вика решала проблемы, которые раньше решал муж. В браке Вика чувствовала себя девочкой, взбирающейся по лестнице с гнилыми ступеньками и сломанными перилами. Осторожно пробуешь ступеньку ногой, чувствуешь, что она качается, – И перешагиваешь через нее, ступая на другую или даже перепрыгивая через две. Неуклюже балансируешь руками, зная, что перила давно висят на одном гвозде. Сорвешься вниз – подхватят ли?
Звезды рассыпались на бутылочные осколки, на гранях которых играет и лунный, и солнечный свет, которые можно потрогать – и пораниться до крови.
Когда Глеб уезжал в командировку, она растерянно смотрела на пустую половину кровати и думала о том, что с ней было бы, если бы он исчез: ушел или умер. Зрелище пустой половины постели вызывало в ней такую печаль – и она чувствовала себя беспомощной девчушкой, оставленной родителями в большом запертом доме. Завтрак на столе, но по углам дома прячутся домовые – и страшно: вдруг они выйдут? И позвать некого, и убежать не убежишь. И крик твой никто не услышит. В детстве она частенько приходила к бабушке по ночам, когда становилось страшно. Говорила, что задыхается и ей надо закапать капли в нос от насморка или намазать нос бороментолом. Бабушка зажигала свет – и притаившиеся человечки исчезали. Страх и одиночество отступали вместе с брызнувшим в комнату веселым, будто пузырящийся лимонад, светом. Огромная красная люстра качалась на потолке от сквозняка, как буек на волнах, – и отброшенные предметами тени оживали и шевелились, но было уже совсем нестрашно. Пока бабушка искала капли или мазь, Вика подходила к зеркалу и разглядывала себя в белой пижаме с широкими оборками на штанах, на рукавах и горловине, по полю которой шелестели на ветру голубоватые ландыши. Вика нравилась себе. Она поправляла бантики, сделанные из рулика и завязанные на стыке оборок, напоминающие ей крылья бабочки. Она сама теперь чувствовала себя бабочкой или стрекозой, которой захотелось яркого света.
Она была очень привязана к мужу и давно принимала его таким, какой он есть: раздражительным, нерешительным, вечно несчастным, и сожалела о том, что греется лишь углями прошлого. Они пока еще давали ровное спокойное тепло, можно было прижаться к прогоревшей и закрытой печке, вбирая по капелькам ее тепло всем своим дрожавшим боком.







