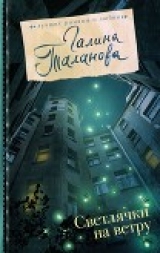
Текст книги "Светлячки на ветру"
Автор книги: Галина Таланова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
10
Отшумел выпускной. Она положила красные «корочки» диплома в верхний ящик письменного стола. В августе ее ждала первая в ее жизни работа. Впрочем, работать она была оставлена в лаборатории, где писала курсовые и диплом, и все ей там было давно знакомо. Половина ее сокурсниц уже были замужем. И она давно ждала от Владимира предложения. Родители относились к нему настороженно. Отцу не нравилось то, что он военный. Мама переживала, что ребенок уходит из-под ее крыла. Но, вроде как смирились со своим будущим зятем. Когда Владимир предложил расписаться, все восприняли это как должное. Она привыкла к нему настолько, что ей казалось, что все катилось в ее жизни правильно. И, в конце концов, если семейная жизнь не заладится, то можно будет все переписать…
Свадьбу, можно сказать, не играли. У Владимира это был третий брак – и свадьба ему была не нужна. Вика тоже совсем не хотела выступать в роли «рыжего на арене». Вика не стала рассказывать дома про третий брак своего суженого: она знала, что произнесут на это родители, не рассказала она им и про его ребенка. Расписались – и пообедали в узком семейном кругу у Натальи Ивановны дома.
У Владимира была бабушкина однокомнатная квартира, которую Наталья Ивановна сдавала то ли из-за денег, то ли не желая, чтобы дети жили там холостяцкой жизнью. В ней и решили поселиться молодожены. Квартира была в рабочем районе города, из которого до центра надо было добираться с пересадкой как минимум часа полтора. Вике очень не хотелось ехать в этот район – и она даже думала о том, не предложить ли Владимиру жить у них, но ее внутренний голос говорил, что это будет тяжело для всех и жизнь не сложится. Она была домашней девочкой, но ей хотелось почувствовать свободу от родительской зависимости и пожить настоящей взрослой жизнью.
11
Привыкала Вика к чужому дому тяжело. Все время хотелось домой к маме с папой. Она почти каждый день заезжала к ним после работы. Рассказывала все новости, пока мама разогревала для нее еду, ужинала и уезжала в свое новое жилье, к которому она никак не могла притерпеться.
Квартира была малометражной, построенной условно осужденными, тесной и захламленной. В комнате пять дверей: одна выходила прямо в крошечную четырехметровую кухню, две другие – в коридор (говорят, что вторая дверь в коридор была сделана в поздних проектах жилья специально для покойников, а первоначальный проект имел только одну дверь, но чтобы вынести гроб, его приходилось ставить почти на попа), четвертая вела в кладовку, а пятая – на балкон. Балкон выходил во двор, так густо засаженный деревьями, что Вике казалось, что она живет на даче.
У них с мужем теперь был один общий шкаф для одежды и один письменный стол на двоих.
Владимиру пришлось освободить три ящика стола для нее. Она хотела привезти стол из дома, но ставить его было некуда. Она так и сказала ему: «Придется тебе освободить для меня половину стола». Освобождал стол он с раздражением, неохотно, перекладывал свои инструменты: старый фотоаппарат, бинокль, альбомы с фотографиями – в посылочные ящики из фанеры. Ничего не убиралось. Он снова все вытаскивал прямо на пол и опять запихивал. Поставил ящики под столом к батарее: один на другой.
Его бесило то, что Вика не только работала за его столом, но и постоянно превращала его в туалетный столик, сидела за ним и наводила марафет. На нем вечно валялись ее крем, помада и тени. Она частенько ставила на него пузырек с жидкостью для рук, что в те годы продавали в аптеке, – и глицерин, смешанный с нашатырем, стекал по гладким бокам пузырька, оставляя на столе мокрое маслянистое пятно, резкий запах которого возвращал его с небес к действительности. Он стал стелить на стол газету, чтобы предохранить свои бумаги от жирных пятен. Вику это злило – и она сдергивала газету со стола, комкала ее, пачкая намазанные кремом руки типографской краской, шла в ванную, мыла там ладони, приходила – и снова ставила на письменный стол флакон с глицерином, оставляя блестящий жирный кружок на поверхности органического стекла, покрывавшего поверхность стола. Супруг не выдерживал и взрывался. Иногда она сама после его гаек, шурупов, диодов и рыболовных крючков стелила на стол газету – и тогда он смеялся после, ловя ее за серые загрубевшие локотки, которые она потом вынуждена была разглядывать в зеркале и оттирать той же маслянистой жидкостью для рук.
Ее тоже раздражало многое. Носовые платки, валяющиеся скомканными тряпками на постели, тумбочке и письменном столе; дурно пахнущие носки, раскиданные на полу у кровати и распространяющие специфический запах по всей комнате; разбросанные и постоянно играющие с ним в прятки нужные вещи. Но она никогда ему ничего не говорила и пыталась научиться не обращать на это внимания. С удивлением для себя Вика обнаружила, что привыкла иметь свой угол, в котором можно было скрыться от посторонних глаз даже родного и любимого человека. Впрочем, Владимир оставался по-прежнему чужим. Родными были папа и мама, бабушка и дедушка.
Семейная жизнь текла странно. Оба приходили домой поздно и уставшие: она заезжала к родителям, он – к друзьям и иногда тоже домой. Владимир оказался жаворонком и ложился спать в детское время: иногда в половине девятого, в девять. Для нее это было чрезвычайно рано, она не успевала порой даже начать заниматься домашними делами. Включить телевизор тоже уже не получалось: он мешал спать мужу, хоть она и не очень страдала от отсутствия ящика.
В первую же неделю своей замужней жизни к ней обратились с немного странной для нее просьбой. Владимир зашел на кухню, где она домывала посуду, и сказал, что поставит сейчас магнитофон с аутотренингом и очень ее просит тот выключить, когда он заснет. Без него ему засыпать тяжело. И вообще он хотел бы, чтобы она тоже приобщилась к этому аутотренингу. Она очень удивилась, ответила, что ей аутотренинг не нужен, у нее нет времени и желания слушать эту лабуду, но, ладно, так и быть, выключит. Когда пришла в спальню, увидела супруга, мирно посапывающего на спине, голова откинута набок… Занудный мужской голос бубнил из кассетника: «Я отдыхаю. Расслабляюсь. Чувствую себя свободно и легко. Я спокоен. Я спокоен. Я спокоен. Все тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. Мне тепло и уютно. Я погружаюсь в сон. Сон мягко обволакивает меня».
Постояла минуты две, слушая эти самовнушения. В растерянности выключила магнитофон, взяла книжку, забралась в кресло, включила торшер и попыталась читать. Глаза бежали по строчкам, будто человек по ступенькам эскалатора вниз, когда эскалатор движется вверх. Она оставалась на месте и с удивлением для себя поняла, что не запомнила из прочтенных полутора десятков страниц ни строчки. «Я отдыхаю. Расслабляюсь. Чувствую себя свободно и легко. Я спокойна. Все тело расслаблено. Мне легко и приятно. Я отдыхаю. Мне тепло и уютно». Спокойно не было. Было тревожно и тихо, как перед грозой. Тепло не было. Было просто очень душно. Но гроза была еще очень далеко, где-то на краю горизонта. Кромка горизонта выныривала из темноты в еще беззвучных всполохах света – и пропадала. Вика встала и открыла форточку.
На следующий день муж снова смотрел на нее собачьими глазами и просил выключить магнитофон, когда он заснет.
12
Вика никогда не была меркантильной девочкой. Напротив, она стеснялась говорить о деньгах и старалась всегда заплатить в кафе или кино, когда ее приглашали мальчики, сама. Каково же было ее удивление, когда ей впервые принесли зарплату: положили на пододеяльник, сказав, что это «на булавки»! Она даже растерялась. Сказала серьезно:
– Ой, спасибо! А на жизнь?
– Ну, я же обедаю в основном не дома. И за квартиру плачу.
Расстроилась неимоверно, пожаловалась родителям. Отец сказал, что он, конечно, их прокормит, но почему он должен содержать какого-то урода:
– Не хватает, чтобы удовлетворить все свои прихоти, пусть идет подработает хоть извозом, хоть охранником или грузчиком. Ему не объясняли дома, что обязанность мужа – содержать семью?
Она, запинаясь и чувствуя, что щеки ее полыхают, как от чая с малиной, передала Владимиру папины слова – и получила ответ:
– Профессорской зарплаты не хватает ребенку помочь?
В следующую зарплату ей выдали сумму в два раза большую, промолвив, что его матушка «передает ей деньгу». «Деньга» составляла одну десятую от Володиной зарплаты. Она ничего не сказала ему, подумала: «Он еще на ребенка дает… Но как они будут жить дальше?»
В выходные Вика чаще всего оставалась одна. После завтрака Владимир неизменно сбегал: к друзьям, родителям, в гараж. Вика прибирала квартиру, стирала, готовила, с горечью сознавая, что заставить Владимира помочь не в ее силах: его воспитали ТАК. Иногда в блаженстве растягивалась на кровати с книжкой, радуясь тому, что никто не мешает чтению. Она попросила его как-то отнести в прачечную белье: накопился огромный тюк. Тот согласился, но вернулся злой, сказал, что она его эксплуатирует, – и тут же исчез из дому. Возвращался часто навеселе, разговорчивый, лез с душными объятиями, и она морщилась от уже привычного запаха перебродившего винограда, смешанного с запахом мужских ног, топтавших его в давильне.
Хуже было, если его друзья приходили к ним. Она не любила шумных гостей и больших компаний, где все громко кричат и никто ничего не слышит. А все его друзья были шумные. Приходили всегда с бутылкой водки и очень редко с закуской. Нечасто – по одному, обычно заваливались по двое-трое, пятеро. Приготовленный ею на неделю обед за пару часов их сидения исчезал, холодильник был выпотрошен, как после налета саранчи, в раковине неизменно оставалась горка грязных тарелок.
Она уже видела, услышав телефонный звонок его приятелей, которые напрашивались к ним в гости, как небо на востоке чернеет, как грозная туча закрывает небосвод, как ласковое майское солнце меркнет, закутываясь в траурную вуаль. Первые насекомые градом посыпались на облитые розовым цветом фруктовые деревья ее взлелеянного и ухоженного сада, застучали по рифленой крыше дома. Над землей закружилась, завьюжила серая пурга. Близких не разглядеть. За шумом крыльев больше не слышно ее робкого протестующего голоса. С треском ломаются ветви яблонь под тяжестью осевшей на них саранчи. Вся округа побурела, словно сопревший под грузом тающего снега лист. Но туче на востоке не видно ни конца ни края.
Глубоким вечером саранча улетала, оставив на месте цветущего и благоухающего края голую, выжженную огнем пустыню. Накатанное железнодорожное полотно ее жизни сплошь было усыпано саранчой. Поезд сначала давил ее, а потом колеса начинали буксовать – и паровоз, беспомощно пыхтя и отфыркиваясь гнусной жижей, не смог втащить состав на небольшую горку.
13
Все чаще муж приходил домой пьяный, как говорится, в стельку. Вика и представить не могла, что такое бывает. Первый раз в ее жизни Владимир пришел таким с работы. Она открыла дверь на звонок, режущий тишину в квартире требовательным непрекращающимся трезвоном, – и отшатнулась в испуге. В квартиру ввалился покачивающийся – будто стоял в лодке, попавшей под волну от встречного теплохода, – муж. В лицо пахнуло уже знакомым запахом бродящего винограда, смешавшегося с острым кислым запахом рвоты.
Она отшатнулась. Хотела заругаться, но испугалась и поняла, что бесполезно. Комната была одна, прятаться и запираться было негде. Выскользнула на кухню, думая о том, что уйдет ночевать к родителям. Услышала, как Владимир тут же, не раздеваясь, прошел в туалет, где его долго рвало. Вика успела собрать сумку и какие-то тряпки. Бормоча «е-мое», муж рухнул на не разобранную кровать. Вика тенью проскользнула в прихожую – и сбежала.
Мама встретила ее настороженно, но Вика сказала, что муж уехал в срочную командировку – и она воспользовалась его отлучкой.
Сидела в своей девичьей спальне в кресле, смотрела, как гуляет легкая газовая занавеска, вдруг напомнившая ей фату и свадебное платье, – занавеска, в которую закутывался ветер, врывающийся в неприкрытую форточку, и думала о том, как же у нее дома хорошо. Ее дом был здесь. Там, откуда она прибежала сегодня, было чужое жилье, где она немного погостила. А здесь было светло, как в саду в солнечный день, просторно и уютно. Все радовало глаз: и поцарапанный письменный стол с лиловым пятном с правой стороны от когда-то пролившихся чернил, которое так въелось в дерево, что его было не вывести; и поцарапанный старый комод с отломанной ручкой у верхнего ящика; и книжный шкаф, в котором красовались учебники старших классов наперегонки с толстыми фолиантами университета, словарями и справочниками в настоящих дерматиновых и коленкоровых переплетах; и оранжевый жизнерадостный торшер, пропитанный светом, как соком лучащаяся на солнце хурма. На кровати лежал ее любимый плюшевый слоник, с которым она спала половину своей жизни. Она взяла любимую игрушку, прижалась к ее мохнатой серой голове, вдыхая запах ткани, впитавший ароматы ее детства: лимонного крема, молочка «Утро», косметического вазелина и хвойного шампуня, – как вдруг спазм перехватил горло – и слезы закапали из глаз на макушку слоника, точно первые капли дождя.
Запах вина она терпеть не могла с детства. Отец у нее пил редко, «по праздникам», как напишут потом в амбулаторной карте, но почти каждый предпраздничный день приходил с работы с запахом спиртного, учуяв который мама обязательно устраивала скандал. И маленькая Вика его упрашивала перед праздником: «Ты, папочка, только домой пьяный не приходи. Я не люблю, когда ты так пахнешь». Как получилось, что она не обратила внимания на запах вина, который несколько раз улавливала от Владимира при их непродолжительном знакомстве? Один раз она даже видела его пьяным по-настоящему. Надрался на дне рождения друга. Заправски разливал прозрачную жидкость. Тот день рождения был веселым. Общались, шутили, смеялись. Владимир подливал и подливал, не обделяя себя. Но, если многие только чуть-чуть отпивали, а то и просто макали губы в пьянящую жидкость, делая вид, что пьют, то Владимир с легкостью опорожнял стопку за стопкой. Она это видела, расстроилась, но решила, что это случайно. «Ну, с кем не бывает?», как говорила ее соседка, когда кто-нибудь из подъезда жаловался на ее напившегося сына, опять заснувшего на лестнице и перегородившего проход.
На следующий вечер пришла домой, но опять раньше мужа. Дверь в ванную была открыта – весь унитаз заляпан остатками непереваренной пищи. Острый застоявшийся запах ударил в нос. Зажала нос, захлопнула дверь в ванную и решила, что ничего убирать не будет: пусть отмывает сам. Оставила записку: «Убери, пожалуйста, свое безобразие. Я вернусь только в чистую квартиру», – и ушла опять к родителям.
На другой день застала прибранную квартиру, в холодильнике ждала подрумянившаяся в духовке курица и запеченная картошка. На туалетном столике лежали две шоколадки.
Решила не ругаться, хотя была настроена на разговор. Но «явка с повинной» смягчала вину.
Все же не выдержала, сказала все, что думает о его выходке. Муж понуро молчал – и это придавало ей сил.
Через неделю все повторилось. И снова она уходила к родителям. И опять она пилила мужа, чувствуя мягкую и рыхлую породу под стальными зубьями. Муж бренчал связкой ключей и ничего не говорил в ответ.
Она пожаловалась Наталье Ивановне, та повздыхала, сказала, что такая уж женская доля – терпеть. Она вон троих мужчин терпела. И вообще она думает, что Вика мало уделяет ему женского внимания и не удовлетворяет его как женщина, иначе бы Вова не бегал по компаниям и не напивался. Вике было до слез обидно. Хотелось зарыться в мамины колени и не видеть этой взрослой жизни… Ее бы гладили по вздрагивающим лопаткам и говорили, что к свадьбе все заживет. К свадьбе действительно все зажило, а вот после…
Самое удивительное было то, что она любила Владимира и ничего не могла с собой поделать. Морок рук и губ перетягивал на себя одеяло рассудка. Его мягкие влажные губы на ее полудетской еще груди, от холода и страха покрытой пупырышками, будто у кактуса, которые бесследно растворяются по мере того, как губы скользят все ниже и ниже… Кактус расцветал удивительно нежным розовым цветком, источающим странный, острый, но чарующий аромат.
Она ждала его с работы и думала, что вот сейчас окажется в его объятиях.
Обиды копились, как в лодке дождевая вода: и утопить не утопят, и плыть некомфортно. Все чаще она с горечью думала, что в ее жизни что-то пошло совсем не так, как мечталось. Она стала замечать, что становится раздражительной. Ходила по комнате, как зверь по клетке, если Владимир задерживался. В один из поздних вечеров, когда они уже обменялись с мамой по телефону новостями и она закипала, точно молоко, оставшееся без присмотра: готова была убежать, она взяла и включила магнитофон мужа с его записью аутотренинга. Бархатный баритон внушал: «Вы глубоко и с удовольствием вдыхаете легкий прозрачный горный воздух. Он наполняет легкие и вместе с кровью проникает в каждую клеточку вашего тела. Чувствуете, как легкость и чистота наполняют вас. Погружаетесь в приятную теплоту майского солнца. Ощущаете запах молодой свежей травы. Трогаете ее руками – сочную, ярко-зеленую…»
Когда Владимир пришел, то жена не выбежала ему навстречу в прихожую, не бросилась в его распахнутые руки, губы не вспорхнули мотыльком по щеке к его губам. Раздевшись, прошел в комнату. Жена безмятежно спала под привычное чужое бормотание: «Я спокоен. Мне хорошо и тепло. Я растворяюсь в блаженстве и неге». Тоненький синий ручеек на виске пульсировал под полупрозрачной кожей, напомнившей ему лепестки лилии на солнечном свету. Полудетские губы приоткрыты, обнажая ряд мелких зубов, похожих на промытые морской водой блестящие белые камушки. Волосы разметались по подушке, точно вздыбленные ветром. Одна нога выкинута из-под одеяла, ровно маленький тюлень на льду. Вздохнул, задыхаясь от нежности и поднимающегося желания, выключил магнитофон и ушел в гостиную смотреть телевизор.
Теперь Вика каждый раз, как только начинала переживать из-за долгого отсутствия мужа, включала магнитофон с записью тренинга, представляла яркий солнечный день – и будто после долгого и изнуряющего заплыва проваливалась в забытье на пляже.
14
Вика почти никуда теперь не выходила: работа – дом, дом – работа. И поэтому обрадовалась, когда приятель Владимира пригласил его на свадьбу. Чем меньше дней оставалось до вылазки в ресторан, тем возвышеннее становилось ее настроение. Купила новое платье. Почти вечернее. Из темно-вишневого бархата с золотистой пелериной. Сделала прическу в салоне-парикмахерской. Волосы причудливо заплели, вплетя в косу золотистые ленточки. Смотрела в зеркало – и не узнавала себя. Настоящая царица! Надушилась духами, благоухающими цветущим жасмином.
Свадьба была многолюдная и шумная, где половина народа друг друга совсем не знали. Кричали громко «Горько!», устраивали конкурсы, танцевали.
Она немного потанцевала в начале вечера с мужем, но по мере приближения ночи муж все больше пьянел, танцевать ему становилось тяжело, он отсел от нее в компанию парней, где они что-то оживленно обсуждали и смеялись. Она сидела в растерянности и скучала. Подошла к мужу, попыталась вытянуть его танцевать, но муж буркнул: «Отстань. Дай пообщаться!» Ушла за столик, рядом сидела влюбленная пара, которая только что подала заявление в загс. Ребята просто не сводили друг с друга глаз – и Вике казалось, что в их блестящих очах отражаются все люстры. Парень все время гладил руки девушки, когда они ненадолго отдыхали от танцев, и влюблено целовал то сгиб ее локтя, то голубой ручеек вены, то прикладывался губами к атласным плечам подруги. Они не пропускали ни одного парного танца. Как только начиналась плавная музыка, парень тянул подругу в круг зала – и они танцевали, до неприличия тесно вжимаясь друг в друга. Рука его постоянно съезжала с ее талии ниже. Вика с грустью смотрела на влюбленных, думая о том, что все – дым. Сухие сучья, завернутые в бересту, прогорят, весело потрескивая, и от дыма не останется ни следа. Один серый пепел в глазах вместо огня.
– Позвольте, сударыня, пригласить вас на танец?
Вздрогнула от неожиданности, так как уже отсутствовала в этом зале, а была в том кафе, где Владимир необъяснимо и непостижимо для ее здравого ума примагнитил ее к себе. Очнулась – высокий стройный блондин стоял перед ней.
Блондин оказался художником. Вел ее в танце очень легко. Порхала, как бабочка вокруг невзрачного цветка, думая: «Присесть или нет?» Оказалось, что юноша когда-то занимался бальными танцами и даже был дипломантом какого-то конкурса. Она не очень хорошо умела танцевать, но тут словно растворилась в партнере. Кружилась в его надежных руках, будто сброшенный с ветки осенний лист, подхваченный ветром. Ей казалось, что он даже отрывал ее от пола и поворачивал в нужную сторону. Она забыла о муже, сидящем где-то за столиками и наливающем очередную рюмку. Губы подрагивали в улыбке, словно стрекозьи крылышки. Глаза сияли всем светом люминесцентных ламп, отражавшихся в ее зрачках, словно в темном омуте. Ей даже не очень-то интересен был этот художник. Просто она отдалась музыке и плыла по ее волнам, где партнер был отличный гребец, ведущий лодку через пороги.
За первым танцем последовал новый. Ее душа будто на дельтаплане парила с замирающим сердцем… Она так хорошо никогда не танцевала. Ах, почему же она такая неуклюжая и ее никто не научил танцевать?
Лица мелькают, вот ее кружит уже не художник, а какой-то бородатый младший научный сотрудник на полголовы ниже ее, вышагивающей на каблуках. Но это ничего, что ниже на полголовы: видно других танцующих, когда устаешь смотреть в глаза, поднятые на тебя, словно к небу. Поверх голов танцующих она видит пьяного мужа, сидящего в компании друзей. Они что-то обсуждают и смеются.
Вот она танцует уже в кругу, где двое молодых людей держат ее за руки, и счастливо улыбается, вспоминая елку в детском саду: там вот так же водили хоровод.
– Та-тата, та-тата…
Вдруг чувствует резкий рывок за руку – и круг размыкается, выпускает ее и снова смыкается, превращаясь в единое движущееся целое…
Дальше ее тащат куда-то по ступенькам мраморной лестницы – и она очень боится поскользнуться и сломать себе шею. Боковым зрением она видит перекошенное от ревности лицо мужа, и ей делается смешно.
– Ты что, очумел? Перебрал?
Потом ее больно толкают в спину в случайно пойманное такси, что остановилось у гостиницы рядом с рестораном и высадило своих пассажиров, – они едут в гробовой тишине по ночному городу, где за окнами им весело подмигивают огни реклам… Муж укачивается по дороге, словно ребенок, и спит, откинувшись на заднее сиденье. Вика будит его, когда они въезжают во двор. Муж растерянно встряхивает головой, не понимая, где он, и пытаясь отогнать пригрезившееся видение. Больно сжимает ее предплечье, так, что она со страхом думает, что могут остаться синяки на ее изнеженной коже. Дальше они с трудом поднимаются по лестнице, останавливаясь через каждые пять ступенек отдохнуть. Они опять не разговаривают.
Дома Владимир сразу же, скинув обувь, падает на застеленную постель и проваливается в небытие. Вика растерянно сидит на кухне и не знает, что ей делать. Идти спать в кровать, где сопит, как локомотив, муж, ей совсем не хочется. Пьет горячий несладкий чай, опустив в него кружочек лимона… Подцепляет серебряной ложечкой дольку яблока из варенья и разглядывает ее на свет, взяв пальцами. Ей кажется, что в ее руке янтарь, который долго шлифовало море и наконец выкинуло на берег. Этот янтарь пропускает сквозь себя желтый электрический свет – и Вике мерещится, что это солнце, играющее на окаменевшей смоле в солнечные зайчики. Она думает, что вот так и в жизни… Видим всегда то, что хотим видеть, не замечая, что это фантом. Крупные, как горошины, слезы падают в горячий чай, растворяясь в нем, расплавленный от света янтарь течет сладкой патокой по дрожащим пальцам. Она запирает крик в клокочущем горле – и слышит доносящийся из комнаты ровный храп мужа, от которого хочется заткнуть уши. Она идет в комнату, устраивается в кресле, положив ноги в другое, приставленное рядом. И чувствует, что висит между двух опор, которые вот-вот могут разъехаться от ее неловкого движения. Ей хочется плакать. Сон, как тяжелое ватное одеяло со сбившимся ватином – до такой степени, что местами ощущается лишь тонкий атлас, – медленно наползает на нее.







