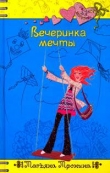Текст книги "Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины"
Автор книги: Галина Артемьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Шестидесятые!!!
Дружба народов
Шестидесятые – удивительное время. Все меняется, все бурлит… Дух перемен веет над планетой.
Я слежу за изменениями мира с жадным интересом. Я не успеваю вносить исправления в мою видавшую виды политическую карту мира. В Африке столько новых государств образовывается: одно за одним. Территории, бывшие веками колониями европейских стран, провозглашают собственную независимость.
1960-й год объявили Годом Африки – именно тогда образовалось на далеком континенте целых 17 новых государств!
Я мечтаю об Африке. Мечтаю посмотреть мир. Я пока не знаю о том, насколько ограничены мои возможности в этом отношении. Не только мои, разумеется. Возможности всего народа, которого называют советским.
Пока я мечтаю. Нам постоянно твердят, что в нашей свободной и счастливой стране перед нами открыты все пути. И почему бы мне в это не верить?
Почему-то больше всего меня манит пустыня. Странно, необъяснимо. Мне хочется медленно-медленно двигаться по пескам, сидя между горбами огромного верблюда. Мы с ним – часть огромного каравана. Верблюды знают дорогу к оазису в пустыне. Они уверенно идут туда. Я смотрю на пески, и конца им нет…
Эта картинка завораживала…
И еще я мечтала – о совсем другом континенте, о маленьком острове, который гордо называли Островом Свободы.
«Большая зеленая ящерица с глазами из влажного камня», – так сказал о своей родине кубинский поэт Николас Гильен.
Слова эти сводили меня с ума своей красотой. Я одержимо мечтала о Кубе, на которой свершилась революция.
Вот они – прекрасные молодые «барбудос» – бородачи. Фидель Кастро поклялся не сбривать бороду, пока не победит революция окончательно и бесповоротно. И все его соратники – тоже пообещали. Как же я мечтала оказаться там, среди них! Как я надеялась, что революция продлится еще несколько лет, пока я чуть не подрасту.
А пока… Что я могла сделать?
Я приняла решение учить испанский язык. Иностранные языки в обычной школе начинали тогда учить в пятом классе. Да и не преподавали в нашей школе испанский. И вот в третьем классе в руках моих оказался учебник испанского языка для спецшкол. Первый год обучения. Энтузиазм мой был так велик, что я самостоятельно проштудировала весь этот учебник (начиная от латинского алфавита, заканчивая текстами о Ленине и Советском Союзе) примерно за первое учебное полугодие.
Видя мое рвение, Танюся купила мне две бесценные книги. Первая: самоучитель испанского языка, который назывался «Давайте говорить по-испански» и разговорник русско-испанский и испанско-русский. Дело пошло быстрей и продуктивней! В самоучителе очень понятно все объяснялось. Настолько понятно, что радость охватывала:
– Ура! Я могу! У меня получается!
А разговорник я использовала так. Отметила самые важные фразы по темам и их заучивала целиком. Там попадались темы, которые я сразу отмела за ненадобностью. Например, «Посещение завода (колхоза) делегацией». И вопросы: «Какова производительность труда на вашем заводе? Участвуют ли колхозники в социалистическом соревновании?» Подобные темы мне и по-русски были глубоко отвратительны, а уж заучивать это по-испански… Ну нет!
…В Москве между тем появилось много молодых людей необычного для наших широт вида – из стран, обретших независимость. Они потянулись за знаниями в Страну Советов. Ради них был открыт целый университет, который так и назвали: Университет Дружбы народов. И имя университету присвоили в честь африканского борца за независимость – Патриса Лумумбы. Но поскольку в знаменитом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» упоминалось племя Мумбо-юмбо, как-то само собой получилось, что часть москвичей, не привыкших еще к имени африканского героя, называли новый вуз университетом Мумбо-Юмбо, а иные просто – Лулумба.
Я очень любила здание МГУ на Ленинских горах. Величественная высотка, возвышающаяся над городом, поражала воображение. Мне казалось, что в университетах учатся люди совершенно особенные, наделенные выдающимися способностями. Я все фантазировала, что же за Университет построили в честь дружбы народов. Гадала, представляла нечто небывалое. Приставала к Танюсе с просьбами поехать и посмотреть на новый университет.
– Ничего там особенного. И не надейся. Обычное здание, – разубеждала меня Танюся.
Но я ее все же уговорила. Мы отправились.
Мы доехали до Донского монастыря. Прошли вдоль его стен. Оказались у довольно невзрачного дома.
– Вот он, университет твой ненаглядный, – показала мне Танюся.
Я была разочарована.
– Говорят, будут на юго-западе основные корпуса строить. Наверное, там что-нибудь такое возведут, особенное, – постаралась утешить тетечка.
Мы так и стояли у кирпичной стены монастыря.
– Хочешь – зайдем, – предложила Танюся.
Мы зашли на территорию монастыря. Как всегда возле церкви, я ощутила тоску от вида запустения и чувства поругания чего-то очень важного, названия чему я не знала.
Вдоль внутренних стен на открытом воздухе стояли величественные скульптуры. Танюся рассказала, что это спасенные от уничтожения статуи, находившиеся во взорванном в тридцатые годы храме Христа Списителя.
– Уничтожили, – сокрушалась Танюся. – Кому мешал? Я ходила на работу пешком. Иду, бывало, и на купол оглядываюсь – его отовсюду было видно. И на душе легче делалось. А теперь там яма… Бассейн. Взрывали несколько дней. Никак у извергов не выходило. Люди стояли и плакали…
Я страшно затосковала от этого рассказа.
– Почему же никто не вступился? – спросила я. – Почему просто стояли и плакали? Надо было прогнать этих гадов.
– Все, кто вступался, сгинули, – вздохнула Танюся. – Такие времена.
Я, в который уже раз, осознала, что не туда попала при рождении. Дурацкое ощущение. Что значит – не туда попала? Кому-то ведь надо и здесь…
– Плюют народу в душу, – говорила словно про себя Танюся. – Такое добром не кончится…
Я постаралась не думать о плохом. Я убеждала себя надеяться на то, что худшие времена миновали, что все образуется… Заживем – и все будет хорошо.
Вот ведь как интересно становится: дружба народов расцветает. Танюся в своей академии стала работать на специальном факультете, который открыли для иностранных военных из дружественных нам стран. Их учили боевому мастерству наши офицеры-победители.
Наша богатая и огромная страна помогала всем новым странам. Мы везде строили светлое будущее. Наше топливо, наши запасы продовольствия, наши специалисты, наши средства – все отдавалось в развивающиеся страны ради идеи мировой революции.
Зарплаты и быт наших граждан, если смотреть на них незатуманенным взором, были нищенскими. Однако – жизнь без войны и надежды на будущее поддерживали веру в возможные улучшения.
Хотя… Если вспомнить жизнь русской деревни в конце 50-х – начале 60-х и сопоставить эту многотрудную, унизительно скудную, беднейшую жизнь с теми миллиардами, которые уплывали в неведомое афро-азиатское далёко, то иначе как преступлением против собственного народа такую политику назвать не получается.
«Зиганшин буги, Зиганшин рок…»
В марте 1960 года мы были потрясены известием, как четверо ребят с нашей оторвавшейся и унесенной в Тихий океан баржи семь недель провели практически без еды, с очень скудным запасом пресной воды.
Я до сих пор помню их фамилии: Зиганшин, Поплавский, Крючковский, Федотов.
Ребята выживали, как могли. Они в первые же дни их вынужденного плавания лишились сетей, так что рыбой питаться не получилось. Варили кожаные ремни в соленой океанской воде. Даже сапоги варили и ели… Они все надеялись, что их найдут. Но дни шли за днями. Они слабели. Теряли надежду. А нашли их американские моряки. Они их подняли на свой корабль, кормили потихоньку… Ребята оказались в Америке, их чествовали, как героев. Помню, читала я интервью Зиганшина. Его спросили, откуда у них столько мужества и силы духа, а он сказал:
– На нашем месте так поступил бы каждый советский человек.
Вот я и думала: а я выдержала ли бы? Достойна была бы звания советского человека. Вон – Зиганшин верит, что да…
Танюся купила журнал «Америка», где наши герои уже были прекрасно одеты, в красивых пальто, шляпах. Это все им там подарили американцы.
Я была охвачена восторгом! Вот ведь здорово! Спаслись!
И как же я была удивлена, когда услышала, как наши вздыхают:
– Вот вернутся домой ребятки, кто знает, что тут с ними будет?
Я разволновалась:
– А что с ними тут может быть? Их будут встречать, как героев. Они же герои, да?
Тогда мне рассказали, что во время войны попасть в плен считалось преступлением. То есть – вот ранили тебя, ты лежишь, истекаешь кровью, сознание потерял. Взяли тебя в плен. И все! Ты уже преступник! Ужас! Что ж делать-то? И что потом было с этими пленными?
– Большинство отправили в наши лагеря.
– Как?! После фашистских лагерей – в наши?
– Да.
Это в голове моей не хотело помещаться. Я не понимала – и все. Просто не понимала, за что.
Оказывается, не за что, а потому что. Потому что такие законы были в стране.
И тогда я стала желать Зиганшину-Поплавскому-Крючковскому-Федотову, чтобы они лучше остались в Америке. Вон какие у них там шляпы появились!
Но они все-таки вернулись домой. И, к счастью, их не посадили, им ничего не было за то, что они выжили и оказались спасенными американскими моряками. Наоборот: все радовались.
И даже пели песню на мотив американского танца буги-вуги:
Зиганшин – буги!
Зиганшин – рок!
Зиганшин съел второй сапог…
«Точу ножи-ножницы!»
Иногда во двор приходил человек-праздник. Он нес на плече небольшой станок. Останавливался, ставил ношу на асфальт и зычно объявлял:
– Точу ножи-ножницы!
Призыв его слышали прежде всего мы, дети, играющие неподалеку. Теперь надо было успевать. Мы бежали домой и сообщали:
– Точильщик пришел!
– Скажи, чтоб к нам поднялся.
Человек со станком уже работал во дворе: нажимал на педаль своего станка ногой, серое каменное колесо от этого быстро-быстро вращалось, когда к колесу подносили нож, во все стороны разбегались искры… Салют! Вжжжж! И сноп искр! Глаз не оторвать.
Потом он шел по подъездам, в те квартиры, куда его просили подняться.
У нас всегда было много чего для работы точильщика: и большие ножи, и маленькие, и маникюрные ножнички.
Покончив с основным занятием, точильщик собирал вокруг себя детвору. Он менялся с нами: мы ему стеклянную бутылку, а он нам за это – немыслимые сокровища: колечки с разноцветными камушками. Для мальчишек тоже припасены были интересующие их предметы. У нас же глаза разбегались от вида драгоценностей. Радостная торговля! Колечко можно было выбрать, примерить… Какое-то время после визита точильщика мы все щеголяли в перстеньках с рубинами, изумрудами, сапфирами. Ах, как красиво они переливались на свету!
Тяжелым трудом зарабатывал свой хлеб человек-праздник. Сколько стоили ему эти колечки со стеклышками? Пару копеек – и собственный труд. А бутылку он сдавал за 12–15 копеек. Рюкзак за его спиной, набитый пустыми бутылками, стоил от пяти до десяти рублей. Если подсчитать, месячный заработок оказывался бо́льшим, чем у среднестатистического инженера. Нам было не до этих скучных мыслей тогда. Мы наслаждались счастливыми приобретениями.
Потом колечки надоедали… Они никогда не ломались, сделаны были на совесть. Просто кольца мешали рыться в земле или играть в мяч. В какой-то момент, насытившись радостью, которую украшение дарило своей обладательнице, его, как обузу, снимали с пальца, обменивали на что-то другое или просто прятали в свою шкатулочку.
Точильщик снова появлялся, снова возникали мечты и желания…
Они исчезли незаметно к концу шестидесятых. Перестали ходить по дворам. Наверное, кому-то помешали.
Моя тёзка – Танюсина подруга
У Танюси имелась замечательная подруга. Звали ее, как и меня, Галя. Личность это была колоритнейшая, благодаря ей я узнала много нового. Она по натуре была открывателем далеких горизонтов.
Познакомились они и подружились почти сразу, как моя Танечка оказалась в Москве. Галя, старше на пару лет, была коренной москвичкой. Как именно завязалась их дружба, я не знаю. На моей памяти дружили они всегда.
Галя родилась в Замоскворечье, в богатой купеческой семье, в собственном двухэтажном доме, построенном по последнему слову тогдашних требований. В доме имелись две ванные комнаты и ватерклозеты. Нижний этаж – кипичный, с высоким, под четыре метра потолком, с большим залом для гостей, с роялем. Под нижним этажом находился подвал, вернее, как потом назвали помещения такого рода, полуподвал: там имелись окна, батареи отопления, электричество и – опять же – сантехнические удобства. Там отец семейства занимался делами и хранил товар. А вот второй этаж был деревянный, с низеньким потолочком, маленькими узкими комнатками – для прислуги, приживалок и другого, не очень важного люда.
Отец нашей Галочки был купцом потомственным, дело свое знал и любил, в Англию с молодой женой плавал, учился, как там у них дела ведут. Когда родилась дочка (первая и единственная), отправлял жену с ребенком и с родителями жены в Германию и Швейцарию – на воды и горный воздух. Галина мама играла на рояле – училась этому с детства. И дочку свою стала учить, как та научилась своими ножками к инструменту подходить.
Других деток не случилось, как потом говорила Галина мама, к счастью.
Гале было десять лет, когда пришли люди и отняли у них все: все товары, все личные вещи (ничего не успели припрятать), даже рояль вывезли. А в дом их заселили людей. Вообще-то – Галя говорила:
– Тараканы из нор повыползали и зажили в нашем доме.
Тараканы – не тараканы, но урон от них был явно не тараканий. Они вмиг ухитрились распотрошить богатый, построенный на века дом, превратив его во вшивую конуру. Зажили везде: и в полуподвале, перегородив его фанерками, и в зале, который тоже разделили на конуры-пеналы, и в хозяйской спальне.
Галю с папой и мамой на улицу не выгнали. Оставили им две комнатушки под крышей. Папа умер после этого через пару месяцев. И Галя за него радовалась. Потому что потом могли арестовать, посадить, мучить, казнить. А так – умер по-христиански. Даже батюшка пришел, причастил, пособоровал.
Вот остались они с мамой одни. И очень бедствовали. Мечту о музыке осуществить возможности не было никакой. В 14 лет Галя поступила учиться в медицинское училище на акушерку. Мама посоветовала, сказала, что люди всегда рождаются, поэтому акушерки при любой власти будут нужны.
Когда в 17 лет она впервые присутствовала при родах, решилась ее судьба. Она испытала такой ужас и отвращение от процесса появления на свет человека, что поняла: никогда и ни за что рожать она не станет. Мало того: несколько обязательных присутственных дней в роддоме, которые полагались на студенческой практике, позволили сделать вывод о том, что этой профессией заниматься она не сможет. Диплом Галя получила и тут же прошла специализацию по физиотерапии. У нее открылся особый дар массажистки: она умела руками снимать боль. Я тому свидетель, потому что Галя помогала Танюсе, страдавшей полиартритом на протяжении многих лет. Помогала по дружбе. О том, чтобы брать деньги у подруги, и речи быть не могло. Потом, когда у тети Ани обнаружился тромбофлебит, Галя приезжала чуть ли не каждый вечер с пиявками (они очень облегчали страдания), ставила их, убирала.
Она была настоящим другом, с щедрой и доброй душой.
Работала Галя в какой-то закрытой клинике, получала сущие гроши, подрабатывала частными массажами. Был у нее до войны муж, которого арестовали и расстреляли в конце тридцатых. Больше замуж она не выходила, хотя предлагали не раз. Она отличалась красотой: высокая, стройная, узкое лицо, руки, тонкий нос с горбинкой, ярко-голубые глаза, нежная кожа… Не для такой жизни была рождена…
Танюся возила меня в гости к своей подруге Гале в Замоскворечье. Я видела ее маму, казавшуюся мне дряхлой древней старушкой. Галина мама ступала тихо-тихо и говорила почти неслышно, только голубые глаза, точно такие, как у дочки, сияли иногда, если она их поднимала, взглядывая на собеседника.
Мы поднимались к ним с черного хода, по ветхой качающейся деревянной лестнице. У дома имелся свой запах, особенный. Я его называла «старинный». Так пахло в Третьяковской галерее, куда меня часто водила Танюся. Купец Третьяков завещал свой дом и галерею с уникальнм собранием картин своему родному городу Москве.
Я, приходя в Третьяковку, все время вспоминала судьбу Галиного папы, их дома и очень радовалась за Третьякова, что он умер за 20 лет до всех ужасов, которым предстояло свершиться. (Как это сочеталось в моей душе – не пойму. Я была верным октябренком, потом юным пионером, всегда готовым… А вот за Третьякова тем не менее радовалась. И Галиной семье сострадала.)
Га́лина нежная, утонченная внешность была совершенно обманчивой. За этой лилией скрывалась душа настоящей воительницы, бескомпромиссной и бесстрашной. Она порой пугала взрослых своими высказываниями. Меня же ее дерзость приводила в восторг.
Особенно не уважала Галя Хрущева. Собственно, именно благодаря Галиным характеристикам этого руководителя Страны Советов я и познала азы живого, лихого, скоморошьего моего языка, на котором уж если обозначат кого прозвищем, прилипнет – не смоется.
«Выражается крепко русский народ…» Это еще Гоголь отметил.
Галя доказывала правоту великого писателя на каждом шагу, особенно если речь заходила о Хрущеве. Галя имела твердое убеждение, что он появился на белый свет с одной целью: служить сатане и сгубить Россию.
Я слушала изо всех сил! Как-то даже вступила в разговор, что мне строго запрещалось по малолетству. Она когда завела про сатану, я тихо сказала:
– Бога нет, и сатаны нет. (Просто по-булгаковски получилось, но кто ж тогда знал.)
Галя это услышала своим чутким музыкальным ухом и отреагировала:
– И Бог есть, и сатана. Не волнуйся. Вот смотри…
Она схватила какую-то центральную газету (то ли «Правду», то ли «Известия»), на первой же странице которой красовались портреты наших руководителей.
– Смотри, – велела Галя. – Есть тут хоть одно красивое, человеческое лицо?
Вопрос прозвучал серьезный: не в бровь, а в глаз! Я сама все смотрела на эти портреты и искала хоть одного красивенького. Ну такого, чтоб понравился, чтоб влюбиться можно было, если б был молодой… Красивеньких не обнаруживалось совсем. Одни уроды.
– Ну что? – пытливо посмотрела на меня Танюсина подруга. – Нашла красивого?
– Нет красивых! – подтвердила я, не понимая, при чем тут нечистая сила.
– Запомни на всю жизнь: там, где нет красоты, там дьявол орудует. Настоящая красота от Бога. Уродство и фальшивая красота – от сатаны.
– Галь, она еще ничего не понимает, – миролюбиво вступилась Танюся. – Давай потом, когда подрастет.
– Все понимает, – отрезала Галя. – Ты, Танька, отстань. Она должна знать, где живет.
Танюся почему-то никогда не сердилась на свою Галю, даже если та грубила. «Она – человек с золотой душой» – так объясняла мне тетя насчет своей подруги.
– Смотри, – тыкнула Галя своим прекрасным длинным перстом прямо в портрет Хрущева (надо сказать, что она
его называла исключительно Хрущ, поясняя при этом, что это такой жук-древоточец), – смотри: Хрущ. У него же даже не лицо, а ж-па!
Никто и никогда у нас дома не говорил таких ужасов! Я думала – сейчас просто гром раздастся, потолок рухнет!
Нет! Танюся полуотвернулась, и я поняла: она смеется украдкой. Вот какие дела!
Не лицо, а жопа!
Естественно, такое выражение намертво впивается в детский мозг… Но об этом чуть позже.
Причины своей ненависти к «жучку-древоточцу» Галя не скрывала. Она говорила так:
– Украину в крови утопил? Утопил! Самым распоследним холуем у Сталина был? Был! А когда холуй до власти дорывается, он только и умеет одно: рушить!
Про Галины разговоры я вспомнила много позже, читая знаменитые мандельштамовские строки стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…»:
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит,
Он один лишь бабачит и тычет…
…Да, нам в тот период достался вождь из тех, тонкошеих, трепетавших от благоговения и страха при тиране. Он дождался своего часа и взялся править. И пошло-поехало – весь мир не переставал удивляться…
Хрущев, кукуруза и другие приключения
Безусловно, хулиганская Галина фраза, поразившая мое воображение, оказала свое тлетворное вляние на некоторые стороны моей тогдашней жизни. А именно: я, к удивлению старших, полюбила смотреть телевизор.
Телевизор появился у нас, когда мы переехали на новую квартиру. До этого я ходила смотреть некоторые детские передачи в гости к своей подружке Оле Боковой. У них был телевизор марки КВН, такой громоздкий аппарат с крохотным экранчиком, перед которым устанавливалась стеклянная линза с водой, увеличивающая изображение. Даже странно сейчас, что вокруг этого примитивного экрана собирались хозяева квартиры, их соседи (пускали всех – просмотр передач считался святым делом), рассаживались вокруг и сосредоточенно смотрели, боясь пропустить хоть слово.
Наш телевизор назывался «Старт-3». Экран его не требовал дополнительного увеличения. Прогресс шагнул далеко. К телевизору у нас не особенно пристрастились. Смотрели лишь иногда, музыкальные передачи, концерты в основном. Бывало, художественные фильмы. Мне разрешалось смотреть только детское. То есть – самое неинтересное. Впрочем, особо я не горевала. Было и еще кое-что, что мне смотреть не запрещалось, тем более показывали ЭТО днем. Это были речи Хрущева, которые он произносил на съездах и пленумах. Я садилась перед телевизором и вдумчиво вглядывалась в экран.
– Что тебе там интересно? – спрашивали тети. – Что ты понимаешь?
…Я смотрела на эти выступления с позиции Галиного определения лица нашего главного начальника. Внутри меня разливался счастливый детский смех. Как же она права! Как права!
Вот лидер страны говорит по-русски так, что ученику начальных классов сделали бы замечание.
– ОппортунизЬм, сицилизЬм, коммунизЬм…
И зал взрывается аплодисментами. И я для себя понимаю, почему ему можно, когда нам нельзя.
Потому что «не лицо, а…».
Лицу – нельзя, а ж… говорящая – это чудо света! Ей – можно!
Вот почему я смотрю и не могу наглядеться. Для меня это аттракцион.
Много чудес творит разбушевавшийся тонкошеий вождь. Ох, много.
Что помню лично я как непосредственный пожинатель плодов его деятельности:
– чудеса его внешней политики – он ухитрился рассориться со всеми, с кем мог, даже с очень близкими в идейном плане союзниками, он кричал американским дипломатам на приеме в Кремле: «Мы вас закопаем!» (это еще в 1956-м), а на сессии Генеральной ассамблеи ООН даже стучал туфлей и обещал показать американцам кузькину мать; над миром опять нависла угроза войны, на этот раз ядерной. Карибский кризис приблизил эту угрозу настолько, что дома всерьез обсуждали какие-то действия в случае, если бомбу на нас сбросят (от реальных попыток спастись до анекдота: «Что делать, если неподалеку сбросили атомную бомбу? – Завернуться в белую простыню и ползти на кладбище».
…Потом я прочитала много западной литературы о том, как мирные жители панически боялись атомной угрозы с нашей стороны, как строили бункеры и прочее. Мы, естественно, боялись того же со стороны империалистов. У меня развился устойчивый страх-реакция на звук летящего самолета. Когда я была дома одна, я залезала под стол. Глупость? Да, ясное дело. Но, видимо, сказались воспоминания раннего детства, мока, будь она неладна…
– Хрущев был настроен против религии совершенно оголтело. При нем были уничтожены чудом сохранившиеся прежде храмы.
– Он боялся и ненавидел настоящих фронтовиков-полководцев. Во время его правления прошло огромное сокращение армии, причем уволены в запас были именно боевые кадровые офицеры: цвет командования. А его поведение по отношению к маршалу Жукову – это верх низости.
И самый апофеоз – это Хрущев и кукуруза.
Наш лидер все мечтал догнать и перегнать Америку. И почему-то решил, что самый верный путь в этом отношении (помимо ракет) – это выращивание кукурузы. Вот он и приказал, чтобы по всему нашему необозримому советскому пространству отныне прекратили сеять рожь, пшеницу, овес, гречку, а занялись бы королевой полей (так отныне величали кукурузу). Перечить Никите не смел никто. Это даже представить себе трудно – он же начинал вести себя буйно: орал, тряс кулаками с пеной у рта…
В общем кукурузу, растение теплолюбивое, южное, стали сажать даже на Чукотке, в Якутии, за Полярным кругом. Дико это сейчас писать. Абсурд же полный. Однако это именно так и было!
Еще придумали так называемую чересполосицу. Сеяли полосу пшеницы, полосу кукурузы, опять пшеницы, опять кукурузы… Смысл? Его не постигал никто. Но так велено! У нас принято слушаться начальников.
Пропаганда кукурузы приняла очертания параноидального бреда. Повсюду продавались пластмассовые игрушечки: куколка в виде початка с ручками, ножками, глазками. У меня таких было несколько: дарили ребенку, идя в гости – подарок стоил копейки (не больше 20-ти) и продавался повсюду, даже в газетных и табачных киосках.
Номера художественной самодеятельности: танец кукурузных початков или песни про кукурузу исполнялись в обязательном порядке в школах, заводских клубах, вузах. Плакаты, картинки… От слова кукуруза уже начинало тошнить.
Вот-вот мы должны были перегнать Америку. По количеству упоминаний кукурузы в печати мы к тому времени давно перегнали весь мир.
Результат не заставил себя ждать.
Большая часть посевов кукурузы погибла! И кстати, почему-то там, где она обычно росла вполне неплохо, в период одержимости кукурузой урожайность ее снизилась вполовину.
Значит, смотрим: кукуруза подвела. А другого ничего толком не посеяли из уважения к начальнику страны. Что делать?
Вот и мы, население, думали – что делать? Потому как из магазинов исчез хлеб. Все удивлялись: войны нет, работаем от зари до зари, указания партии и правительства выполняем, профсоюзные взносы платим… Нет хлеба! Ну, что ты будешь делать? Вот ведь вражья сила!
А что мы так уперлись в этот хлеб? Надо было, как Мария-Антуанетта когда-то в ответ на то, что у народа нет хлеба, сказать: «Так пусть едят булочки!»
А и булочек не было!
Вот как закрутилось!
И муки не было!
И тортов, кстати, тоже не было.
А к хлебу мы как-то душой прикипели. Ну – многие наши завтраки и ужины строились на хлебе. Не было особенно денег на деликатесы. Хлеб – один из важнейших продуктов питания был. И никто не жаловался. Нас учили: «Хлеб – всему голова». Ну и каково же это – остаться ни с того ни с сего без головы?
Народ стал говорить нехорошие слова. Уже не одна наша Галя, а весь народ говорил: «Идиот Никита». И много другого обидного и едкого.
С хлебом дело обстояло так. (Я буду писать о Москве, так как не знаю, что происходило в других городах.) У нас карточки вводить не стали. Это, конечно, возмутило бы народ. Все прекрасно помнили войну, лишения, голод. Но там – дело ясное. А тут – с какой стати? Так и до коммунизма не доживешь. Карточек не было. И хлеб в магазины привозили по-хитрому. Днем! Когда все на работе. Значит – что? За хлебом плелись старики и бежали дети! Вот! Я стала хлебодобытчицей. Это просто. Тебе оставляют деньги на хлеб. Приходишь из школы, хватаешь деньги, авоську и бежишь в булочную. Там очередь. Хлеба ждут. Но там не скучно – подружки, одноклассницы. Есть о чем поговорить. Еще мы вместе задачки решали. В черновик запишешь, пока стоишь, домой пришла – переписала, уроки готовы. Ничего! Нет худа без добра.
В одни руки давали батон белого и буханку черного. Много это или мало? В условиях обычной продажи хлеба – это нормально. В условиях дефицита и сопутствующей легкой паники – мало. У нас, например, тетя Аня жутко боялась голода (из-за нас с Женькой, не из-за себя). Она, например, взялась сухари сушить на нервной почве. Сушила сухари и укладывала их в чистую ситцевую наволочку. Так они хорошо хранились, не плесневели.
Ну вот – ради сухарей мне приходилось отстаивать очередь еще раз. Это такой театр. Сразу дать сколько хочешь нельзя. А вот постоишь в ритуальной очереди – получишь еще раз батон белого и буханку черного.
Так что хлеб у нас был. И даже сухари. На случай – если что…
Что касается булочек… Они временно отсутствовали.
В школе даже какое-то время в буфете продавали вареные кукурузные початки. Три копейки штука. И я лично была счастлива! Это очень вкусно! А булки – ну их…
Тортики. Какие у нас делали вкусные бисквитные тортики! Мммм! Нигде таких больше нет. Пропитку делать такую, как наша, нигде не умеют. А у нас умели. И тортики были в продаже (до кукурузы) всегда. Их не каждый день покупали, а только с получки или на праздник. Вот гуляем мы во дворе, а с балкона доносится крик:
– Лена! Иди домой! Чай пить! С тортом!!!
И Лена срывается, второй раз звать не надо.
Но кукуруза вытеснила и тортики. Их больше на прилавках не было.
Еще помню отчетливо такой момент.
Перед величайшим праздником СССР – Днем 7 ноября – к нам пришли из ЖЭКа. Проверили по спискам количество жильцов, после чего дали бумажки с печатями, по которым в ЖЭКе (не в магазине – заметьте) можно было к празднику купить муку! По килограмму на человека. А у нас дома была привычка порочная – каждое воскресенье печь пироги или печенье. Это очень вкусно и очень дешево. Так что у нас мука пользовалась спросом. А тут – такая радость! Дали муку! И еще манку дали. Так тетя Аня пекла (из экономии) пироги, смешивая муку с манкой. Чтоб муки на подольше хватило.
И повторю вопрос: почему? Как это мы дошли до жизни такой, что без войны и засухи устроили себе сами отсутствие хлеба?
И вот именно в 1962 году наша страна (благодаря мудрому руководству) стала закупать продовольствие (в частности, зерно) за границей!
То есть – перегнали!
Опять же – это еще не все! Наверное, чтобы окончательно добить деревню и сельское хозяйство, Хрущев приказал изымать из личных подсобных хозяйств домашний скот. Второй вал коллективизации. Это было настоящее распятие деревни. Там же не было зарплат, пенсий! С чего людям было жить? Им элементарно нечем было детей кормить!
Хотя… О чем это я?
Я, девчонка, это почему-то понимала.
Но у нас так – чем старше и выше, тем понимание ослабевает. Начинаешь слышать пение ангелов, очевидно. Или происходит чье-то другое нашептывание…
А еще Хрущев обещал на ХХII съезде КПСС, в октябре 1961 года, что в 1980 году в СССР наступит коммунизм. И у нас в школе (да и повсюду) – в актовом зале появился над сценой огромный лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
Думаю, это было сделано зря. Вот – не хватает у нас властям тонкости и хоть малой доли легкой самоиронии. Короче: в это обещание не поверил никто!