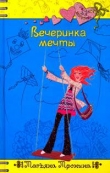Текст книги "Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины"
Автор книги: Галина Артемьева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Я уезжаю!!!
Маму я видела очень редко. Раз в несколько лет. Я привыкла жить с Танюсенькой и очень любила ее. Но мама… Что-то внутри меня тосковало по маме. Я могла на улице заглядеться на женщину с толстой русой косой вокруг головы и даже пойти за ней, пытаясь заглянуть в лицо: а вдруг она – моя мама? Тосковала я по ней очень редко, только когда она приезжала, а потом надо было расставаться.
Мне вот-вот должно было исполниться девять лет. Мама впервые приехала к нам с моим младшим братиком Гришенькой (ему тогда было около пяти). До этого я видела только его фотографии. Я очень его ждала и мечтала познакомиться.
Гришенька – тихий, худенький мальчик, светленький, зеленоглазый, зауважал меня беспрекословно. Я учила его жить. Например, показала почтовые ящики в нашем подъезде и объяснила: «Пальчик туда не суй, там Змей Горыныч, откусит сразу же».
Бедный Гришенька поверил старшей сестре и боялся этого Змея потом долго-долго. До сих пор помнит…
Приезд мамы в тот раз начался с обиды на нее. Редко мы виделись, но когда виделись, она умела уязвить. Уверена – не нарочно. Так получалось. Уж очень разные мы с ней оказались.
Когда мама приезжала, я, конечно, выбивалась из колеи, капризничала. Наверное, ребенку надо накапризничаться в детстве. Пусть совсем немного, но столько, чтобы убедиться: есть те, кто любят его любого. А уж мамину любовь мне очень хотелось испытать. Мне хотелось, чтобы она меня пожалела, приголубила. Вот такую ПЛОХУЮ, капризную… Мне хотелось удостовериться, что я для нее ХОРОШАЯ, как бы себя ни вела. ХОРОШАЯ, потому что ЛЮБИМАЯ, СВОЯ.
А она этого совсем не понимала. По ее представлениям, когда я капризничала, я всегда была ПЛОХАЯ. Без вариантов.
В тот ее приезд, когда я опять начала капризничать, она, отвыкшая от меня совсем, вернее, привыкшая вяло любить меня на расстоянии, по фото, пришла в возбуждение. В гневе она крикнула на меня: «Варвар!» И обратилась к тете Тане, возмущаясь мной, как это сделал бы совсем-совсем чужой мне человек:
– Ну как можно жить с этим варваром?!
Это восклицание оскорбило меня.
Слово ВАРВАР звучало ужасно. Я не знала его значения. У нас его не потребляли. Звучало же оно очень зло: два повторяющихся слога с такими звонкими, раскатистыми согласными: ВАР-ВАР-ВАР-ВАР…
Воронье КАР-КАР-КАР было и то гораздо приятнее на слух…
К тому же незадолго до этого я случайно испачкала свое новое красивое платье. Вышла гулять, а рядом с домом стояла бочка с тягучим черным варом. Мы все в нее заглядывали, любопытствовали. Ну, я и сгубила свое платьице – вар ничем не отмоешь.
Я поняла, что для мамы я – вот этот самый черный, липучий ВАР.
ВАР, ВАР. ВАР…
И еще одно ощущение возникло. Я не смогла облечь его в слова. Но если бы смогла, сказала бы, наверное, так:
– Ты, значит, не смогла жить с этим ВАРОМ (и неправда, я не вар!), и отдала меня тете, как я даже куклу старую отдать не смогу, – насовсем!
Так что же ты сейчас ее подговариваешь не жить со мной? «Как можно жить с этим ВАРОМ!»
А куда же мне деваться, если тетя поверит? И что ты обо мне знаешь, называя меня так по-страшному?
Тетя, конечно, тебе не поверит. Она меня любит. Ты – нет. Но какое ты имеешь право не любить меня? Какое право имеешь отчуждаться?
Я – твоя? Или нет? Если нет – зачем ты здесь?
Почему тебе можно быть такой злой и нетерпеливой?
Но я этого ничего не сказала – да разве и смогла бы тогда перечислить это все, что так обрушилось на меня? Я просто постаралась забыть. Потом слово само вернулось. И возвращалось не раз… Тогда-то и появились эти вопросы.
Мама с братиком погостили у нас и стали собираться в обратный путь. Они купили много-много всего. Невиданное множество богатств. Гречку, много-много пряников, ужасно вкусно пахнувшие ванильные сухари. Огромный запас, на год наверное. Еще они купили гирлянды сушек. Они, эти маленькие сухие гремящие бублички, были нанизаны на грубую веревку, как бусы для великана. Я много раз видела, как деревенские тетеньки в черных плюшевых жакетах шли по городу, надев на себя вязанки сушек. Это не казалось смешным. Это делалось, чтобы освободить руки для другой ноши.
…Мама еще купила Гришеньке всякие книжечки, карандашики и раскраски. И еще какие-то ботинки, костюм. Ну, это неинтересное, это ерунда.
Гляда на все это роскошество, на бередящие душу сборы, я затосковала и решила ехать с ними.
Я принялась всерьез собираться. Вынула из шкафа школьную форму и кое-какие книжки.
Тетя мне не помогала, но и не отговаривала. Напротив, кивала: «Поедешь, поедешь».
Мать тоже не спорила с варваром.
Боялась лишних слез? Или заколебалась в тот момент, не взять ли?
Жестокая состоялась игра для любой из сторон.
Тетя всю жизнь боялась потерять меня: а вдруг все-таки приедет мать и заберет? Это было ужасом тетиной жизни. От нее требовалось держать себя в руках, проявлять мудрость, спокойствие, не срываться: в хаосе возникшей из ничего ссоры легче дать волю чувствам, а не рассудку. (Ведь мать могла почувствовать и так: «А плевать мне, что ей здесь лучше, она моя! Поехали, доча!»)
Этого тетя допустить не могла. Думаю, именно поэтому она всегда была так терпелива и спокойна с моей матерью. Тем и взяла. Тем и выиграла.
Потом, став совсем взрослой, я говорила с матерью о том, как же все-таки так получилось, как же так и не забрала она к себе свое дитя, которое отдавала лишь на время собственной учебы.
– Приеду, совсем уж соберусь тебя увезти. А тут эта Таня… Жалкая, бессловесная… И больно за нее. И вижу, что тебе с ней лучше.
Мать умела жалеть. Это чистая правда. Она не всегда умела жалость свою показывать.
Спасибо, что не забрала.
Итак, я упаковалась всерьез, готовая наконец-то зажить своей семьей, с мамой и братиком. Со всей этой горой пряников, сухарей, сушек…
Поехали на вокзал. Мы трое – уезжать насовсем. А тетя – тетя только проводить – и все. И до свидания. Приезжай, не скучай.
Как же я ненавижу вокзальные запахи, звуки… «Крик станций: останься! Вокзалов: о жалость!.. В окошечках касс – Ты думал – торгуют пространством?..»
В окошечках касс торговали пространством вяло. Тянулись очереди. Маме требовалось «прокомпостировать» билет. До сих пор не знаю, что это такое, но слово ненавижу.
Вокзальный запах – сортира, грязных человеческих тел, паровозного угля – вызывал тошноту. Измученные, некрасивые люди спали на каменном полу вповалку, обнимая свои мешки со столичными гостинцами, в бусах из сушек.
Мы с Гришенькой сидели на большом мамином чемодане. Братик устал и задремывал, привалившись ко мне. На его бледненьком личике проступали голубые прожилочки. Иногда он судорожно вздыхал. Мой бедный, маленький, родной терпеливец.
Очень много тоски и дикой опасной стихии витало в атмосфере вокзала.
Я была верна своему слову: я уезжала. Я глаз не сводила с небольшого чемоданчика, выданного мне для сборов тетей Таней, следила, чтоб не украли. Тетя безучастно стояла рядом, ожидая мать.
Наконец та вернулась с прокомпостированными билетами. Тетя взяла меня за руку и подняла мой чемоданчик.
– Ну, мы пойдем, она совсем засыпает. До свидания, Нина.
Мать прильнула ко мне, дрожа всем телом. Она всегда дрожала, прощаясь со мной.
Но вот она выпустила меня из своих объятий. Подхватила уснувшего совсем Гришеньку..
– Ну, прощайте, не обижайтесь, если что не так. Не поминайте лихом…
«Кто может знать при слове „расставанье“, какая нам разлука предстоит…»
Больше я никогда не просилась уехать с мамой.
Дед Мороз и его подарки
Елку мы обычно наряжали 31 декабря. Я и не догадывалась, что елка имеет отношение к какому-то другому празднику. Новогодняя елка – какие могут быть вопросы!
Елка сама по себе казалась чудом. Она пахла хвоей, а украшенная, сияла огнями и разноцветными игрушками. На макушке волшебного дерева всегда красовалась пятиконечная звезда. И опять же – какие могут быть вопросы: звезда водружалась в честь Кремлевских звезд – это же любому ясно.
Новый год – единственный праздник, когда мне можно было не ложиться спать хоть всю ночь. Впрочем, это меня не особо воодушевляло: мой организм устроен таким образом, что разрешай не разрешай, а после девяти я усну сама по себе, хоть сидя, хоть стоя. Но лучше лежа, конечно. Зато и встаю всегда в шесть утра.
Но, конечно, в новогоднюю ночь очень хочется посидеть вместе со всеми. Это же ночь после волшебства! Оно случается всегда 31 декабря. Вот как только поставим и нарядим елку, буквально через час непостижимым образом под ней оказываются подарки от Деда Мороза.
Я знаю, что настоящий Дед Мороз невидим. Он успевает в кратчайшее время под каждую елку положить подарки детям. Правда, не всем. Только послушным. Я послушная далеко не всегда, поэтому никогда не жду подарков. По справедливости – мне не положено. Я-то знаю!
Но каждый год под елкой оказывается для меня подарок. Даже не один! Книга и шоколадка! Интереснейшая книга, которую буду все каникулы читать, и большая красивая плитка моего любимого шоколада!
Дед Мороз все-таки очень добрый! Он знает, что я не самый послушный ребенок на свете. Он даже в открытках так и пишет: «Желаю тебе, Галя, быть послушной девочкой». И все равно – дарит подарки.
И главное: это ИМЕННО Дед Мороз дарит! Я же сижу у елки – меня не оторвать! Сижу-сижу-сижу. Никого нет! И вдруг – вот он, подарок! Не было только что ничего, а вдруг… Чудо! Настоящее чудо!
Единственный вопрос – почерк Деда Мороза очень похож на аккуратный почерк Женечки. Но когда я ее об этом спрашиваю, она смеется и говорит:
– Мало ли что тебе кажется! Ты еще скажи, что это я тебе подарки под елку кладу.
Нет, этого я сказать не могу. Никак. Я же слежу, наблюдаю. Вот – я. Вот – елка. И вдруг…
Так что с почерком – это я зря…
Дед Мороз пишет. А кто же еще?
Как я люблю болеть!!!
Танюся меня очень любила. Но в отношении школы была тверда, как гранитная скала. Никогда не критиковала учителей. Если я пыталась объяснить, что кто-то из учителей не прав, она всегда говорила:
– У любого, даже самого слабого учителя, есть чему поучиться. К старшим надо относиться с уважением. Просто потому, что они дольше мучаются в этой жизни.
И все. Вопросов больше нет.
За все школьные годы я практически не прогуляла ни одного урока! Немыслимо! Даже представить себе такое не могла: как это – вот просто так в школу не пойти. И даже если мне страшно не хотелось тащиться на занятия, отлынить не получилось бы никак.
Вот скажу я:
– Мне плохо. У меня голова болит!
– Температуры нет? Иди учись, голова пройдет, когда начнет думать.
И какое же счастье я испытывала, когда температура была! Впрочем, Танюся, закаленная в боях за мое здоровье, прекрасно могла отличить меня, больную, от меня же, играющей спектакль «мне плохо».
Больную по-настоящему всячески баловали. Приносили мне любимые книжки в кровать. Ставили розеточку с малиновым вареньем, давали чай с лимоном. Лежи себе, читай любимые книги и поправляйся.
Я любила болеть. Но удавалось это не так часто, как мне хотелось бы. И вот однажды… Я уже честно поболела около двух недель. И температура была высокая, и кашель, и слабость… Хорошо! Но… Всему хорошему приходит конец. Мне уже полагалось идти в поликлинику за справкой для школы. А не хотелось! И уроки я все дома делала, и не отстала ничуть, и ничего плохого, кроме некоторых деталей, в школе не происходило. Мне просто туда не хотелось. Но кому это интересно?
Никому!
Вечером Танюся для проформы дала мне градусник. Ну, она уже и так видела, что я поправилась. Это она для Митрофановой, нашей участковой, температуру мне мерила. Та спросит, что да как, а Танюся ей скажет:
– Последние три дня температура нормальная.
Однако я все же на всякий случай пожаловалась на слабость и головную боль, засовывая градусник под мышку.
– После болезни всегда слабость, – спокойно ответила Танюся и ушла на кухню, оставив меня лежать с градусником. Мерить температуру полагалось ровно десять минут.
И вдруг меня осенило! Идея ворвалась в мой мозг! Я быстро вскочила, прыгнула к батарее центрального отопления, невероятно горячей, как обычно зимой, и на миг приложила к ней кончик градусника. Глянула: мама дорогая! Температура подскочила до 42 градусов! Тут главное не переборщить, поняла я. Быстро улеглась в кровать и осторожненько принялась сбивать градус. В итоге получилось даже вполне пристойно: 37,6. Достаточно, чтобы считать меня еще не совсем здоровой.
Танюся вошла, глянула на градусник, удивилась.
– Сколько там у меня? – печально и равнодушно поинтересовалась я, будто ничего не зная не ведая…
Танюся попробовала ладонью мой лоб. Удивилась.
– Странно. Рука не чувствует. А у тебя тридцать семь и шесть. Неприятная температура. Ладно, ложись спать. А утром еще раз посмотрим…
Я укуталась в одеяло и безмятежно заснула, зная, что утром мы, конечно, посмотрим. И, разумеется, увидим то, что будет нужно мне.
Утром Танюся тщательно сбила градусник и протянула мне. Наверное, какие-то сомнения ее посещали. Она не уходила от меня, так и сидела рядом. Неужели мой план провалится?
Тут, на мое счастье, зазвонил телефон. Танюся поспешила в коридор, а я рванулась к батарее. Доля секунды – и я снова лежу. Танюся заходит, не подозревая, какие я тут кульбиты выкидывала, пока она отлучалась на полминуты. Беда в том, что я не успела глянуть, сколько там набежало от батареи. Я старалась, чтоб не как вчера, не 42 градуса.
На ювелирную работу по уменьшению показаний градусника времени у меня не оказалось.
Танюся взяла у меня градусник и ахнула: 39!
Я видела, что она в ужасе. Именно этот ужас и помешал ей спокойно рассуждать. Ну, хотя бы перепроверить… Сесть рядом и дождаться. Я сама была не рада своей подлой игре: уж очень сильно испугалась моя бедная Танечка.
– Лежи, не вставай! – велела она, быстро одеваясь. – Вот беда! Ничто нас не минует. Бедная девочка! Так болеть! Одно везение за другим… Я за Митрофановой. Пусть посмотрит. Что это за напасть такая на нас свалилась!
Она убежала.
Мне бы радоваться, но радости никакой не было. Я оказалась подлым, лживым существом, недостойным любви. В ушах звучит дрожащий голос Танюсеньки.
Ну, и затеяла же я игру!
Тетя непостижимо быстро вернулась с Митрофановой. Та, наверное, прием бросила, побежала к нам. А я, обманщица, лежу тут совершенно здоровая…
Меня начало трясти от ужаса собственного преступления.
– Дайте градусник, – попросила Митрофанова.
– Вот, доктор, я специально оставила, чтобы вы посмотрели, – показывает ей тетя.
Врач встряхнула термометр и поставила его мне. Села рядом, засекла время. Стала ждать.
– Жаропонижающее давали? – спросила она.
– Нет, я сразу за вами побежала, – ответила Танюся.
– Ну, посмотрим.
Я тряслась. Сердце билось так, что вот-вот, казалось, выскочит из груди. Сейчас обнаружится моя мерзкая ложь. Будет у меня тридцать шесть и шесть. И все. И Митрофанова расхохочется и скажет, что я все наврала. И как на меня будет смотреть Танюся…
Пытка продолжалась ровно десять минут.
Митрофанова вытащила у меня градусник.
– Тридцать восемь. Ровно. Упала, значит. Сама собой.
Я не поверила своим ушам!
Тридцать восемь! Как это получилось? Неужели от ужаса может сама собой подняться температура?
До сих пор не понимаю, как это тогда произошло. И до сих пор считаю это чудом.
– Пусть лежит. Бывает – повторная инфекция. Только переболела. Ничего. Недельку отлежится, чтоб уж наверняка, – успокаивала тетю Митрофанова. – Тебе как? Полегче? Получше, чем рано утром?
– Легче, – отвечала я честно.
– Ну, лежи, поправляйся…
Стыд продолжал меня терзать довольно долго. Я все вспоминала Танюсин испуг и не находила себе оправдания.
Больше я никогда не пользовалась этим верным и надежным способом симуляции болезни. Проще в школу пойти, чем такое о себе думать! Муки совести – страшное наказание.
Рабочая совесть
У нас в семье выписывали несколько газет и журналов – так было принято тогда. Бежали утром к почтовому ящику, приносили в дом прессу. За завтраком могли и взглянуть на заголовки. Чтение начиналось вечером.
А я все не могла понять, что в этих газетах интересного. Урожай, ударники, пятилетка, семилетка… Неужели, когда я вырасту, это будет меня интересовать?
Наверное, я еще совсем глупая, раз не понимаю.
А однажды я все поняла. Ну – почти.
В газете писали про Пастернака. Что он свинья и даже хуже свиньи, что он нагадил, где ел.
А у нас дома часто говорили «Посади свинью за стол, она и ноги на стол». Это об очень плохо воспитанных людях так говорилось, о наглецах. Ну, я и подумала, что тут как раз тот случай.
Стала вчитываться, чтобы разобраться, кто же такой этот Пастернак. Поняла, что писатель. Почему? Да потому что в газете было много выступлений рабочих, которые, один за одним (или одна за одной), а то и всем коллективом, заявляли буквально следующее:
– Я, рабочий завода (далее – название) заявляю: книг Пастернака я не читал, но осуждаю его вражеские книги… И так далее.
И вот это меня просто ошарашило: как это – не читал, но осуждаю? Ты ж не читал! Может, там все не так? Надо прочитать! У нас на уроках внеклассного чтения Наталья Николаевна всегда проверяла, кто читал, а кто просто содержание книги узнал. Она говорила, что говорить о книге можно, только прочитав ее! Иначе это обман, ложь. Конечно! Все правильно!
Тогда почему все эти ударники производства, все передовики, как один, не стесняются писать:
– Мы не читали, но осуждаем!
И почему в газете пишут о писателе «свинья»? Что же он такого сделал?
Я спросила у тети Стеллы. Она мне сказала, что тоже не читала роман Пастернака, о котором тут идет речь. Но стихи его читала. Пастернак – большой поэт. А за роман Пастернак получил Нобелевскую премию – главную премию во всем мире. За плохой роман бы не дали.
– Что же он там такое написал, что все на него так набросились?
– Наверное, правду, – сказала Стелла.
– А как же они? Не читали, а осуждают?
– Ты уже большая. Все понимаешь сама, – так сказала моя мудрая тетя.
Я была горда, но все-таки до конца не понимала.
Травля поэта Пастернака развернулась в конце 1959-го.
А в 1960-м, в конце мая, поэт, не вынесший травли, скончался.
Книги моего детства
Сейчас, думая о времени своего детства, могу только удивляться и радоваться тому, какое место в нем занимали книги. Именно книги были моими самыми верными и надежными друзьями, научившими меня фантазировать, любить окружающий мир и жизнь в целом, что бы в этой жизни ни приключалось.
Книги доставляли мне истинное наслаждение, питали мой ум и душу. Ведь воспитывать – это и значит: питать. И в питании духовном ум и сердце растущего человека нуждается не меньше, чем в питании телесном. По мне – так и больше.
Я не стану перечислять сейчас все прочитанные мной в детстве книги – это огромный список. Но особо выделю тему, которой уделялось в те времена огромное внимание и которая меня очень волновала: судьба обездоленного ребенка. Много книг повествовали о таких судьбах. Именно они учили сочувствовать, милосердствовать, жалеть, помогать и искать выходы. Ведь читая, мы ставим себя на место героя. И когда герою плохо, мы вместе с ним пытаемся выкарабкаться, спастись…
Ч. Диккенс «Оливер Твист», «Давид Копперфильд».
Марк Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
А. Куприн «Белый пудель».
Гринвуд «Маленький оборвыш».
Мало «Без семьи».
Мери Мейп Додж «Серебряные коньки».
Виктор Гюго «Отверженные».
И. Д. Василенко «Жизнь и приключения Заморыша». «Детство актера – Артемка в цирке».
Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
А. Бруштейн «Дорога уходит вдаль».
Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик».
Януш Корчак. «Король Матиуш Первый».
В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Слепой музыкант».
Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».
Вот мои добрые друзья и советчики. Именно они помогли мне примерить на себя и понять чужую боль и научиться сочувствовать чужому страданию.
А еще… Какое же это интересное чтение. Не оторваться!
ПЯТИДЕСЯТЫЕ
Удивительно, казалось бы, цифры – простая условность. Время – понятие относительное… А все же… Почему-то существуют четкие отличия именно по десятилетиям: и в интересах, и в общественном настрое, и в культурных поисках, и в научных открытиях, и в политических решениях, и в области поведения, вкусов, моды…
Пятидесятые четко отделяются сознанием от шестидесятых. И это не мое субъективное восприятие, хотя играет роль и оно.
Пятидесятые – драматические годы. Сколько изменений произошло, как динамично все менялось.
Страна восстанавливает разрушенное войной.
Всплеск рождаемости – так называемый бэби-бум происходил повсеместно, не только в США.
И вместе с тем:
Репрессии начала 50-х.
Дело врачей…
Страх и безнадежность.
Смерть Сталина в марте 1953-го.
В том же году – расстрел Берии.
Осенью 1953-го – к власти приходит Н. С. Хрущев.
В феврале 1956-го, на ХХ съезде КПСС Хрущев выступает с разоблачением культа личности Сталина.
Сколько надежд породило это выступление!
События в Польше.
Венгерская смута в октябре – ноябре 1956-го.
В 1957-м – СССР запускает первый искусственный спутник Земли. Его позывные становятся позывными Всесоюзного радио.
Фестиваль молодежи и студентов – целая веха для нового поколения советских людей.
В 1959-м году – перепись населения, в которой, впервые в СССР, был поставлен вопрос о национальной принадлежности.
В 1959-м на Кубе к власти приходит Фидель Кастро.
В 1959-м происходит отвратительная и подлая травля поэта Б. Пастернака.
В 1960-м – не вынесший травли Пастернак скончался.
В 1960-м году Китай обвиняет некоторые страны в оппортунизме (имеется в виду Советский Союз), а Хрущев, в свою очередь, осуждает китайскую политику. Великой дружбе подходит конец.
И все-таки… Пятидесятые – время надежд. Время освобождения узников. Раны войны затягиваются. Возникает вера, что все пойдет по-новому.
Пятидесятые – время прекрасных песен.
Уходят из моды широкие плечи на женских пальто и платьях – как символ военной эры.
Женщины выглядят все женственнее и очаровательнее – блузочки с рукавами-фонариками, пышные юбки, узкие талии, широкие пояса, легкие походки…
И подрастаем мы – первое поколение Советского Союза, не знающее войн. И страха – почти – тоже.
Мы – дети победителей! Мы верим, что живем в лучшей стране на планете. И мы знаем, что дальше будет только лучше, солнечней, справедливей!
«Эх, хорошо в стране Советской жить!»
Только маленькая ремарка. Купила пару лет назад в Германии книгу под названием «Последний свидетель». Там старик, бывший когда-то связистом в бункере Гитлера, пишет о событиях конца войны, о гибели фюрера, о своей судьбе. Он отбыл свой срок в нашем плену. Вернулся на родину. И дальше написал как о чем-то само собой разумеющемся, но меня поразившем до глубины души. Солдатам гитлеровской Германии, побывавшим в плену, государство выплачивало большие деньги. На эти деньги автор книги смог приобрести небольшой магазин в Западном Берлине. То есть – немыслимое для нас дело – государство считало себя в долгу перед теми своими гражданами, которые пострадали в результате его действий.
Сколько наших граждан, пострадавших от всевозможных действий государства, мечтали и мечтают лишь об одном: «Не до жиру, быть бы живу». Я даже не говорю о тех, кто оказался в немецком плену, выжил в нечеловеческих условиях, вернулся и был отправлен в лагеря своей родной страны. А нечего, мол, было выживать!
За что таким страданиям подвергали людей? Неужели даже право на жизнь человека определяется не природой, не высшими силами, а государством?
Нам с раннего детства внушали, что у нас есть перед государством великий долг.
И вот я, прожив жизнь, удивляюсь, прочитав немецкую книгу: оказывается, бывает так, что государство признает себя должным. Невероятно!