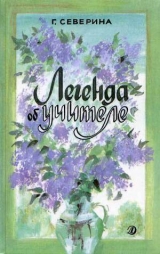
Текст книги "Легенда об учителе"
Автор книги: Галина Северина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Девочки расположились в бывшей монастырской гостинице. Наша комната на четверых была внизу. Ира – вожатая пионерско-комсомольского звена, я – председатель совета лагеря. Толя не мог обойтись без меня. В последнюю минуту предложил мою кандидатуру. Пришлось согласиться. Ведь нас взяли с условием, что мы будем помогать.
В первые дни я ничего не могла с собой поделать. Внешне мы жили вполне современной, пионерской жизнью. Нас будил горн, мы выбегали в трусах и майках на спортивную площадку. По дороге в столовую пели нашу любимую «Вперед же по солнечным реям». И все же необычность обстановки всех нас сильно волновала. Мы бродили от памятника к памятнику, читали названия полков, сражавшихся и погибших в этих местах. И о чем бы ни говорили, имена Кутузова, Багратиона, Раевского появлялись сами собой.
Один из местных старожилов рассказал нам легенду о создании монастыря. Не знаю, как другие, а я с содроганием представила темную августовскую ночь, огромное поле, устланное трупами русских воинов, и молодую жену генерала Тучкова, ищущую своего мужа. Она шла с фонарем, сопровождаемая верными солдатами. Мужа своего она узнала по кольцу на пальце. На этом месте и был построен монастырь, в котором молодая женщина стала настоятельницей. Вот это любовь! После этого я вполне примирилась с генеральшей Тучковой. В самом деле, как иначе могла она выразить свою верность? Ведь это давно было! Тогда в бога верили. Осуждать нельзя. Я смотрела на высокий купол храма, и он мне представлялся скорбным мавзолеем любви, как в лермонтовском «Демоне».
– Выдумки! – сказала Ира.
– Правда! Правда! – запротестовала Света.
Лилька молчала. Она вообще больше молчит, особенно при мне.
– Если у меня будет муж и он погибнет на войне, я поступлю так же! – торжественно сказала я.
– Построишь монастырь? – расхохоталась Ира.
– Нет. Но я буду помнить его до могилы!
– О, как печально! – Ира воздела руки кверху. – Успокойся: войны больше не будет! Побежали! Раз, два, три!
Мы сорвались с пригорка и пустились в лагерь на вечернюю линейку.
Днем мы делали свои дела по подготовке к открытию лагеря, но открытие почему-то задерживалось. Из-за этого Толя ссорился с Пашей Климовым. Начальнику хотелось сделать все как можно лучше. Ожидалось много гостей.
– Подумаешь, гости! А ребята больше недели живут без подъема флага! – возмущался Толя.
Мы ему сочувствовали, помогали и в то же время подводили. Жизнь полна противоречий, сказал бы Кирилл.
Однажды в лунную ночь мы завернулись в простыни и пошли по сиреневой аллее к бывшей часовне. Ее использовали теперь как кладовую.
Мы хихикали от удовольствия, изображая привидения. В окно второго этажа нас увидели маленькие девчонки и подняли визг. Во двор выскочили вожатые и Паша Климов с фонарем. Толя догадался забежать к нам, увидел пустые кровати и все понял.
– Вы что, с ума сошли? – разозлился он, когда мы, сбросив простыни, явились к нему с покаянием.
В другой раз было хуже. Во время мертвого часа, устав от шума девчат, я вышла в коридор с томиком «Войны и мира». Думала примоститься где-нибудь в саду, но у выхода из корпуса стояли Паша Климов и вожатая Маруся. Я кинулась назад, а Лилька дверь заперла и не пускает. Мой громкий стук привлек внимание Паши. Он заглянул в коридор. Я едва успела спрятаться под лестницу, ведущую на второй этаж. Паша в это время подошел к нашей двери и рванул ее. На него посыпались старые коробки, ботинки, свернутые в трубку плакаты.
– Вон отсюда! В Москву! Это Жигарев вас сюда привез. Я был против великовозрастных оболтусов в лагере! – яростно кричал Паша, барахтаясь в этом хламе.
Я стояла рядом и ничего не понимала. Мне объяснила потом Света, что Лилька устроила эту баррикаду для меня. Я войду – а на меня все свалится! Сам того не зная, неуклюжий Паша Климов пострадал за меня.
Огорченный Толя не стал за нас заступаться. Махнул рукой и мрачно пошутил:
– В крайнем случае придется переселить вас в курятник!
Курятник, полуразвалившийся сарай на окраине деревни, мы видели во время похода по окрестностям. Дело оборачивалось скверно, и мы пошли к Паше просить прощения. После долгой нотации он смилостивился. На наш взгляд, Паша хоть и напоминает внешне Пьера Безухова, на самом деле он настоящий Берг! Совсем другое дело наш Толя. Посмотрел на наши вытянутые физиономии и расхохотался. И мы поняли, что все забыто.
Так сочетались в нас высокие мечты о верной любви и детские проказы.
Настал день открытия. Утром со станции пришел автобус с гостями. Их встречали Ира, Лилька и Света. Я была по горло в делах. Толя то и дело гонял меня проверять, оформлен ли клуб в старой церкви, готова ли стенная газета, на месте ли горнисты и барабанщики. Время подходило к назначенному сроку, а я еще бегала в старом платье.
– Живо переодеваться! И назад! Не забудь, что ты выносишь мачтовый флаг! – приказал взмыленный Толя.
Я побежала к нашему корпусу. Девчата в полном параде ждали сигнала к построению.
– Ната, знаешь, кто приехал? Ни за что не догадаешься! – оживленно говорила Света, подавая мне пионерскую форму.
– Кто же? Кутузов, Багратион, Денис Давыдов? – перечисляла я, заправляя белую кофту в синие трусы.
– Этих нет, а вот князь Андрей здесь.
– Прекрасно! А Анатоль Курагин?
– Тоже нет! Приехали Николай Иванович, Надежда Петровна и с ними князь Андрей!
Я не слушала Свету, торопилась. Иру кто-то отозвал, Лилька стояла у окна, очень изящная, с необычайно тонкой талией и отливающими золотом волосами. Она снисходительно взглянула на мои растрепанные вихры и подала расческу.
– Ната-а! – донеслось издалека.
Я выбежала, завязывая на ходу галстук.
Чтобы сократить путь, я свернула на сиреневую аллею возле стены храма и остановилась как вкопанная. Передо мной в белоснежном кителе с фуражкой в опущенной руке стоял князь Андрей. «…Невысокий, очень красивый брюнет в белом мундире…» Да, да. Так! Он был чисто выбрит, и на крутом подбородке играло солнце.
– Это вы?! – ахнула я.
– Я. Здравствуй.
– Князь Андрей?
– Нет. Просто Андрей, по батюшке Михайлович.
– Мне сказали, что приехал князь Андрей!
– Ах, да! – Он охотно принял игру, отступил назад и учтиво поклонился, смеясь глазами.
На соседней аллее зашуршали шаги, и нетерпеливый голос Толи позвал:
– Натка! И куда она задевалась?
Я стояла не шевелясь.
– Вас, кажется, ищут, графиня?
«Графиня» посмотрела на свои голые, исцарапанные от лазанья в подземный ход под часовней коленки и по-заячьи прыгнула в кусты.
– Наконец-то! – облегченно вздохнул Толя, передавая мне мачтовый флаг.
Я приложилась горячим лицом к блестящему, прохладному кумачу.
Толя, в белом костюме с ярко алеющим на груди галстуком, сдал рапорт начальнику лагеря. Сопровождаемая ассистентами под звуки марша, я вышла из ворот с развевающимся флагом в руках. От волнения ничего и никого не видела. Все слилось в один большой, разноцветный, сияющий круг. Но ноги мои твердо ступали по земле, а руки четко делали свое дело. Я прицепила флаг к шнуру и посмотрела на Пашу Климова.
– Флаг поднять! – скомандовал он.
Оркестр густо, торжественно заиграл «Интернационал». Три сотни рук взметнулись в пионерском салюте. Я потянула шнур, и алое полотнище сказочной жар-птицей медленно поползло вверх. При последних звуках гимна оно развернулось на острие мачты и заплескалось в синеве неба. Я закрепила шнур. Все было сделано. Теперь я могла вместе со всеми спокойно слушать приветствия гостей. Но первый момент был так хорош, что я мысленно все время возвращалась к нему.
Андрея Михайловича я больше не видела, да и не хотелось. Пусть он останется в моей душе на некоторое время пригрезившимся князем Андреем. Света правильно заметила сходство. Да его и действительно трудно узнать без бороды. Помолодел, похорошел. Ребята повели его осматривать местность. Рассказывали, что он долго стоял на бугре, откуда Пьер Безухов наблюдал ход Бородинского сражения, – знаменитой батарее Раевского. Волнистые дали, озаренные солнцем памятники, начиная от наполеоновского в Шевардине и кончая кутузовским в Горках, привели его в восторженное состояние. Он, к удовольствию ребят, прочел наизусть лермонтовское «Бородино», нигде не запнувшись. И очень хотел найти деревню Князьково, где смертельно ранили Андрея Болконского. Но это было невозможно. Да и времени не оставалось. Автобус с гостями отходил сразу после обеда.
Я должна была участвовать в спортивном празднике на Багратионовых флешах. Состязались по прыжкам в длину. Толя велел мне не очень наедаться за обедом, а я и вовсе не пошла в столовую. Села в тени памятника возле леса и стала думать, что такое счастье. В голову пришла странная мысль: а вдруг это и есть самое лучшее в моей жизни? И больше никогда-никогда ничего подобного не будет? Ни подъема флага, ни радостных ребячьих лиц, ни сиреневой аллеи с «князем Андреем», будто сошедшим со страниц «Войны и мира»…
…Свое первенство по прыжкам я проиграла Лильке. Она откровенно радовалась, а я так была полна своими новыми мыслями, что и не заметила провала. Толя удивленно пожал плечами: на тренировках я прыгала чуть ли не на метр дальше! Но разве в этом дело? Мне все равно было хорошо. Я смотрела в постепенно темнеющее небо и ждала появления звезд. Июньские дни очень длинные. Звезды загораются уже после отбоя. Но сегодня особый день. Отбой будет в двенадцать часов, когда потухнет праздничный костер.
На костровой площадке вожатые Леша и Миша навалили хворосту целую гору. Он вспыхнул таким гигантским столбом, что младшие ребята в восторге подняли визг. Счастье на земле продолжалось. Пришли жители села Семеновского с гармошкой. Началась самодеятельность.
Когда совсем стемнело, я тихонько встала и, повинуясь какому-то неясному желанию, пошла к воротам. На них смутно светилось название лагеря. Я шагнула в темный провал и окунулась в тишину, как в воду. Над пустой сиреневой аллеей сияла чистейшая, без единого пятнышка, луна. Белый свет струился по листьям.
«Князь Андрей, это вы?» – шепотом начала я повторять утренний диалог. «Вас, кажется, ищут, графиня?»
Меня снова искал Толя. Он бежал сюда от нашего корпуса.
– Ты расстроилась из-за прыжка? Брось, дело поправимое.
– Поправимое! – с готовностью согласилась я.
– Но остальное все хорошо? – уже менее уверенно спросил он.
– Очень хорошо, милый Толя! Просто отлично! – воскликнула я и побежала к костру.
Он еще пылал. Я протиснулась между Ирой и Светой и запела со всеми вместе.

О ЧЕМ ПЕЛА РАКОВИНА
Как сильно дуют в этом году февральские ветры! Высокими скалистыми гребнями уложили они снега на полях и вдоль дорог. Ткнешь палкой в острую верхушку такого гребешка, и осыплется он, как сухой песок.
Мы взяли со Светой за правило кататься по утрам на лыжах. Я с грохотом съезжала с крыльца к Чаченке и встречалась со Светой возле дачи доктора Гиля. Отсюда мы вместе ехали по розовой от солнца, крепкой целине к ромашкинскому лесу. Ветер кидал в лицо режущую снеговую пыль, больно сек щеки, и выдержать долго такую пытку было невозможно. Со смехом возвращались домой и ехали в школу.
А в школе скука. Уже началась вторая половина девятого класса, а мы все никак не раскачаемся. Не могу понять, отчего это происходит. Я с таким нетерпением ждала осени. После пионерского лагеря в Бородине с его праздничной жизнью, возвышенными впечатлениями казалось, что и в школе начнется что-то особенное. Не началось. Андрей Михайлович был строг, сух и говорил с нами только по делу. Будто не приезжал он к нам в тот незабываемый июньский день, не стоял, как Пьер Безухов, на батарее Раевского, не являлся в образе князя Андрея в сиреневой аллее и никогда не говорил других слов, кроме: «Классное собрание будет на шестом уроке», «Срок сдачи тетрадей истекает завтра». Правда, на переменах он часто вел особый разговор с Кириллом Сазановым и Борисом Блиновым, но мы не прислушивались. Перед уроком иногда он улыбался, отвечая на вопросы Сони Ланской или Люси Кошкиной. Но с нами – ни о чем. Будто не было в классе ни меня, ни Светы, ни Иры, никого из тех, кто ездил в лагерь. Однажды мы втроем – я, Ира, Света – стояли в закутке возле учительской и вспоминали что-то лагерное.
– Помнишь Багратионовы флеши? – громко спросила Света, скосив глаза в сторону.
Мимо нас деловитой походкой прошел Андрей Михайлович. Он, конечно, слышал, но не задержался, не вступил в разговор.
«Не хочет – не надо! – сердито думала я. – Вот Николай Иванович любит вспоминать свою поездку в лагерь, не гордится!»
И правда. Николаю Ивановичу мы все свои летние проказы раскрыли, и он трясся от смеха, слушая, как Паша Климов барахтался в хламе.
– Это ему на пользу. Спеси поубавится! – говорил он, вытирая глаза платком.
А школьная жизнь шла своим чередом. На уроке литературы я сделала доклад об изображении светского общества в романе «Война и мир». Разнесла это общество с необыкновенным удовольствием и даже положительным дворянам Ростовым и Болконским с князем Андреем во главе здорово досталось. Пусть не зазнается!
– Ну, это ты слишком! Нельзя валить всех в одну кучу! – возмутилась Валентина Максимовна.
– А что? Чуждый классовый элемент! Правильно! – вдруг поддержал меня Генька Башмаков.
Но остальные не согласились. Соня Ланская горячо доказывала передовую сущность князя Андрея.
– Андрей Болконский и сейчас может служить нам примером честности, принципиальности, силы духа! – восторженно говорила она. – И такие люди есть!
– Кто же? – поинтересовалась Валентина Максимовна.
– Андрей Михайлович, например. Разве он не такой? – покраснев, но твердо произнесла Соня.
Все зашумели, начали сопоставлять. Выходило много схожего, вплоть до внешности. Но я это и без них знаю. Никто ведь не видел его в белом френче, задумчиво стоявшего на сиреневой аллее. Только об этом я никогда никому не скажу. Пусть думают, что я прямолинейная, ограниченная… Что хотят!
Урока не было. Кричали ребята. Кричала Валентина Максимовна, доказывая что-то свое. На стол мне шлепнулась записка: «Поздравляю с приобретением ценного союзника – комсомольского вождя Геннадия Башмакова!»
Я посмотрела на ухмыляющегося Кирилла и вздрогнула, как от удара. В начале этого года действительно произошло что-то непонятное: Генька Башмаков, зазнайка и себялюбец, стал секретарем комсомольской организации.
К концу прошлого года в нашем классе было девять комсомольцев и четыре в седьмом. Всего тринадцать. И жизнь у нас шла вполне сносно. После лагеря мне захотелось работать пионервожатой в шестом классе. Там у меня много маленьких приятелей. Толя, конечно, ухватился за это обеими руками. Председателем учкома после перевыборов стал Ваня Барабошев, и я с легкой душой занялась пионерами.
– А я думала, ты меня сменишь! – расстроилась Ира, узнав об этом.
Ей тоже хотелось перейти в отряд. Чтобы ее утешить, я предложила сделать комсомольским вожаком Гришу. Был же он у нас в Немчиновке отличным секретарем. На том и порешили. Но мы не знали всех козней Геньки. Он жаждал власти. Не раз ходил в райком жаловаться на Иру. А на перевыборном собрании выступил с такой критикой ее работы, что ее кандидатура сама собой отпала. Ира потом плакала не от того, что ее не выбрали, а от обиды, что несправедливо оговорили. Правда, в ее защиту сказал несколько слов Николай Иванович, но это не решило дела. Выборы-то проводили комсомольцы! Против Геньки голосовали только четверо, в том числе я и Ира. Восемь человек голосовали за него. О Грише впопыхах никто не вспомнил. Представитель райкома комсомола тоже поддержал Геньку. Все-таки умеет Генька втирать очки.
– Что же мы наделали? Он теперь задерет нос выше кремлевской башни! Карьерист он самый настоящий! – сказала я Николаю Ивановичу после собрания.
– Ничего! Пусть поработает! Увидим! – неопределенно ответил директор.
Да и в самом деле, что теперь делать?
Первое, о чем сказал нам Генька на другой день, – это о своей власти над нами:
– Вы за меня не голосовали – хорошего от меня не ждите!
– Прекрасное начало! – съязвила Ира.
– Завидуешь? – хмыкнул Генька, удаляясь от нас.
Мы не были высокого мнения о Башмакове, но такого все-таки не ожидали. Важная гусиная поступь, закинутая голова-дынька.
– Постой, кого же он мне напоминает? – схватила я Жорку за рукав, когда Генька проходил мимо, делая вид, что занят глубокими мыслями.
– Родька номер два, – отчеканил Жорка.
Вот это да! Боролись против Родьки, свалили его, а он снова возродился! Значит, пока еще нет этим родькам конца. Немножко другая внешность, а все остальное такое же. И та же самоуверенность: «У меня будете по-другому поворачиваться!» Это же Родькина фраза. И тот же самолюбивый до тупости вид: начальник!
– Обидно, что ему в райкоме поверили, – сказала Ира.
Толя тоже был удивлен, даже присвистнул:
– Чего вы этого гусака выбрали?
Нам это так понравилось, что с этих пор иначе как гусаком Геньку не называли.
Мы с Ирой занялись своими отрядами, много бывали с Толей в пионерской комнате и понемногу забыли, что у нас вообще есть комсомольский секретарь. Дальше важной походки, гордого гусаковского вида Генька не шел. Он упивался собственным величием.
– Я хотел в комсомол вступить, но, пока у вас такой «умный» шеф, этого, конечно, не будет! – с кривой улыбкой сказал Кирилл.
Но Кирилл – ладно. Он такой еще путаник, что ему не мешает и подождать. Но к нам и хорошие ребята из восьмого класса не шли, смеялись над Генькой. Вот так вожак!
Кроме того, у меня появилось еще одно осложнение: новая учительница математики Вера Петровна, родная сестра Надежды Петровны. Но разница между ними была потрясающая. Крикливая, добрая, влюбленная в свой вытяжной шкаф Надежда Петровна ничем не напоминала своей подтянутой, стройной и строгой сестры. Вера Петровна вся была как логарифмическая линейка – гладкая, узкая, точная. Знала она свой предмет досконально. Андрей Михайлович не мог с нею соперничать да и не пытался.
– Я любитель, а она специалист! – с улыбкой сказал он нам. – Кесарю – кесарево, богу – богово!
– Зато вы такой же специалист в физике! Однако вам не мешает это быть человеком! – смело выкрикнул Кирилл.
Андрей Михайлович с удивлением посмотрел на него, слегка покраснел, что с ним редко бывало, быстро ответил:
– Все, что мы делаем, не должно нам мешать быть вежливыми, особенно по отношению к женщинам!
После этого класс почтительно встал при входе Веры Петровны и долго выжидал, пока она вынимала что-то из портфеля.
– Не теряйте времени! – тонким, стеклянным голосом прокричала она.
Мальчишки скептически переглянулись: не оценила учительница их вежливости. Стоит ли стараться в следующий раз?
Да, время у нее было рассчитано до секунды. Притом она пребывала в непоколебимом убеждении, что ее объяснение всем должно быть понятно с первого раза. Тому, кто не понимал, она откровенно говорила в глаза:
– Тогда вам нечего делать в девятом классе!
Когда таких, кому «нечего делать», накопилось довольно много, она со вздохом сказала:
– Прискорбно, что у вас не было в восьмом классе настоящего математика. Придется все грехи брать на свои плечи!
Помня слова Андрея Михайловича о вежливости, ей никто не возразил, но за классного руководителя обиделись. Кто же тогда настоящий, если не он?
Справлялись с требованиями Веры Петровны полностью только Игорь Баринов, Жорка и, как ни странно, Рафик.
Остальные кряхтели. Света тут же возобновила занятия с Игорем. А я попала в тиски между собственной гордостью и презрением учительницы, сразу поставившей меня на низшую ступень:
– Я знаю, вы проявляете большие способности по литературе, но у меня вы нуль!
Вера Петровна единственная из педагогов называла нас на «вы».
Нулевое состояние. Его трудно определить. Возможно, оно повлияло на мое настроение вообще. Я снова начала в себе сомневаться. Может быть, уйти из школы, как Аня Сорокина?
– Брось! – протестовал Жорка. Он теперь был старостой класса и горячо болел за каждого. Я же была как-никак давним другом. – Давай вместе готовить уроки. Приходи по утрам ко мне. Или я к тебе. Ты же можешь! Вспомни прошлый год!
Ира и вовсе подскочила от такого моего решения:
– Да ты что! Одну меня на съедение «гусаку» оставляешь? Мы еще должны с ним рассчитаться! Не смей никуда уходить. Ты пожалеешь. Не распускай нюни!
А февральские ветры все дуют, завивают в тонкие крутящиеся столбики снег на крыше… По алгебре я кое-как вылезла, а по геометрии и тригонометрии торчат крупные «неуды» в журнале.
– Странное сочетание? – с недоумением сказал Андрей Михайлович на классном собрании, рассматривая мои четвертные отметки. – Восемь «отлично», два «уда» и два «неуда»! Такое может быть только у эмоционально неустойчивого человека. Для него главное не сам предмет, а тот, кто его ведет. Нравится учитель – прекрасно! Не нравится – все кувырком! Так, по-моему, обстоит дело с математикой.
– С физикой у нее тоже не лучше! – дерзко заметил Кирилл и сверкнул в мою сторону насмешливыми глазами.
В наступившей тишине было слышно, как гыкнул Генька Башмаков и тут же испуганно затих.
– Ну что ж! – помолчав, ответил Андрей Михайлович. – Замечание, как говорится, не в бровь, а в глаз!
Он прошелся вдоль доски, покачал головой, улыбнулся чему-то своему и что-то записал на ходу в маленькую книжечку. Собрание повел Жорка.
«Эмоционально неустойчива! – с досадой думала я. – Значит, сегодня люблю – завтра ненавижу! Так, что ли? Нет уж, Веру Петровну никогда не полюблю. Тут я устойчива!»
Бывают люди несовместимые друг с другом. В таком случае даже учитель может ненавидеть ученика, хотя по своему положению не имеет права этого делать. Вера Петровна любила все стройное, четкое, аккуратное и легко поддающееся влиянию. Я была несобранна, ершиста и непокорна.
«Самая некрасивая девушка в классе!» – сказала она про меня. Удивилась и не поверила, когда Валентина Максимовна сообщила, что этой дурнушкой интересуется самый красивый юноша. «Чушь», – сказала она.
Меня раздражал ее тренькающий, стеклянный голос и то, что она воспринимала людей только по способности к математике. Знает математику – хороший человек. Не знает – плохой.
Почти у половины «неуды»! Вера Петровна считала главным педагогическим методом беспощадную требовательность и жесткость.
– Поменьше нянчитесь с ними! – советовала она Андрею Михайловичу.
Странный упрек. Строгости и суровости достаточно у него было и так. Но и человечности много. Кирилл правильно заметил. Как он смеялся с нами! Вера Петровна считала это недопустимым. Тяжелая, железная тишина стояла на ее уроках.
Нет, о математике как о предмете я, конечно, не думала. Андрей Михайлович прав. Я сражалась с преподавателем, вся внутренне щетинилась против него. Быстрый, стеклянный голос Веры Петровны рассыпался в прах, не достигая моего мозга.
Другое дело было с физикой. Ее я учила, хотела показать себя с лучшей стороны, но по дороге к доске у меня все вылетало из головы. Если еще учитель не смотрел на меня, дело кое-как шло. Но стоило ему быстро поднять на меня глаза, как всякое соображение кончалось.
Контрольные работы писала спокойнее и поэтому гораздо лучше.
– Ой, как метет! – жаловалась Света, кутаясь в поднятый воротник.
Мы бежали домой со станции поздним вечером. Было трудно говорить от залетавшего в рот снега. Неожиданно припомнились давние стихи Поэта:
Гудела земля от мороза и вьюг,
Корявые сосны скрипели,
По мерзлым окопам с востока на юг
Косматые мчались метели…
И шла кавалерия, сбруей звеня…
Мужественная кавалерия! Какие времена были! А тут математика, каменно-бездушная Вера Петровна и слабенький ветерок, который мы не в состоянии перенести!
Надо обязательно навестить Поэта. Как он там в своей комнате со светящимися аквариумами и поющей раковиной? Я живо представила его раковину, буровато-розовую, с загнутыми внутрь зубчатыми краями. Когда-то мы с Валей по очереди прикладывали ее к пылающим от волнения ушам и слушали глухие всплески моря. Во всяком случае, мы были уверены в этом.
«Пойду в первый же свободный день! Вот кто скажет нужное бодрое слово!» – подумала я, а вслух спросила:
– На лыжах пойдем завтра?
– Что ты! – испугалась Света. – Завтра контрольная по тригонометрии. Поеду заниматься с Игорем!
Да. Контрольная. От нее не уйдешь. Я просмотрела вечером синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы и безнадежно закрыла тетрадь.
– Папа, научи меня столярничать! – крикнула я отцу, строгавшему что-то в комнате при кухне.
– Была бы парнем – научил! – весело отозвался отец и вошел ко мне в комнату с сидящей на плече кошкой.
От него шел густой смешанный запах сосновой стружки и столярного клея. Есть же на свете простая хорошая жизнь! Почему я не парень?
Я поехала в школу на час раньше. Все-таки что-то грызло душу. Ветер стал тише. По высоким сугробам скользило солнце. Февраль. Последний месяц зимы. Я села в теплый вагон и с любопытством заглянула в развернутую газету, которую читал мужчина в шинели.
Большое тяжелое лицо с ястребиным взглядом занимало четверть страницы. Поэт! Это его фотография! В его доме она висела над постелью сына. «Наверное, написал новое стихотворение», – подумала я.
– Умер! – тихо сказал мужчина в шинели, и только тут я обратила внимание на черную рамку.
– Умер? – шепотом спросила я.
Как же так? Еще вчера мне вспомнились его стихи, и я собиралась пойти к нему. Значит, теперь этого никогда не будет? К кому же идти?..
Я бежала к школе, дыша открытым ртом. Почему-то казалось, что вокруг солнца плавают темные круги. Из второй смены еще никого не было. Не вбежала, влетела в физический кабинет. Пусто. Только в углу, у окна, возле Игоря Баринова сидели Света, Лилька и еще кто-то. Все враз недоуменно подняли головы. А я – сама не могу понять, как это случилось, – кинулась к лаборантской и рывком открыла дверь. Андрей Михайлович тут же поднялся из-за стола.
– Умер! – сказала я, останавливаясь перед ним.
– Кто? – с тревогой произнес он и пододвинул стул, на котором только что сидел сам.
– Умер, умер… – бессмысленно повторяла я.
Он торопливо налил в стакан воды из какой-то колбы и, расплескивая, поднес мне.
– Не надо. После. Понимаете, умер Поэт! А я к нему хотела пойти… И не успела. Полтора года не была…
– Ах, вот что! – Он наклонил голову, стараясь переключиться на мою волну. – Да… Я видел сегодняшние газеты… Так ты хорошо знала его? – Он приблизился ко мне, лицо его приняло сочувственное выражение. – Вот ты какая, оказывается, впечатлительная!
И все-таки он был растерян, не сразу решил, как поступить дальше. Пододвинул стул.
– Сядь. Расскажи!
Я рассказывала какими-то отрывками, страшно неровно. Мелькали пионерские галстуки, салюты, пруды с тритонами, аквариумы – строчки стихов…
– Нет, нет, это не то! Вы не поймете! Я плохо рассказываю… – бормотала я.
– Нет, отчего же? – тихо ответил он и о чем-то задумался.
В наступившей тишине стали слышны возня и смех ребят за стеной. С неожиданной резкостью прозвенел первый звонок на урок. Жизнь настойчиво напоминала о себе. Ее ничто не могло остановить.
– Контрольная по тригонометрии! – с ужасом проговорила я и, схватив с пола портфель, выскочила из лаборантской.
В классе все стояли ко мне спиной, приветствуя Веру Петровну. Я скользнула на заднюю парту рядом с Рафиком, будто всю жизнь здесь сидела, и уставилась на доску.
Вера Петровна всегда давала только один вариант. Она гордилась своей зоркостью и уверяла, что у нее никто не посмеет списать. Малейшую попытку заглянуть в тетрадь к соседу она отмечала галочкой на полях. Две такие галочки – и «неуд» обеспечен!
Она, конечно, заметила, что я не на своем месте. Я объяснила это сломанной крышкой на своей парте. Это была правда. Крышка все время отскакивала. Но ведь не мешала же она мне раньше! Вера Петровна пожала плечами, но оставила меня в покое.
Взволнованная всем происшедшим, я смотрела на написанные на доске примеры и ничего не соображала… Лицо Поэта в черной рамке… Лицо Андрея Михайловича с задумчивыми глазами… Поющая морская раковина, побуревшая от времени…
– Решай! Не сиди! – шевелит губами Рафик и с тревогой косит на меня добрый черный глаз.
Тетрадь моя чиста. Даже не переписаны задачи.
– Списывай! – опять шепчет Рафик – и снова в свою тетрадь.
К нам медленно, как кошка к воробьям, подходила Вера Петровна. Но не дошла. Кто-то заинтересовал ее в другом ряду.
Чтобы не привлекать внимания, я переписала задание с доски. Но что толку? Вдруг Рафик сталкивает мою тетрадь и лезет за ней под парту.
– Что такое? – дрожит стеклянный голос Веры Петровны.
– Нечаянно уронил! – лопочет Рафик, что-то быстро перекладывает, и в результате передо мной лежит его работа с полным решением, а моя тетрадь у него.
«Эх, в конце концов, Вера Петровна не Андрей Михайлович! Можно и надуть разок. „Неуд“ мне сейчас никак нельзя получить!» – лихорадочно думаю я и делаю отчаянную попытку разобраться в записях Рафика. Вроде даже что-то ясно. Ну, а дальше что делать? Краем глаза вижу, что Рафик пишет заново решение в моей тетради, стараясь подгонять почерк под мой.
Со звонком все работы сданы и уложены аккуратной стопочкой на учительском столе. Вера Петровна не терпит промедлений. На чем остановилась, на том и сдавай! Хоть лопни!
– Ну и скандал будет! – говорю я Рафику.
– Не будет. Я нарочно сделал две ошибочки небольшие, чтобы не было подозрений. «Удик» обеспечен! – искренне радуется Рафик. – Только не понимаю, чего ты дрейфишь? Все так просто. Давай объясню!
И действительно не очень сложно. По крайней мере, у Рафика я все поняла. Не потому ли, что очень уж доброжелательно были устремлены на меня его большие детские глаза? Ничего не поделаешь. От отношения к учителю многое зависит, если не все! Теперь бы я эту несчастную контрольную решила запросто одна.
А может быть, милый добрый Рафик прав? Чего я, в самом деле, дрейфлю перед этой стеклянной, оловянной, деревянной Верой Петровной, да еще и узкой, как логарифмическая линейка!
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед…
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Да, так было! Только сейчас он не откроет их. Приходит все же момент, когда человек не может открыть глаза. Но тогда вступает в силу то, что называется эстафетой поколений:
Чтобы в этом крохотном
Теле – навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.
Мы идем по чисто выметенной московской улице, крепко сцепив руки, и видим, как далеко впереди вслед за высоко поднятым красным гробом гарцует эскадрон молодых кавалеристов. И: «Трубы. Трубы. Трубы. Поднимают вой!..»
Ушедших оценивают по тому, что они оставили в сердцах живых. Так сказал он сам. Не зря же я знала его с детских лет!
– Ира! Даем бой Башмакову. Дальше терпеть нельзя! – решительно говорю я.








