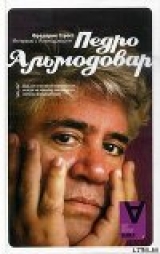
Текст книги "Интервью с Педро Альмодоваром"
Автор книги: Фредерик Стросс
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Твои отношения с женщинами скорее напоминают полный любви взгляд Фассбиндера.
В этом смысле да. Меня точно так же завораживает мелодрама и интересует женщина, как драматический сюжет. А защита женщины, как и наше тяготение к барочной мелодраме, на самом деле означает стремление к защите маргинальных социальных классов. В случае с Фассбиндером этот интерес был более интеллектуальным, в моем случае это в первую очередь вопрос происхождения. Но мы с Фассбиндером совершенно непохожи в другом: он всегда использовал манихейский способ разоблачения несправедливости, совершенно четко указывая, кто злой, а кто хороший, причем злые у него были настоящими чудовищами. Думаю, что я, за исключением «Кики», никогда не смотрел на своих персонажей манихейским взглядом. Если я кого и защищаю, то со всеми присущими им сложностями и противоречиями. Понятно, к примеру, что я на стороне матери в «За что мне это?». Но я никогда не буду создавать портрет совершенной матери, полной самоотречения. У матери из «За что мне это?» нет времени на самоотречение, она напряжена, очень жестко обращается со всей семьей – и с бабушкой, и со своими собственными детьми. Это не образцовая мать, и хоть я и на ее стороне, но мне хочется объяснить ее сложность; это героиня, но ее нельзя назвать примером.
Когда ты открыл Фассбиндера?
Он тогда еще только начинал, в то время я уже был в Мадриде. Я не знаю, какой фильм увидел самым первым, возможно, «Горькие слезы Петры фон Кант» – театральность нас с ним также сближает, – но здесь показывали все его фильмы. Мне очень понравились фильмы «Страх съедает душу», «Кулачное право свободы» и не такие известные, как «Сатанинское зелье».
(В тот день Педро Альмодовар прибыл в контору «Эль Десео», сожалея, что немного устал, ибо не смог накануне выспаться из-за того, что ночью смотрел по телевизору теннисный матч с Аранчей Санчес.)
Я не представлял, что тебя может интересовать спорт.
У спортсменов такая необычная внешность, как раз для кино, видно, что эти люди страдали, боролись. Для меня они также воплощают запретное удовольствие, а поскольку я бы хотел иметь доступ ко всем видам удовольствия, это оставляет меня неудовлетворенным и завораживает. Но женский теннис – это единственный вид спорта, который интересует меня как зрелище, не знаю почему.
У тебя есть любимые теннисистки?
В этой области я ощущаю себя исключительным патриотом, больше всех мне нравится Аранча Санчес. Но я также люблю Монику Селеш, хотя она на корте напоминает какую-то дьяволицу. Меня впечатляет то, что все всегда против нее. А как режиссера меня занимает и одновременно пугает в теннисе один момент, а именно то, что игроки работают перед публикой, получая мгновенный отклик на свою работу. Это привлекает меня потому, что со мной дело обстоит ровно наоборот, меня во время работы никто не видит. В этом есть некоторое противоречие, потому что мне нравится работать в одиночестве, но в то же время хотелось бы, чтобы фильм целиком зависел от того, что я мог бы сделать прямо перед публикой.
Я хотел бы в последний раз вернуться к «Кике». Кика, находящаяся в центре истории, одновременно активная и пассивная, организующая вокруг себя персонажей и сама вовлеченная в это движение, способная, помимо прочего, вновь подарить жизнь, представляется мне метафорой роли, места и власти режиссера.
Именно так.
Не обязательно понимать это, чтобы оценить фильм, но он становится еще интереснее, когда ты ощущаешь в Кике эту двойственность.
Стоит тебе осознать все то, о чем мы говорим, как удовольствие действительно усиливается. Но я вовсе не хочу превращаться в загадочного режиссера, которого надо расшифровывать, это меня пугает, и мне вовсе не хочется продолжать в том же духе. Все, о чем я рассказываю в своих фильмах, вполне можно осмыслять, но я в то же время хочу быть прозрачным режиссером, хотя думаю, что «Кика» – это фильм не вполне прозрачный. Однако мне на самом деле хотелось сделать фильм именно об этом, пусть в нем и присутствуют противоречия, – о желании быть прозрачным, одновременно таковым не являясь, – и я это признаю. Это сумма многих ощущений, которые я испытываю.
В одном из твоих недавних интервью еженедельному приложению к «Эль Пайс» ты говорил о желании нарушить свое одиночество и участвовать в жизни других людей. Кажется, этого же хотела и Кика.
Это естественное для Кики желание, она так живет. Кика представляет для меня идеал поведения, но во мне нет ни ее бессознательности, ни ее невинности. Кика делает добро естественным образом. Если же я хочу сделать добро, то, выражаясь словами кюре, я не делаю его непосредственным образом, я его обдумываю, организую, сознательно его подготавливаю, так что на самом деле, если я и делаю добро другим, это в первую очередь потому, что я делаю добро себе. Я не зол и не расчетлив, но отношусь ко всему сознательно. Кика же добра непосредственно, без раздумий. Я бы очень хотел быть таким, как она. Моя непохожесть на нее заключается также в том, что вся моя жизнь в течение пятнадцати лет была посвящена кино, и это отдает своего рода эгоизмом: ты посвящаешь все свое время одному конкретному занятию, а другие почти исчезают. Несомненно, это всего лишь одиночество и эгоизм художника, но эти одиночество и эгоизм тяготят меня, и теперь я чувствую необходимость открыться. Иногда это меня немного пугает: я спрашиваю себя, от кого исходит желание открыться – от режиссера или же от человека. Не исключено, что мне просто хочется рассказать таким образом другие истории. Но для этого я должен именно пережить другие истории.
Удивительно, до какой степени интервью, опубликованное в «Эль Пайс», сконцентрировано на твоей личности, как будто весь интерес, вся загадка заключается именно в тебе, а не в твоих фильмах.
Для меня как для режиссера это одна из самых больших проблем, это ужасно несправедливо по отношению ко всем, кто помимо меня занимается моими фильмами. Я не хотел этого, но оказался в центре внимания, а все остальные – технические сотрудники, актеры – как будто исчезли… Я все больше стараюсь не находиться в центре внимания, избегать этого, но в данный момент мишенью всегда являюсь я – будь то похвалы или нападки. Для моих фильмов это не очень хорошо, и, может быть, именно поэтому их лучше понимают за границей, а не в Испании. Там я не персонаж, а просто режиссер.
Возможно, это также и цена твоего таланта: ты ведь часто подчеркивал в своих интервью, что делаешь кино изнутри. Так что вполне логично, что людей интересует именно то, что в тебе, – твой инстинкт, глубина твоей личности.
Это было бы самым позитивным объяснением. Но мне кажется, людей в первую очередь интересует нечто другое: внешняя жизнь, сплетни. Хотя было бы хорошо, окажись ты прав.
Страсти в Мадриде
«Цветок моей тайны» (1995)
«Живая плоть» (1997)
Любовь возвращается. Едва оправившись после полученного в «Кике» удара, в «Цветке моей тайны» она обретает черты писательницы, пишущей дамские романы под псевдонимом Аманда Грис, чья жизнь омрачена самыми мрачными мыслями о мужчине, который хочет ее бросить. Педро Альмодовар и Мариса Паредес, которая играет Аманду Грис, объединяют свою чувственность, чтобы обнажить боль любви, обыгрывая забавные романтические ситуации. На этот фильм, по-женски розовый и черный, вскоре откликнется фильм по-мужски страстный, в красном и черном: «Живая плоть». Это вольная, также очень романтическая экранизация детективного романа, позволяющая Альмодовару вновь обрести смысл закона, единственного, который он признает, – закона желания. Кино из внутренних эмоций и плоти: время уловок кажется далеким. Тем более что в этих двух фильмах Альмодовар вновь обретает Мадрид. Его добрый город, который в «Цветке моей тайны» излучает очарование, притягивая туристов, в самом начале «Живой плоти» превращается в жизненные декорации рождения человека. Мадрид – это еще одна великая любовь, заставляющая биться сердце Альмодовара, который также измеряет по нему проходящее время: город меняет лицо, как Испания и как персонажи его фильмов, которые выросли, созрели вместе с ним.
«Цветок моей тайны» – фильм очень неожиданный, отличающийся от всех, которые ты снял, и особенно от«Кики», картины в каком-то смысле воинственной, где все человеческое почти исчезает, а здесь ты, можно сказать, воспеваешь красоту человеческих чувств. Лео, героиня «Цветка моей тайны», – это еще одна женщина, переживающая кризис, но он впервые выражается без истерики: речь идет скорее о нервной депрессии, о слабости, о внутренней тоске и о подавленности, порождающих сильное чувство, однако в более сдержанной форме, чем обычно. Ты ощущаешь то же самое?
Не знаю, получился ли фильм более сдержанным. Но он точно более строгий, более четкий и более синтетический. Когда ты рассказываешь о женщине, переживающей кризис, ты не обязан изображать ее истеричкой. А если уж сравнивать «Цветок моей тайны» с «Кикой», то можно сказать, что это полная противоположность. «Кика» – фильм многоплановый, в нем рассказывается об идеях, а не о персонажах; «Цветок моей тайны» – это картина о персонажах, с линейной повествовательной структурой. «Кика» – это фильм полностью искусственный: когда там видишь город, то это только образ города, а вот «Цветок моей тайны» я снимал в естественных декорациях. В «Цветке моей тайны» ощущается гораздо больший оптимизм, чем в «Кике», хотя это и драма. Персонажи «Кики» в основном злые, а здесь таких вообще нет. Конечно, герои «Цветка моей тайны» иногда совершают промахи, ошибаются и наносят вред другим людям, но они никогда не делают этого нарочно. Можно найти и другие противоречия.
Кризис Лео можно описать как некий блюз, грусть, движение души, а эти чувства являются новыми для твоего кино, не так ли?
Здесь речь идет скорее о сильном беспокойстве, нежели о грусти. Грусть кажется мне слишком мягким чувством для выражения того, что переживает Лео. Как будто ты смешиваешь меланхолию и страдание. Страдание Лео похоже на страдание животного, выпотрошенного живьем. И ее страдание становится таким сильным, что наступает момент, когда только самоубийство может принести ей избавление. Даже когда Лео возвращается в свою родную деревню и мать рассказывает ей, как она родилась, она осознает нечто ужасное: мать говорит, что с самого рождения ей пришлось бороться за жизнь: она пришла в мир почти задохнувшейся. Лео понимает, что борется за жизнь с самого рождения, и эти воспоминания вовсе не вызывают у нее ностальгии.
В дуэте Чу с Лампреаве и Росси де Пальма, двух женщин с огненным темпераментом, все же преобладает волнение, а не истерика.
Я очень доволен этими сценами. Для меня это настоящий семейный портрет. Лео принадлежит к другому общественному слою, но когда она приходит к своим матери и сестре, видно, что у них одни корни. Становится понятно, как эти две женщины живут с мужем и детьми дочери. Отношения, связывающие Чус и Росси, типичны для некоторых испанских семей. Мать и дочь обожают друг друга, и если им приходится расстаться, они в ужасе, начинаются слезы, рыдания. Но стоит им соединиться, как они начинают говорить друг другу ужасные вещи, постоянно ругаются. И так длится всю жизнь. Это и забавно, и ужасно одновременно.
В «Цветке моей тайны» ощущается постоянная работа над эмоциями, здесь даже реклама преподносится так, что является источником переживаний. Похоже, ты и сценарий писал, и постановкой занимался в состоянии одержимости.
Да, основа фильма, его истоки – это самые простые эмоции. Я показываю драму Лео посредством мелочей, узнаваемых, но почти незаметных. Лео одинокая, глубоко одинокая женщина, и это одиночество сделало ее ужасно уязвимой. Эта уязвимость появилась не вчера, просто годы одиночества породили годы уязвимости. И это я показываю в самом начале фильма очень простым способом: Лео надевает ботинки, которые ей жмут; когда она надела их впервые, их снял с нее муж, но его уже с ней нет. Обычно ей помогает домработница, но сегодня у нее выходной, и когда Лео звонит ей, никто не отвечает. Эта женщина так одинока, что вынуждена ехать через весь город на работу к подруге, чтобы та помогла ей снять ботинки. А когда она наконец приходит к этой подруге, держа в руке сумку со сменной парой, у нее уже нет никаких сил. Это ужасное одиночество. Я выстроил весь фильм на эмоциях. Но не ради упрощения, ведь это риск: если зритель не разделит эти эмоции, меня ждет полный крах.
Эта работа над эмоциями делает портрет Лео очень выразительным, что ничуть не удивляет в твоей работе, но, кроме того, очень нежным, тонким: еще никогда ты не описывал так глубоко персонаж столь уязвимый, подверженный любым человеческим чувствам.
Я очень хорошо понимаю, что ты хочешь сказать, но меня немного смущает необходимость это обсуждать. Все это означает, что «Цветок моей тайны» – фильм зрелый, более зрелый, чем все, что я снял до настоящего момента. Действительно, теперь я перевалил уже за тридцать, но думать об этом мне не особенно нравится. Я ненавижу, когда говорят, что это зрелый фильм, но это очевидно, и я тут ничего не могу поделать! Думаю, только гении не достигают зрелости.
Одиночество Лео проявляется в эпизоде самоубийства, и в частности, когда в полной темноте звучит голос ее матери как противопоставление смерти и силы возрождения, что очень впечатляет. Именно по таким моментам можно оценить размах постановки, ее зрелость.
Голос матери вызывает Лео из царства мертвых. Этот голос как аромат, запах хорошего блюда, готовящегося на кухне и проникающего в коридор, затем в комнату Лео, чтобы пробудить ее из этого последнего сна. Лео слышит на автоответчике голос матери, которая говорит, что плохо себя чувствует, что у нее давление, и она думает: «Если я умру, мама тоже умрет». Эта мысль заставляет ее действовать. Голос спас ее, это голос жизни. Сперва у меня был другой замысел, я хотел сделать эту сцену довольно сложной, но затем понял, что ее можно снять очень просто: лицо Лео, ее профиль на подушке, ее рот, закрытый тенью от ее плеча, и постепенное погружение в темноту. Трюк старый, как кино, однако могущий прекрасно передать погружение Лео в смерть. А затем в этой ужасной темноте звучит голос ее матери, и снова в кадре появляется Лео, чье лицо передергивается, затем появляется ее рот, чтобы исторгнуть крик, хрип: «Мама!» Может быть, потому этот фильм и определяют как сдержанный, взять хотя бы то, как я снял эту сцену, – камера почти неподвижна, налицо стремление к безыскусности. Для этого сценария я хотел найти именно такое решение. Как раз тогда я и понял, как нужно передавать эмоцию. Сдержанность фильма исходит не от Лео, а от меня.
Одиночество ощущается также и через «Солеа», отрывок из Майлза Дэвиса, уже использованный тобой в «Высоких каблуках» и сопровождающий здесь очень красивый и даже пугающий танец матери и сына…
Ты все понял! Эта сцена прекрасно выражает сдержанность, которая, как я говорил, определяет фильм. Сначала мы приготовили картину для фона этого спектакля, но я предпочел не использовать ее в фильме и снять танец перед голой стеной. Единственные цвета – это красное и черное: земля, стена, одежды сына черные, а мать одета в красное. Чтобы осветить все, оператор использовал красный свет, сделавший красное платье еще более ярким. Эти два цвета делают картину танца очень жесткой и в то же время очень драматичной.
Когда Лео возвращается в деревню, мать говорит ей странную фразу, которая кажется мне еще одним способом подчеркнуть ее одиночество, одновременно забавным и трогательным: «Ты как корова без колокольчика». Откуда это выражение?
Я думал назвать фильм именно так: «Как корова без колокольчика». Это очень хорошо звучит по-испански, но выражение на самом деле известно только в Ла-Манче, где оно в ходу. Быть как корова без колокольчика – это быть потерянным, когда на вас никто не обращает внимания. Это выражение я позаимствовал у своей матери и уже давно им пользуюсь. «Ты как корова без колокольчика!» – так она мне всегда говорит. Так что мать Лео говорит ей: «Ты такая же потерянная, как и я, я тоже корова без колокольчика, у меня уже нет мужа,– и добавляет: – Но в моем возрасте это более нормально». Она объясняет ей, что женщина должна вернуться туда, где родилась, чтобы разобраться во всем и вновь обрести смысл жизни. Впрочем, именно поэтому мать постоянно просит ее вернуться в деревню: она хочет сама вновь обрести себя, это не простой каприз.
Мать также читает стихотворение, и это один из самых прекрасных моментов фильма. Как тебе пришла в голову эта сцена?
Все это произошло потому, что однажды второй канал Би-би-си снял обо мне документальный фильм, в котором моя мать дает интервью. Журналист просит ее рассказать обо мне, и она начинает с самого начала и рассказывает, как я родился. Рассказать о своем сыне – это значит рассказать всю его жизнь! Затем ей захотелось прочитать стихотворение, правда, это было весьма среднее стихотворение. Но она прочитала его так, что я просто задохнулся, точно так, как я бы попросил актрису его прочитать: не подчеркивая рифмы, очень естественно и в то же время в очень современной манере. Моя мать не знает, кто написал это стихотворение, которое называется «Деревушка», но она тоже пишет стихи. Если она видит птицу, которая кажется ей красивой, она пишет стихотворение, а когда я два месяца тому назад на праздник матерей подарил ей букет, она посвятила стихотворение этому букету.
Отношения между реальностью и вымыслом очень явственно ощущаются в твоем творчестве, начиная с «Высоких каблуков» и «Кики». На сей раз они проявляются через тему дамского романа, противопоставленного реальной жизни Лео, но проблема, которую ставит эта часть сценария, похоже, просто разрешается постановкой, при которой используются естественные виды и декорации, вот и все. Значит, твое желание покончить со студийными ухищрениями стало уже совершенно четким и ясным?
Решение снимать в естественных декорациях сначала было для меня эстетическим, визуальным, я давно его принял. «Цветок моей тайны» соответствует моему пониманию неореализма. Это не означает, что я в дальнейшем собираюсь снимать натуралистические фильмы, жанр которых мне вовсе не нравится, это не мое. Когда я говорю о реальности, я имею в виду какую-то определенную вещь, реально существующую, которую можно показать верно, а можно исказить. Это и есть представление. Реальность интересует меня как объект, который можно представить, и как элемент, необходимый для создания вымысла. Правда, эмоции, вызванные таким образом, связаны с этой неоспоримой реальностью, которая является реальностью нашего существования, нашей собственной чувственности, но для меня фильм – это всегда представление, а представление всегда включает в себя искусственные приемы. Так что когда мы говорим о реальности, мы имеем в виду искусство манипуляции.
Как тебе удалось поставить и задумать сцену демонстрации студентов-медиков, которая является одной из самых захватывающих в фильме и ближе всего к документальному кино?
Сперва я решил, что это будет демонстрация студентов-медиков, потому что они носят белое. Таким образом, в кадре только Лео будет в цветной одежде, в голубом пиджаке, что позволит визуально подчеркнуть ее отдельность. Когда Лео выходит на улицу, она только что избежала смерти, и жизнь в ее глазах непонятна и абсурдна. Но внешняя жизнь полна молодости, страсти, и эта молодежь, которая идет в противоположном направлении, наполняет воздух энергией. Таково значение этого эпизода, значение, имеющее отношение к кинематографическому языку, но не к истории. Вот две причины появления этой сцены, затем можно назвать и другие, и все они подходят. Эта студенческая демонстрация помещает фильм в исторический контекст, в конкретный момент испанской реальности, и все эти агрессивные лозунги в отношении Фелипе Гонсалеса выражают неудовлетворенность испанцев современным правительством. Это придает сцене выразительность, но я вовсе не рассчитывал на такой эффект, изначально у меня были гораздо более легкомысленные, или же, иначе говоря, художественные намерения.
Во время съемок «Цветка моей тайны» ты сказал мне, что натурные съемки возбуждают твое воображение. Каким образом?
Естественные декорации заставляют особым образом относиться к постановке. Ты вынужден принять географию тех мест, где находишься. Если квартира создается в студии, никому и в голову не придет сооружать там огромный коридор, какой есть в квартире, где живет героиня Марисы. Мне пришлось найти применение этому коридору. В результате ты делаешь то, чего в другом случае не стал бы. Таким образом, сцена встречи Лео и ее мужа, ключевая сцена фильма, начинается в прихожей, слишком узкой для этой квартиры. Чтобы дать ощущение пространства в подобном месте, туда ставят зеркало. Не я изобрел этот прием, который всем уже давно известен. Но я придумал использовать вместо большого зеркала несколько маленьких зеркал, в которых отражается поцелуй Лео и ее мужа. Это создает их фрагментарный образ, объясняющий все: с самого первого мгновения пара распадается на куски. До этого я никогда бы не додумался, если бы снимал в студии: чтобы снять эту сцену, я бы просто отодвинул стену. По тем же причинам я бы никогда не стал продлевать кадр с Лео в тот момент, когда ее покидает муж. Именно это место вызвало у меня желание снять взгляд Лео на фоне шагов ее мужа по большой лестнице, когда он спускается, покидая ее.
В «Цветке моей тайны» ощущается великолепное равновесие между главной героиней, Лео, и всеми более или менее второстепенными персонажами. Как обычно, здесь сталкиваются несколько историй, но совершенно ненавязчиво. Должно быть, тебе пришлось все держать под контролем, чтобы добиться такого результата?
Нет, я хотел доказать, что я вполне способен соединить все нити повествования, когда я хочу. Если захочу. Всегда есть способ это сделать. В этом фильме меньше, чем в других, ощущается присутствие хора. Структура сценария похожа на роман, разбитый на главы. Я ведь чуть было не дал название каждой большой части фильма: «Одиночество Лео», «Семья», «Эль Пайс», «Визит мужа», «Самоубийство», «Возвращение в деревню», «Возвращение в город». Конечно, помимо Лео в каждой главе есть и другие герои. Но повествование является линейным, ведь все держится на ней, а прочие персонажи появляются лишь в зависимости от своей связи с ней, что позволяет избежать разброса. Лео объединяет их всех. Поскольку ее история описывает круг, чтобы вернуться в то же место, она постепенно замыкает не только собственную историю, но и истории других персонажей. Этот фильм зрителю смотреть гораздо легче. Но это связано лишь со случайным вдохновением и вовсе не означает, что в своих следующих фильмах я не буду экспериментировать с другими жанрами повествования. Просто именно к этой истории лучше всего подошел такой жанр. В любой истории есть свои правила, и случается, что она соответствует насущным запросам зрителя, который не хочет отвлекаться на разные другие истории, поскольку это требует слишком много усилий. Я имею в виду широкую публику. К счастью, если нелинейное повествование удается, публике оно нравится, как в случае с «Криминальным чтивом», где один персонаж умирает, а потом появляется снова, но это никого не шокирует. И все же я чувствую сильную необходимость бросить публике подобный вызов. Но в другом сюжете.
Мориса Паредес в роли Лео просто удивительна: она как будто не в себе, не знает, кто она такая, до самого конца фильма. Это очень оригинальная и также очень смелая композиция.
Мариса проделала великолепную работу, очень необычную и действительно очень оригинальную. У любого актера в такой роли возникло бы искушение утрировать свою игру. Марисе же удалось прекрасно передать то, что я хотел вложить в персонаж Лео, она очень искренне выражала все свои чувства. Это как сольный концерт. И если нам удается достичь самой глубокой близости с персонажем, то это тоже благодаря ей. Иногда она напоминает мне Гарбо, особенно когда сидит в кафе в своей шляпе. В фильме она часто плачет, но это всегда разные слезы. Можно было бы сказать, что существует целый перечень, меню слез: слезы после ухода ее мужа, слезы встречи с матерью, дома, слезы ностальгии, слезы слабости, бессилия или же эмоциональные. Мариса очень волновалась по этому поводу, она говорила мне: «Педро, ты уверен, что это не одно и то же?» Действительно, когда она плачет, то плачет и, может быть, не чувствует разницы. Признаюсь, для меня как для режиссера нет более захватывающего зрелища, чем плачущая женщина. Меня завораживает все, что ведет к этим слезам, все, что пережила эта женщина перед тем, как заплакать. Но на сей раз со слезами вышел некоторый перебор, так что я пообещал себе в следующем фильме вообще не снимать слез.
Однако «Цветок моей тайны» нельзя назвать слезливым фильмом, и в этом также его оригинальность.
Нет, вовсе нет, и я все сделал, чтобы этого избежать. Это очень естественные слезы. Помню, как-то мы прогуливались по Мадриду с одним испанским режиссером и прошли мимо двух мальчиков на скамейке, один из них курил сигарету, заливаясь горючими слезами. Он плакал самым что ни на есть естественным образом, не драматизируя, не подчеркивая того факта, что плачет. Именно это я и хотел сделать в фильме: уйти от сентиментальности, от всего показного. Я определил «Цветок моей тайны» как фильм добрых чувств, прекрасно осознавая, что это определение очень опасно. Обычно фильм добрых чувств автоматически делает уступку сентиментальности, но тут она совершенно отсутствует, как в постановке, так и в игре. По мере съемок я все больше упрощал постановку. Это драма, а не мелодрама, даже если в этой драме много песен. Я ничего не имею против мелодрамы, но этот фильм сильно отличается от «Высоких каблуков». «Цветок моей тайны» – фильм о боли, о боли почти эпического размаха. Но это не эпический фильм о боли. Эта боль – боль заброшенности, и думаю, что именно эту боль ощущают физически, как смерть. Не важно, что персонаж, который ушел, продолжает жить для всех остальных, конец этих отношений для нас равнозначен смерти. Впрочем, возможно, что спокойствие, о котором вы говорите, связано с тем фактом, что я снял боль. Снимая боль, я вижу ее на самом деле почти мистическим образом, как если бы вставал на колени, чтобы помолиться перед алтарем боли. Может быть, именно это чувство ощущается в кадрах фильма, как и некоторая отрешенность. Боль волнует меня, это для меня как религия, религия, позволяющая всем понимать друг друга, ведь все знают, что такое боль.
Не это ли воплощает для тебя Чавела Варгас, которая снова появляется в этом фильме, после того как пела в «Кике» песню «Luzdeluna»?
Чавела великая жрица этой религии! Впрочем, пончо, которое она носит, немного похоже на одежды священника во время мессы. А одно она делает очень хорошо, даже лучше, чем большинство других артистов, – раскидывает в стороны руки как бы в жесте распятия. А еще у Чавелы лицо первобытного бога. В фильме у нее роль заступницы, в своей песне она рассказывает о том, что на самом деле происходит с Лео. Когда Лео возвращается к жизни, ей очень плохо, и в этой внешней совершенно абсурдной жизни, подобной телевизионному репортажу с конкурса криков, который каждый год устраивается в небольшой испанской деревушке, появляется образ Чавелы, которая говорит о заброшенности, о том, что она чувствует. Это как галлюцинация! Именно это чувство я хотел выразить.
Одиночество, о котором повествует фильм, воспринятое взглядом, проникающим в самую суть, напомнило мне одиночество из твоего рассказа о детстве, являющееся неотъемлемой частью бытия. Возможна ли такая связь?
Такое возможно, но если я об этом и вспомнил, то бессознательно. В фильме присутствует период из моего детства, выраженный явно, например, то, как Лео, читая в патио дома своего детства письма соседей и сочиняя для них письма, обретает связь с литературой и писателями. Это личное воспоминание. У меня было очень одинокое детство, но я наполнял это одиночество вещами, которые, в свою очередь, меня неимоверно подпитывали, и я очень много говорил, даже закатывал длинные монологи! Мне не хочется, чтобы думали, будто я был одиноким ребенком, со всеми вытекающими из этого последствиями, даже если это и правда. Я не считаю себя таким.
По поводу сцены из «Высоких каблуков», когда Марией Паредес возвращается в дом, где давно родилась, чтобы там умереть, ты говорил, что ее корни надо искать в смерти твоего отца. И вот Мориса ПаредесQioea в центре фильма, который является еще более личным. Способствуют ли связывающие вас отношения подобной исповеди?
Да, вполне вероятно, но на самом деле я не отдавал себе в этом отчета. Многие вещи пришли в виде импровизации, особенно в той части, которая происходит в Ла-Манче. Идеи снимать деревню в Ла-Манче, поющих деревенских соседок возникли во время съемок. Как только действие переходит в Ла-Манчу, фильм отягощается очень волнующими для меня вещами, к которым я и сам не был готов. Я родился в Ла-Манче и жил там восемь лет. Эти первые годы помогли мне понять, что я не люблю это место, что я не хочу там жить, и все мои дальнейшие поступки были противоположны тому, что я видел в Ла-Манче, образу жизни, мыслям, бытию этих людей. Но, сняв этот фильм, я обнаружил, что принадлежу Ла-Манче, хоть туда больше не езжу и вся моя жизнь является противоположностью тому, что должен делать правоверный ламанчец. Белые улицы этих деревень, побеленные известкой дома вызывают у меня волнение. Это первые улицы, которые я видел. А поля Ла-Манчи всегда меня впечатляли, это огромные плоские пространства красной земли, сливающиеся с небом на горизонте, без всякой разделяющей линии. Именно поэтому у художников Ла-Манчи так много воображения, ведь им приходится изобретать фигуры, чтобы населить это пустое пространство. Мое детство – это также голоса соседок в патио, которые рассказывали ужасные истории, например, о самоубийстве другой соседки, которая бросилась в колодец. У меня навсегда осталось впечатление, что вода колодца, кристально чистая и в то же время темная, – это последнее зеркало, в которое смотрится житель Ла-Манчи перед смертью. Подобные истории довольно-таки ужасны, и я действительно всю свою жизнь с этим боролся, но я родом оттуда, и даже если слова об этом оскорбляют мое целомудрие, я признаю, что этот фильм является исповедью, рассказом о моих корнях. Возвращаясь же к сцене из «Высоких каблуков», о которой ты говоришь, надо заметить, что в ней забавным образом повторяется то же самое: Мариса возвращается в дом, где родилась, чтобы там умереть, и если возможно, в кровати, где она родилась; а в «Цветке моей тайны» она возвращается в кровать и дом своего детства, но для того, чтобы снова найти начало жизни. И найти силы снова смотреть в будущее. В этом фильме есть ностальгия, это правда. И, однако, я никогда не возвращаюсь в Деревню своего детства, я там даже не снимал, в фильме показана соседняя деревня. Однако это место отчасти идеализировано.








