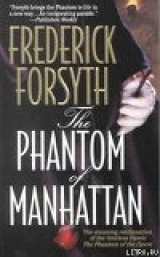
Текст книги "Призрак Манхэттена"
Автор книги: Фредерик Форсайт
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
10
Ликование Эрика Мулхэйма
Верхняя терраса, E.M. Tower, Манхэттен, Нью-Йорк, 29 ноября 1906
Я увидел её. После всех этих лет я снова увидел её, и моё сердце, казалось, вот-вот разорвётся в моей груди. Я стоял на крыше склада рядом с доками, и там, на причале была она. А затем я поймал отблеск света на линзах бинокля, и мне пришлось ускользнуть.
Поэтому я спустился вниз, в толпу, но, к счастью, в то утро было так холодно, что никто не обратил внимания на человека, чья голова была закутана в шерстяной шарф. Поэтому я смог приблизиться ближе к экипажу и увидеть её прелестное лицо всего лишь в нескольких ярдах от меня, а также всучить мой старый плащ этому глупому репортёру, который жаждал получить своё интервью.
Она была прекрасна как никогда: тоненькая талия, взбитые волосы под казацкой кубанкой, её лицо и улыбка, от которой гранит мог бы расколоться надвое. Был ли я прав? Был ли я прав, что позволил открыться старым ранам и позволить им кровоточить так же, как двенадцать лет назад в том подвале. Был ли я глупцом, способствуя её приезду сюда, когда время почти излечило боль?
Я любил её тогда в те жуткие, страшные годы в Париже больше чем саму жизнь. Моя первая, последняя и единственная любовь в моей жизни, которую я когда-либо узнаю. Когда она отвергла меня в том подвале ради своего молодого виконта, я едва не убил их обоих. Сильнейший гнев вновь нахлынул на меня, гнев, который всегда был моим верным другом и никогда меня не подводил, гнев против Бога и всех его ангелов за то, что Он не дал мне человеческого лица, как другим, как этому Раулю де Шаньи. Лицо, которое вызывало бы лишь улыбки и приязнь. Вместо этого Он дал мне эту расплавленную маску ужаса, ставшую приговором на всю жизнь, приговором одиночества и отверженности.
И всё же я подумал, несчастный, глупый бедняга, что она, всё же, может любить меня хотя бы немного, после того, что произошло между нами в тот час безумия, когда жаждущая мести толпа стремилась вниз, чтобы линчевать меня.
Когда я понял свою судьбу, я позволил им жить, и я рад, что поступил так. Но зачем я поступаю так сейчас, ведь это может принести мне только больше боли и отвержения, отвращения, презрения и антипатии. Конечно, это всё из-за письма.
О, мадам Жири, что же мне думать о вас теперь? Вы были единственным человеком, которой когда-либо было добр ко мне, единственный, кто не плевал на меня и не убегал, крича при виде моего лица. Зачем вы ждали так долго? Должен ли я благодарить вас за то, что в свои последние часы вы послали мне новости, которые вновь изменили мою жизнь, или я должен обвинять вас за то, что вы скрывали от меня это в течение двенадцати лет? Ведь я мог умереть, так и не узнав об этом. Но я не умер и теперь я знаю. Поэтому и иду на этот сумасшедший риск; я рискую, привезя её сюда, вновь увидев, вновь страдая, вновь прося, умоляя… и рискуя вновь быть отвергнутым? Вероятнее всего, скорее всего. И всё же, и всё же…
Я запомнил письмо, каждое слово; я читал и перечитывал его до головокружения, не веря, пока на его листах не остались потные отпечатки моих пальцев, и пока эти листы не измялись в моих руках. Датировано в Париже, в конце сентября, незадолго до вашей смерти…
Мой дорогой Эрик,
К тому времени как ты получишь это письмо, если это вообще когда-нибудь случится, я уже покину этот и уйду в иной мир. Моя борьба была долгой и тяжелой, прежде чем я все же решилась написать эти строки, и я пошла на это лишь потому, что знала, сколько страданий выпало на твою долю, а потому была уверена – ты должен, наконец, узнать правду; я не могу встретиться с Создателем, зная, что до последних дней своих я обманывала тебя и держала в неведении.
Я не могу предугадать, чем обернется для тебя эта новость – радостью или новой болью. Но вот правда о тех событиях, некогда напрямую затрагивающих тебя, но о последствиях которых ты уже ничего не знаешь. Лишь я, Кристина де Шаньи и ее муж Рауль знают эту правду, и я молю тебя отнестись к ней с должной осторожностью и пониманием…
Через три года после того, как я встретила несчастного шестнадцатилетнего беднягу, посаженного на цепь в клетке в Нейи, я встретила второго молодого человека, одного из них двоих – позже я буду называть их обоих «моими мальчиками». Встреча была случайной, то был ужасный трагический случай.
Это случилось поздно ночью зимой 1885 года. Опера наконец-то закончилась, девочки все разошлись, огромное здание закрыло свои двери, и я шла домой одна по тёмным улицам по направлению к своему дому. Это был короткий путь: узкий, тёмный и вымощенный булыжником. И хотя я этого не знала, но в аллее я была не одна. Впереди меня шла служанка, которую поздно отпустили из ближайшего дома, она шла быстро, с опаской по тёмным улицам по направлению к освещенному Бульвару впереди. В одном из дверных проёмов появился молодой человек, как я впоследствии узнала, всего шестнадцати лет, он прощался со своими друзьями, с которыми провёл вечер.
Из тени появился хулиган, грабитель из тех, что ходят по тёмным улицам в поисках пешехода, которого можно ограбить. Я не понимаю, почему он выбрал своей жертвой эту маленькую служаночку. У неё за душой не могло быть больше пяти су. Я увидела, как негодяй выпрыгнул из тени и схватил её за горло одной рукой, чтобы заглушить крики, а другой полез за кошельком. Я закричала: «Оставь её в покое, мерзавец. Au secours!»
Мимо меня простучали стремительно мужские сапоги, и я краем глаза поймала молодого человека в мундире, а затем он кинулся на негодяя, увлекая того на землю. Служаночка закричала и побежала прямо к бульварным фонарям. Больше я её не видела. Хулиган вырвался из рук молодого офицера, вскочил на ноги и бросился бежать. Офицер погнался за ним, затем я увидела, что мерзавец обернулся, вынул что-то из своего кармана и наставил этот предмет на своего преследователя. Раздался грохот и вспышка выстрела. Затем он пробежал через арку, чтобы затеряться во внутренних дворах.
Я подошла к упавшему и обнаружила, что это практически мальчик, храбрый и благородный, в мундире кадета из Ecole Militaire. Его привлекательное лицо было белым как мрамор, а из раны внизу живота обильно текла кровь. Я оторвала полоски ткани от своей нижней юбки, чтобы перевязать его, а затем кричала, пока владелец ближайшего дома не выглянул из окна, спрашивая, что случилось. Я попросила его срочно бежать на Бульвар и найти фиакр, что он и проделал прямо в ночной рубашке.
Да, Hôtel-Dieu был слишком далеко, госпиталь Святого Лазаря находился ближе, поэтому мы направились туда. На дежурстве там был молодой доктор, но как только он осмотрел рану и установил личность кадета, отпрыска самого знатного рода Нормандии, он послал привратника за главным хирургом, жившим неподалёку. Я больше ничего не могла сделать для паренька, и потому отправилась домой.
Но я молилась о том, чтобы он выжил, и на следующее утро – это было воскресенье, и у меня в Опере был выходной – я вернулась в госпиталь. Власти уже послали за семьёй мальчика в Нормандию, и господин хирург, дежуривший в тот момент, должно быть принял меня за мать раненого. Его лицо было мрачным и торжественным. Он пригласил меня в свой личный кабинет. Там он мне и поведал ужасные новости.
Он сказал, что пациент будет жить, но ущерб, причинённый пулей и её извлечением, оказался ужасающим. Все главные кровеносные сосуды в паху и внизу живота были непоправимо повреждены. Ему не оставалось иного выбора, как только наложить швы. Я по-прежнему ничего не понимала. Затем, наконец, до меня дошло, что он имел в виду, и я спросила его об этом напрямик. Он мрачно кивнул. «Я совершенно опустошён, – сказал он. – Такой молодой, такой симпатичный мальчик, и теперь лишь наполовину мужчина. Боюсь, он никогда не сможет иметь детей».
«Вы имеете в виду, что пуля лишила его… что он больше не мужчина?» – спросила я. Хирург покачал головой. «Это было бы даже милосерднее, потому что в таком случае он не испытывал бы желания по отношению к женщинам. Но нет, он будет испытывать страсть, любовь, желание, как любой другой молодой человек, но разрушение кровеносных сосудов означает, что…»
«Я не ребёнок, месье доктор», – сказала я, желая пощадить его деликатность, хотя осознавала, что он сейчас мне скажет.
«В таком случае, мадам, я должен сказать, что он никогда не сможет закрепить ни один союз с женщиной и зачать своего собственного ребёнка».
«Значит, он теперь никогда не сможет жениться?» – спросила я.
Хирург пожал плечами. «Это только если он найдёт странную или святую женщину, или ту, у которой наличествует другой сильный мотив, который позволит ей вступить в брачный союз без его физической составляющей, – сказал он. – Мне очень жаль, я сделал всё, чтобы спасти его от последствий кровотечения».
Я с трудом могла сдержать рыдания, услышав это. Подумать только, что этот мерзкий негодяй нанёс мальчику такую рану, из-за какой он едва не умер. Такая мысль казалась почти невыносимой. Но я пришла, чтобы увидеть мальчика. Он был бледен и слаб, но в сознании. Ему ещё не сказали. Он очень мило поблагодарил меня за то, что я помогла ему в той аллее, и настаивал на том, что именно я спасла ему жизнь. Когда я узнала, что его семья прибывает на поезде из Руана, я ушла.
Я никогда не думала, что я когда-нибудь вновь увижу моего молодого аристократа, но я ошибалась. Восемь лет спустя, когда он стал красив как греческий бог, он часто стал бывать в Опере, вечер за вечером, в надежде поговорить или хоть поймать взгляд некой особы. Позже, когда он узнал, что она беременна, то этот хороший, добрый и благородный человек, каковым он и являлся, признался ей во всём и женился на ней, дав ей своё имя, свой титул и брачный обет. В течение двенадцати лет он давал сыну всю свою любовь, какую только мог бы дать настоящий отец.
В этом и заключается вся правда, мой бедный Эрик. Постарайся быть добрым и осторожным.
О той, которая всегда пыталась помочь тебе, облегчить твою боль,
с прощальным поцелуем,
Антуанетт Жири.
Я увижу её завтра. Она уже должна всё знать. Сообщение, которое я отправил в отель, было достаточно простым. Она узнает эту музыкальную обезьянку всегда. Место и время по моему выбору. Будет ли она вновь меня бояться? Думаю, что так. Но всё же она не узнает, как сильно буду бояться встречи с ней я; бояться, что она вновь откажет мне в тех крохах счастья, которые другие мужчины принимают как должное.
Даже если меня снова отвергнут, всё уже изменилось. Я могу наблюдать с высоты за родом человеческим, который я так ненавижу, но теперь я могу сказать: «Вы можете плевать на меня, смешивать с грязью, глумиться надо мной, поносить меня; но что бы вы ни сделали, это не повредит мне теперь. Потому что, несмотря на всю грязь и ненастье, на слёзы и боль, теперь моя жизнь не напрасна; У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН.»
11
Личный дневник Мэг Жири
Отель «Уолдорф-Астория», Манхэттен, Нью-Йорк, 29 ноября 1906
Дорогой дневник, наконец-то я могу посидеть спокойно и поверить тебе свои сокровенные мысли и тревоги, так как сейчас раннее утро и все ещё спят.
Крепко спит Пьер, спокойно как ягнёнок – я десять минут назад посмотрела, – я слышу, что отец Джо храпит как в колыбельке в соседней комнате, даже толстые стены этого отеля не могут заглушить его фермерского похрапывания. И мадам наконец-то заснула, приняв снотворное, которое помогло ей уснуть. За все двенадцать лет я не видела её такой расстроенной.
Всё это связано с этой игрушечной обезьянкой, которую тот аноним послал Пьеру. Здесь был ещё и репортёр, очень милый и полезный (он строил мне глазки), но это не он так сильно расстроил мадам. Это была обезьянка.
Когда мадам услышала ту вторую мелодию, что играла шкатулка – звуки лились прямо через раскрытые двери в её будуар, где я расчёсывала ей волосы – она сделалась словно одержимая. Она настояла на том, что необходимо выяснить, откуда эта обезьянка, а когда репортёр мистер Блум проследил происхождение шкатулки и организовал нам посещение, то она попросила оставить её одну. Мне пришлось попросить репортёра уйти, а протестующего Пьера уложить в кровать.
После этого я обнаружила мадам за её туалетным столиком, она уставилась в зеркало и не делала никаких попыток окончить свой туалет. Поэтому ужин с мистером Хаммерштейном я тоже отменила.
Только когда мы остались одни, я смогла спросить её, что происходит, потому как это путешествие в Нью-Йорк, поначалу так хорошо начавшееся с этим милым приёмом в порту сегодня утром, обернулось чем-то тёмным и зловещим.
Конечно же, я тоже узнала странную фигурку обезьянки и мелодию, что она играла. На меня нахлынула волна пугающих воспоминаний. Тринадцать лет… Именно это она и повторяла во время нашего разговора. Действительно прошло тринадцать лет со времени тех странных событий, которые достигли своей кульминации в далёких и тёмных подвалах под Парижской Оперой. Но хотя я была там в ту ночь и с тех пор не раз пыталась расспросить мадам, она молчала, и я так и не смогла узнать деталей её взаимоотношений с таинственной фигурой, которую мы, хористочки, называли просто Призраком.
Но в этот вечер она, наконец, поведала мне больше. Тринадцать лет назад она была вовлечена в по-настоящему громкий скандал в Парижской Опере, когда её похитили прямо со сцены во время представления новой оперы «Дон Жуан Торжествующий», никогда более не повторяемой на сцене.
Я сама танцевала в corps de ballet в тот вечер, хотя и не была на сцене в тот момент, когда огни погасли, и она исчезла. Её похититель унёс её со сцены вниз, в самые глубокие подвалы Оперы, где позже она была спасена жандармами и остальными членами труппы, возглавляемыми комиссаром полиции, оказавшимся в тот вечер в зале.
Я тоже там была, дрожа от страха, пока мы спускались вниз с горящими факелами сквозь подвалы и коридоры, пока не достигли самых нижних катакомб рядом с подземным озером. Мы ожидали наконец-то столкнуться с ужасным Призраком, но всё, что мы нашли, была мадам, одна, дрожащая как лист, а затем обнаружили и Рауля де Шаньи, который опередил нас и столкнулся с Призраком лицом к лицу.
Там был трон с наброшенным на него плащом, мы думали, что монстр мог прятаться под плащом, но нет. Рядом с троном стояла музыкальная шкатулка – обезьянка с цимбалами. Полиция забрала её как улику, и с тех пор я её не видела: до сегодняшнего вечера.
В то время за ней ухаживал молодой виконт Рауль де Шаньи, и все девочки очень ей завидовали. Если бы не её чудесный характер, она бы даже вызывала враждебность из-за её внешности, из-за её внезапного успеха и из-за любви к ней самого желанного холостяка в Париже. Но никто не ненавидел её; мы все любили её и были в восторге от того, что она вернулась к нам. Но хотя мы сблизились с годами, она никогда не рассказывала, что произошло с ней в те часы её отсутствия. Её единственным объяснением было: Рауль спас меня. Так каково было значение этой игрушечной обезьянки?
В этот вечер я не хотела спрашивать её напрямую, поэтому хлопотала вокруг неё и принесла немного поесть, но она отказалась. Затем я убедила её принять снотворное, она стала несколько сонной, и впервые с её губ сорвались слова, проливающие некоторый свет на те странные события.
Она рассказала, что был ещё один мужчина, странный, неуловимый, который пугал, притягивал, внушал благоговейный страх и помогал ей. Который был одержим ею, и на чью страстную любовь она не могла ответить. Хористкой я часто слышала истории о Призраке, обитавшем в нижних подвалах Оперы и у которого были удивительные способности, он мог появляться и исчезать незамеченным, он навязывал свою волю директорам, угрожая им, если они ему не подчинятся. Этот человек и легенды о нём пугали нас, но я никогда не подозревала, что он был так влюблён в мою госпожу. Я спросила о музыкальной шкатулке, играющей эту мелодию.
Она сказала, что видела эту штуку только однажды, и я уверена, что это произошло именно в те часы в подвалах, когда она была там с этим монстром – это была та самая шкатулка, которую я потом нашла рядом с троном.
И пока на неё накатывал сон, она не переставала повторять, что он вернулся: он жив и близко, снова за сценой происходящего, как и всегда, ужасный гений, столь же уродливый, сколь её Рауль прекрасен, тот, кого она отвергла, и который теперь заманил её в Нью-Йорк, чтобы встретиться с ней вновь.
Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы защитить её, потому что она мой друг и мой работодатель, и она добрая и хорошая. Но теперь я напугана, потому что в ночи притаился кто-то или что-то, и я боюсь за всех нас: за себя, за отца Джо, за Пьера, но больше всего за мадам.
Последнее, что она сказала прежде чем уснуть, это то, что ради Пьера и Рауля она должна найти в себе силы вновь отвергнуть его, так как она убеждена, что он вскоре вновь появится и вновь посягнёт на неё. Я молю Бога, чтобы он дал ей эту силу, и молю, чтобы следующие десять дней пролетели быстро, так, чтобы мы все могли вернуться в наш безопасный Париж, подальше от этого места со всеми этими обезьянками, играющими давно забытые мелодии, и подальше от незримого присутствия Призрака.
12
Дневник Тэффи Джонса
Парк Аттракционов, Кони-Айленд, 1 декабря 1906
Моя работа достаточно странна. Кто-то скажет, что она не годится для человека с интеллектом и немалыми амбициями. По этой причине меня часто подмывало бросить эту работу и заняться чем-нибудь другим. Но я этого так и не сделал: за все те девять лет, что я проработал здесь, в Парке Аттракционов.
Частично причина заключается в том, что эта работа даёт чувство безопасности мне, моей жене и моим детям, и даёт прекрасный доход и удобные условия для проживания. А другая причина заключается в том, что мне нравится эта работа. Мне нравится смех детей и выражение удовольствия на лицах их родителей. Меня радует счастливый гомон тех, кто приходит сюда в летние месяцы, а также нравится тишина и покой в зимний сезон.
Что же касается условий, в которых я живу, то они едва ли могли бы быть более удобными для человека в моём положении. Я живу в уютном коттедже, в респектабельном районе Брайтон-Бич, меньше чем за милю от моего места работы. Прибавьте к этому, что у меня имеется ещё небольшая лачужка в самом сердце ярмарки, в которую я могу украдкой удалиться, чтобы отдохнуть даже в разгар сезона. Что же касается моей заработной платы, то она очень щедра. С тех самых пор, как три года назад я смог выторговать себе небольшую компенсацию за незначительный перелом, я приношу домой более ста долларов в неделю.
Поскольку я человек скромных вкусов и непьющий, я смог откладывать солидную часть этих денег на чёрный день, так что через много лет я смогу уйти на покой, обеспечив своим пятерым детям достойную жизнь и сняв их со своей шеи. Затем мы вместе с Блодвин купим себе маленькую ферму рядом с рекой или озером, а может даже с морем, где я буду заниматься сельским хозяйством или рыбачить – по настроению, – а также ходить в церковь, и стану достойным столпом местного общества. Поэтому я по-прежнему занимаюсь своей работой, которую, как говорят многие, я делаю очень хорошо.
Работа моя заключается в том, что я Затейник-Зазывала в Парке Аттракционов. Это означает, что я в своих чрезвычайно больших башмаках, в своих мешковатых штанах в крупную клетку, звездно-полосатом жилете и высоком цилиндре стою у входа в парк и приветствую посетителей. Более того, именно благодаря своим мохнатым бакенбардам, топорщащимся усам и радостной приветственной улыбке на лице, мне удаётся зазывать людей, которые иначе ни за что сюда бы не зашли.
В свой рупор я постоянно кричу: «Подходите, подходите, всё веселье на ярмарке – здесь! Пугающе и удивительно, странные и забавные вещи, заходите, мои друзья, и развлекайтесь…» и так далее и тому подобное. Я хожу взад и вперёд у ворот, приветствуя и зазывая хорошеньких девушек в их лучших летних нарядах и молодых людей в полосатых пиджаках и соломенных шляпах, которые стараются произвести на них впечатление. И семьи с детьми, которые шумно требуют всяких угощений, о которых я им напоминаю, как только убеждаю их родителей зайти в парк. И они заходят, оставляя свои центы и доллары в кассах, и из каждых пяти центов – один мой.
Конечно, это работа только на лето, с апреля по октябрь, а когда приходят первые холода с Атлантики, мы закрываемся на зиму.
Тогда я могу повесить свой костюм Зазывалы в шкаф и могу перестать петь свои уэльские песенки, которые посетители находят такими очаровательными, поскольку я родился в Бруклине и не видел никогда страну моих отцов и моих предков. Тогда я могу приходить на работу в нормальном костюме и наблюдать, как все карусели и аттракционы демонтируют и ремонтируют; как смазывают шестерёнки в машинах, изношенные детали заменяют на новые, чистят и перекрашивают карусельных лошадок, вновь покрывают лаком, а разорвавшиеся ткани латают. К тому времени, как снова наступит апрель, всё возвращается на свои места, и ворота Парка вновь открываются с первыми теплыми солнечными деньками.
Поэтому для меня было большим сюрпризом, когда два дня назад я получил письмо лично от мистера Джорджа Тилью, владельца Парка. Это он когда-то мечтал о создании Парка с партнёром, который существует лишь на словах, и которого никто никогда не видел, и уж точно не видел здесь. Именно энергия и провúдение мистера Тилью помогли его мечтам осуществиться девять лет назад, и Парк сделал его чрезвычайно богатым человеком.
Его письмо пришло специальной доставкой, и было явно очень срочным. В письме объяснялось, что в один из следующих дней (теперь уже вчера) некие люди хотят навестить Парк, и для этих людей он должен быть открыт. Он уточнил, что он знает: все карусели не могут функционировать, но подчеркнул, что игрушечный магазин должен быть открытым и с полным персоналом, и также должен быть открыт Лабиринт Зеркал.
Инструкции мистера Тилью относительно игрушечного магазина и Лабиринт Зеркал застали меня врасплох и заставили меня покрутиться, поскольку весь персонал был на каникулах, кто где и где-то далеко отсюда.
И их не так легко заменить. Механические игрушки в магазине, являющиеся его достопримечательностью, не только самые изысканные в Америке, но и самые сложные. Только настоящий эксперт может понять их действие и объяснить их молодёжи, которая приходит в магазин, чтобы удивляться, рассматривать и покупать. Я уж точно не эксперт, я мог надеяться только на везение – так мне тогда казалось.
Конечно же, в этом месте зимой царит жуткий холод, вечером накануне этого визита я установил керосиновые обогреватели, так что к утру здесь стало тепло как в летний день. Затем я снял все чехлы с полок и взору открылись ряды заводных солдатиков, барабанщиков, танцоров, акробатов и животных, которые пели, танцевали и играли. Ну, и это было всё, что я мог сделать. А сделать это всё мне пришлось к восьми часам утра, когда должны были прийти эти посетители. А затем случилось нечто очень странное.
Я обернулся и обнаружил молодого человека, который уставился на меня. Я не знаю, как он вошёл сюда, и уже собирался сказать ему, что магазин закрыт, когда он предложил мне поработать в магазине вместе со мной. Откуда он узнал, что сегодня у меня должны быть посетители? Он не сказал. Он только сказал, что когда-то работал здесь и знает, как работают механизмы всех игрушек. Поскольку постоянных рабочих не было, мне пришлось согласиться. Он не выглядел как игрушечных дел мастер, который должен быть веселым, приветливым и любим детьми. У него было бледное лицо, чёрные волосы и глаза и чёрный официальный сюртук. Я спросил его имя, он молчал секунду и ответил: «Мальта». Именно так я и звал его, пока он не ушёл или, скорее, не исчез.
Лабиринт Зеркал был другой проблемой. Это было самое удивительное место, и хотя в свободные часы я сам заходил сюда, но так и не смог понять, как оно устроено. Кто бы его не спроектировал, он, должно быть, был гением. Все посетители, выходившие оттуда после обычного маршрута через постоянно меняющиеся комнаты с зеркалами, были убеждены, что видели вещи, которые они не могли видеть, и не видели вещей, которые наверняка были там. Это дом не просто Дом Зеркал, а Дом Иллюзий. Если кто-нибудь, много лет спустя, прочтёт мои записи и заинтересуется Кони-Айлендом, то для него я постараюсь объяснить, что такое этот Лабиринт Зеркал.
Снаружи он выглядит простым низким зданием с одной дверью для входа и выхода. Как только вы попадаете внутрь, вы видите коридор, ведущий направо и налево. Не важно, в какую сторону повернет посетитель, обе стены коридора покрыты зеркалами, а сам проход в четыре фута шириной. Это важно, поскольку внутренняя стена не сплошная, а состоит из вертикальных зеркальных полос, каждая из которых имеет восемь футов в ширину и семь в высоту. Каждая из этих полос закреплена на вертикальной оси, так что когда одна из них поворачивается, управляемая пультом, половина этой полосы блокирует проход, создавая новый, открывающий, в свою очередь, путь в самое сердце здания.
У посетителя нет иного выбора, как только идти по этому новому проходу, который под воздействием механизмов превращается в ещё большее количество проходов, и в маленькие комнаты с зеркалами, которые то появляются, то исчезают. Затем становится ещё хуже, потому что ближе к центру многие из этих восьмифутовых полос не только закреплены на оси сверху донизу, но и крепятся к восьмифутовым в диаметре дискам, которые поворачиваются сами по себе. Посетитель, стоящий на полукруглом, но невидимом диске, может поворачиваться на девяносто, сто восемьдесят или двести семьдесят градусов. Он-то думает, что он стоит спокойно, а зеркала вокруг него поворачиваются, и перед ним то появляются, то исчезают другие люди; маленькие комнатки то возникают, то распадаются, посетитель обращается к незнакомцу, который появляется перед ним, и только потом понимает, что он говорит с отражением кого-то, кто стоит позади него или рядом с ним.
Мужья и жёны, возлюбленные разлучаются в течение нескольких секунд, а затем вновь соединяются вместе, но… с кем-то совсем другим. Возгласы испуга и смеха эхом раздаются по Лабиринту, когда дюжина молодых парочек на свой страх и риск бродят здесь.
Всё это контролируется зеркальщиком, который единственный понимает, как это всё работает. Он сидит в высокой будке над дверью и, глядя вверх, может всё видеть в зеркале на потолке, которое, наклонённое под особым углом, даёт ему обзор всего пола. С помощью рычажков он может создавать и разрушать проходы, комнаты и иллюзии. Проблема заключалась в том, что мистер Тилью настаивал, чтобы эта дама в любом случае посетила зеркальный Лабиринт, но у зеркальщика был отпуск, и я не смог с ним связаться.
Мне самому пришлось разобраться в управлении, чтобы я смог сам регулировать все механизмы ради развлечения этой дамы. Поэтому я с парафиновой лампой провёл полночи внутри здания, экспериментируя с рычагами до тех пор, пока не приобрёл уверенность, что смогу устроить для дамы быстрый тур и, главное, вывести её обратно, когда она этого пожелает. Когда все комнаты с зеркалами открыты, то звуки разносятся очень чётко.
Вчера к девяти часам утра всё было готово, я сделал всё, что мог, и ждал гостей мистера Тилью. Они прибыли около десяти часов, на Сёрф-авеню не было движения, и я увидел, как экипаж проезжает мимо офисов «Бруклин Игл», мимо входа в Луна-Парк и в Дрим-Ленд, по направлению ко мне вниз по улице, так что я подумал, что это должны быть они. Этот экипаж был явно наёмным, один из тех, что ждут рядом с «Манхэттен-Бич Отель» тех, кто сходит с поезда, идущего по Бруклинскому мосту, хотя в декабре таких поездов курсирует мало. Кучер осадил лошадей. Я с рупором выступил вперёд. «Добро пожаловать, добро пожаловать, леди и джентльмены, в Парк Аттракционов, в первый и самый лучший парк развлечений на Кони-Айленде!» – заорал я, хотя даже лошади посмотрели на меня, одетого в свой лучший костюм в конце ноября, как на сумасшедшего.
Первым, кто вышел из экипажа, был молодой человек, оказавшийся репортёром из New York American, жёлтостраничной газетки. Очень довольный собой, он явно был гидом по Нью-Йорку для этих гостей. Следующей из экипажа вышла самая красивая леди, настоящая аристократка, – да, такие вещи всегда сразу видно, – которую молодой репортёр представил как виконтессу де Шаньи и одну из ведущих оперных звёзд в мире. Конечно, мне не нужно было этого говорить, поскольку я читаю New York Times и сам – человек с каким-никаким образованием, хотя и самоучка. Только тогда я понял, почему мистер Тилью выразил желание потворствовать всем желаниям этой дамы. Она спустилась на мокрый от дождя тротуар, поддерживаемая под руку репортёром. Я опустил свой рупор – в нём больше не было необходимости, – отвесил ей глубокий поклон и вновь поприветствовал. Она в ответ улыбнулась – улыбкой, от которого и камень растает – и сказала с прелестным французским акцентом, что сожалеет о том, что прервала мою зимнюю спячку. «Ваш преданный слуга, мадам», – ответил я, чтобы показать, что под моей одеждой Зазывалы скрываются приличные манеры.
Следующим вышел маленький мальчик лет двенадцати или тринадцати, симпатичный, француз, как и его мать, но говорящий на превосходном английском. Он сжимал в руках игрушечную музыкальную шкатулку-Обезьянку, которая наверняка происходила из нашего игрушечного магазина, единственного в Нью-Йорке места, где можно такое купить. На какой-то момент я испугался: неужели она сломалась? Они пришли жаловаться? Причина, почему мальчик так хорошо говорил по-английски, обнаружилась следом.
Это был коренастый симпатичный ирландский священник в чёрной сутане и широкополой шляпе. «Доброе утро вам, мистер Зазывала, – сказал он. – И холодного утра нам, вытащившим вас на улицу».
«Не настолько холодное, чтобы охладить горячее ирландское сердце», – ответил я, не желая, чтобы меня превзошли, поскольку как человек, который ходит в церковь, обычно я мало имею дела с папистскими священниками. Но он откинул голову и громко захохотал, так что я подумал, что он, возможно, всё же неплохой парень.
В весёлом настроении я повёл группу из четырёх человек по дорожке сквозь ворота, мимо турникетов по направлению к игрушечному магазину, так как было ясно, что именно это они хотят увидеть.
Благодаря обогревателям внутри царило приятное тепло, и мистер Мальта ждал нас. В мгновение ока мальчик, чьё имя оказалось Пьер, кинулся к полкам, заставленным механическими танцорами, солдатиками, музыкантами, клоунами и животными, что являются гордостью игрушечного магазина Парка Развлечений, и которые нельзя найти нигде в городе и, возможно, даже в целой стране. Он носился взад и вперёд и просил, чтобы ему показали их все. Но его мать больше интересовали музыкальные шкатулки-Обезьянки.








