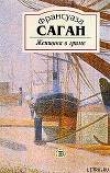Текст книги "Синяки на душе"
Автор книги: Франсуаза Саган
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– Бог их знает. Крупные буржуа, уже перешедшие на лимонад. Кто-то, кто имеет свой клуб. Что ты наденешь?
– Платье бутылочного цвета, наверное. Приведи себя в порядок, Себастьян. Возможно, тебе придется не щадить себя больше, чем ты думаешь.
Он посмотрел на нее.
– Фотографии в моей комнате и голос Жильбера говорят о том, что твой любезный приятель, наш хозяин, видимо, закоренелый педераст…
– Вот черт! – сказал Себастьян без всякого выражения. – А ведь и правда, я совсем забыл. Неплохое начало.
Два часа спустя они сидели за большим шумным столом, и Себастьян чувствовал, как время от времени к его колену прижимается колено той самой мадам Жедельман, которая была уже весьма немолода. Но, в конце концов, ее ухоженность – массаж, душ, тщательная прическа, маникюр – привела Себастьяна к философской мысли, что другие не лучше и не хуже. Элеоноре, наоборот, ее сосед, видимо, надоел. Их приход произвел более чем заметное впечатление (кто такие эти два белокурых иностранца, такие высокие и такие чужие, да еще брат и сестра, что они здесь делают?); привел их Жильбер, в восторге от своей «находки», и теперь они сидели за почетным столом. Месье Жедельмана, вероятно, уставшего от причуд своей жены, вынуждены были препроводить в спальню мертвецки пьяного в одиннадцать часов вечера. Две кинозвезды, певец, знаменитый репортер и кто-то абсолютно неизвестный сидели за столом мадам Жедельман, а фотографы вокруг порхали, словно ночные бабочки. Жильбер пытался отвечать на вопрос, кто же такие Ван Милемы, но так как он сам решительно ничего не знал, кроме того, что Робер всю жизнь бесконечно восхищался Себастьяном, то он напустил на себя таинственный вид человека, знающего много больше, чем говорит, и тем самым только вызвал всеобщее раздражение.
– Да нет, месье, – послышался вдруг голос Элеоноры, и Себастьян насторожился, – нет, я не видела ни одного из этих фильмов.
– Но это невозможно – не знать, кто такие Бонни и Клайд?
Взбешенный киноман призвал в свидетели всех присутствующих.
– Она хочет сказать…
– Мадам, – перебила Элеонора, будто бы в рассеянности, – мадам хочет сказать.
– Мадам хочет сказать, – повторил бедняга, улыбаясь, – что она никогда не слышала о Бонни и Клайде.
– Я десять лет прожила в Швеции, месье, в заснеженном замке, я говорила вам. И у моего мужа не было кинозала «на дому», как вы говорите. И нога наша не ступала в Стокгольм. Вот и все.
Воцарилась тишина, потому что, хотя Элеонора и не повышала голоса, он звучал очень резко.
– Ты раздражена, ангел мой, – сказал Себастьян.
– Это утомительно – повторять и слышать тысячу раз одно и то же.
– Тысячу извинений, – саркастически сказал киноман, – но кому мы обязаны этим возвращением из снегов?
– Замок продан, а мой бывший муж сидит в тюрьме, – спокойно сказала Элеонора. – За убийство. Мы сами делаем себе кино. Себастьян, я устала.
Себастьян уже стоял позади нее, улыбаясь. Они поблагодарили мадам Жедельман, удивив ее этим еще больше, и вышли среди полного молчания. На лестнице клуба на Себастьяна напал такой смех, что он едва мог одолеть ступеньки. Кто-то их нагнал: это был певец. У него было доброе, очень открытое, круглое лицо.
– Могу я вас проводить? – спросил он.
Элеонора согласилась, не глядя на него, села в огромную американскую машину и назвала адрес. На Себастьяна снова напал безумный смех, к нему присоединился певец, и в результате они уступили просьбам последнего где-нибудь это отметить. На рассвете он довез их до дому, пьяный в стельку.
– Будьте осторожней, – дружески сказала Элеонора.
– Разумеется. Какой прекрасный вечер. Ах, какая была шутка, какая прелестная шутка…
– Это не шутка, – любезно сказал Себастьян. – Спокойной ночи.
Июль 1971 года
Решительно, лето 1971 года было прекрасным. Погода была очень хорошая, и сено уже скосили. На другой день после приезда я остановила машину недалеко от деревни Льорей. Под тополями. Я лежала на скошенной траве и, глядя снизу на маленькие темно-зеленые листочки деревьев, во множестве трепетавшие в солнечных лучах, чувствовала, что обретаю что-то важное для себя. Машина стояла на обочине дороги, похожая на большого терпеливого зверя. У меня было время для всего, и у меня не было времени ни для чего. Не так уж плохо.
В сущности, единственный идол, единственное божество, которое я чту, – время, и совершенно очевидно – все, что бы ни происходило со мной, плохое ли, хорошее ли – все соотносится с ним. Я знала, что эти тополя будут жить после меня, а сено, наоборот, пожухнет раньше, чем я; знала, что меня ждут дома, и в то же время могла еще час лежать под деревом. Знала, что всякая торопливость с моей стороны так же глупа, как и медлительность. Не только сейчас – всегда. Я знала все. Зная, что это знание ничего не значит. Кроме отдельных моментов. Как мне кажется, единственно подлинных. Когда я говорю «подлинных», то имею в виду «моменты познания», впрочем, и это глупо. Я никогда не буду знать достаточно. Никогда, чтобы быть совершенно счастливой, никогда, чтобы мной овладела некая страсть, захватившая всю мою душу, никогда и ничего не будет достаточно для чего бы то ни было. Но эти моменты счастья, согласия с жизнью, если их правильно назвать, выполняют роль покрывала, лоскутно-утешительного одеяла, которое натягивают на обнаженное тело, загнанное и дрожащее от одиночества.
Вот и сорвалось ключевое слово: одиночество. Маленький заводной заяц, которого выпускают на беговую дорожку и за которым гонятся борзые наших страстей, дружеские связи, запыхавшиеся и алчные, – маленький заяц, которого им никогда не поймать и за которым они гонятся изо всех сил. Пока у них перед носом не закроется дверца. Маленькая дверца, перед которой они падают замертво или начинают скрести ее лапами, как моя собака Плуто. Среди людей – множество таких Плуто…
Но пойдем дальше: вот уже два месяца я не занималась Себастьяном и Элеонорой. На что они живут, что с ними происходит, с моими дорогими Ван Милемами, пока меня нет? Я чувствую угрызения совести (не слишком мучительные), словно я их опекун… Надо бы вспомнить, как зовут тех богатых людей, к которым их привели… Жедельманы, и надо решить, что Себастьян, пока меня не было, сделал с этой дамой то, что должен был сделать, проворчав по этому поводу что-нибудь вроде: «В конце концов, я не щенок какой-нибудь, я – солидный человек», и т. д. Элеонору все это только рассмешило. Но где они живут? Сейчас август или вот-вот будет. Они не могут жить ни на улице Флери, ни на Лазурном побережье – с этим все. Может быть, в Довиле? Во всяком случае, занятно представить себе сцену соблазнения Себастьяном мадам Жедельман. Вообразим себе декорации – подлинный Людовик XV, но не просто, а «богатый», день клонится к вечеру, такой теплый, нежный и голубой, какой только Париж умеет устроить среди лета, вообразим диван горчичного цвета и кое-какую мебель от Кнолля – для «раскрепощения». И среди всего этого вообразим Себастьяна, наливающего себе для храбрости побольше виски с водой. Нет, без воды.
«О небо!» – подумал Себастьян про себя, когда накануне вечером все произошло, а потом вслух повторил то же самое уже в присутствии Элеоноры; его мучительные сомнения относительно своих сексуальных способностей сменились не менее мучительной уверенностью относительно намерений мадам Жедельман. «О небо, как я теперь из этого выберусь? Она же бросится на меня и затянет в водоворот». Как всякое дитя севера, Себастьян боялся водоворотов.
Итак, он мерил длинными ногами, увы, в брюках, роскошную гостиную Жедельманов (стиль Буль-Лаленн) на проспекте Монтень. Мадам Жедельман расслабленно возлежала на диване. Ей очень понравился Себастьян, его светлые волосы, и она пригласила его – «призвала», как сказал Себастьян, на следующий день. У него не было причин для отказа, тем более что денег у них с сестрой не было, ни единого су. Элеонора, сочувствующая и ироничная, проводила его до лестничной площадки, как провожают старших братьев на войну. А теперь тут была та, другая, Жедельманша, как называют ее в Париже злые языки. Она была тут, причесанная, отшлифованная, напудренная, старая, великолепная. Впрочем, «старая» – это несправедливо: просто она была немолода. И это было видно: на шее, у подмышек, на коленях и бедрах – везде был нанесен безжалостный рисунок, похожий на географическую карту, очень подробную и очень точную, в общем, сделанную на совесть.
Нора Жедельман с любопытством смотрела, как он ходит по комнате. По всему было видно – он не из тех, которые ей обычно попадались: не «котенок». У Себастьяна была гордая посадка головы, красивые руки, ясный взгляд, который ее заинтриговал. Она спрашивала себя с любопытством не меньшим, чем сам Себастьян, что он собирается делать сначала у нее в гостиной, потом в ее постели. И хотя казалось, он спрашивает себя о том же, она решила положить конец этому недоразумению и принялась действовать. Она легко встала с дивана, с продуманным кошачьим изгибом, который вдруг напомнил ему, что завтра у нее мануальный массаж, и направилась к нему. В ожидании, когда она приблизится, он, как каменный, стоял у окна, пытаясь вспомнить какую-нибудь женщину, которая ему нравилась, или какой-нибудь эротический шедевр. Напрасно. И вот она рядом с ним, прикрытые руки обнимают его, она виснет ему на шею, и самые дорогие платья Нью-Йорка готовы вонзить в него свои клыки. К его большому удивлению, все получилось как надо, и она подарила ему пару очаровательных запонок, которые он тут же продал: Элеонора, его прекрасная птица, его сестра, его сообщник, самая большая любовь его жизни, – у нее будет сегодня королевский вечер…
Январь 1972 года
Вот уже скоро полгода, как я забросила этот роман, подходящие к случаю рассуждения и не подходящих ни к какому случаю моих шведов. Самые различные обстоятельства, сумасбродная жизнь, лень… А потом наступил октябрь ушедшей осени, такой прекрасной, яркой, такой душераздирающей в своем блеске, что я, охваченная радостью, спрашивала себя, как его пережить. Я жила в Нормандии совсем одна, полная сил и измученная одновременно, с удивлением разглядывая длинную царапину около сердца, которая быстро заживала, превращаясь в гладкий, розовый, едва различимый шрам, который потом я, наверно, буду недоверчиво трогать пальцем – зная о нем только по памяти, – чтобы убедиться в собственной уязвимости. Но, ощутив вкус травы, запах земли, я снова погрузилась в историю двоих, направляясь на своей машине в Довиль и распевая «Травиату» во все горло (есть такое выражение). И в октябрьском Довиле, заброшенном и пылающем красками осени, я смотрела на пустынное море, на сумасшедших чаек, которые проносились над дощатым настилом, на белое солнце, а повернувшись спиной к свету, видела персонажи, будто «срисованные» из фильма «Смерть в Венеции» Висконти. И вот я одна, наконец одна, сижу в шезлонге, бессильно свесив руки, будто чья-то мертвая добыча. Снова отданная одиночеству, подростковой мечтательности, тому, без чего нельзя и от чего различные обстоятельства – то ад, то рай – все время вынуждают вас уходить. Но здесь ни ад, ни рай не могли разлучить меня с этой торжествующей осенью.
Но что же делали мои шведы все лето? На площади Ателье, на Монмартре, где в августе мы ставили пьесу, я беспокоилась за них. Проходили мимо дамочки с самодельной завивкой, с сумками в руках, трусили рысцой собаки, прохаживались травести с растекшимся от беспощадного солнца гримом. Сидя на террасе моего любимого кафе, я сводила Ван Милемов с Жедельманами или посылала их в провинциальное турне с молодым певцом, я придумывала для них перипетии, которых никогда не напишу, я знала это, к примеру, из-за грядущей репетиции. Прекрасно сознавая, что поступаю в высшей степени безрассудно, я, тем не менее, не исписала ни малейшего листочка бумаги. О, наслаждение, о, угрызения совести… Иногда мне доверяли присмотреть за собакой, за ребенком, пока владелец сражался с жизнью в супермаркете «Присюник», катя перед собой тележку… Я беседовала с кем-нибудь из веселых бездельников квартала. Мне было хорошо. Позже будет темный зал, проекторы, актерские проблемы, но сейчас было парижское лето, нежное и голубое. И я ничего не могла с собой поделать. На этом закончим главу-извинение, главу-алиби. Сегодня я снова в Нормандии. Идет дождь, холодно, и я не выйду отсюда, пока не закончу книгу – только под пистолетом. Даю слово. Ох!
– Поставь эту пластинку еще раз, если ты не против, – попросила Элеонора.
Себастьян протянул руку и отвел звукосниматель – проигрыватель стоял около него на полу. Он не спросил, какую пластинку. Элеонора, после периода увлечения классикой, влюбилась в песни Шарля Трене и слушала только его:
На ветке умершего дерева
Качается последняя птица
Уходящего лета…
Они расположились в гамаках, на террасе виллы Жедельманов, в Кап Дэй. Трудности начального периода прошли, и Себастьян стал чувствовать к Норе Жедельман что-то вроде привязанности. Он называл ее «Lady Bird», впрочем, к ее крайнему неудовольствию. Анри Жедельмана он называл «господин президент» – изрядно выпив, тот пускался в описания политических покушений очень дурного вкуса. Элеонора, совершенно покорив обоих хозяев, погрузилась в милое сердцу чтение, на этот раз на берегу моря. Загорелая, приветливая, спокойная, она проводила эти летние дни, как во сне, между страницами романов, которые читала. Несколько светских приятелей хозяев составляли ее свиту, впрочем, ухаживания никакого результата не имели. Зато Себастьян всячески потакал ее свиданиям с садовником виллы, кстати, красивейшим парнем. Но об этом они не говорили. Насколько их «романы» рассматривались ими, вернее, между ними, как сюжет для развлечения, настолько же тайные порывы страсти должны были держаться в секрете. И он прекрасно знал, что именно это уважение к чувственным привязанностям друг друга (пополам с непременной иронией по поводу своих сердечных дел) и позволяет им так хорошо ладить. Они презирали всякое выставление напоказ, которое в те времена становилось правилом, особенно на тех берегах. Наглухо застегнутые воротнички были их единственными спасителями. Будучи спеленутыми моралью образца 1900 года и едва освободившись от нее, они поспешили облачиться в свои покровы. Их находили странными, необычными прежде всего потому, что они великолепно смотрелись – что тот, что другая. Они же считали себя просто приличными людьми. Они знали, что вкус тела есть нечто нежное, чувственное, естественное, похожее на вкус воды, на любовь собак или коз, на огонь, и что это не имеет отношения ни к распущенности, ни к эстетизму. Доказательство – Себастьян, который без малейшего колебания принимал каждый вечер в свои объятия Нору Жедельман, задыхаясь в тисках ее духов, ее кожи и ее манеры выклянчивать ласки. Огромная нежность, нежность равнодушия, охватывала его тогда, и его тело послушно следовало ей. К тому же они были северянами во всем, и солнце не имело над ними такой власти, порой жестокой, как над другими. Это повышало их престиж, хотя они об этом не подозревали: плевать на солнце, на загар в те времена и в тех местах было все равно, что плевать на деньги.
Друзья Жедельманов в большинстве своем были американцы, очень богатые, но не слишком утонченные, которые непрестанно сновали челноками из Америки в Европу и обратно. Надо сказать, для многих из них некоторые гостиные Парижа были наглухо закрыты. Их иногда приглашали на благотворительные праздники, а имея в виду их щедрость, они могли быть удостоены приглашения на завтрак, но только в «Плаза». Они были озадачены присутствием Ван Милемов – явно людей из старой европейской семьи – и связью Себастьяна с Норой Жедельман, тоже не менее явной. В нем ничего не было от жиголо (а сколько у нее их перебывало!) – однако брат с сестрой жили за счет своих хозяев. Один из прежних воздыхателей Норы, подбодренный алкоголем, позволил себе высказаться на эту тему и тут же получил от Себастьяна первоклассный нагоняй, так что дискуссия была прекращена. К тому же брат и сестра, казалось, были очень близки друг другу. Короче, они не были похожи на остальных; в общем, они были опасны, а значит, притягательны. Женщины, по-настоящему красивые и такие же богатые, как Нора, все лето крутились около Себастьяна. Напрасно. Прекрасно сохранившиеся американцы наталкивались на абсолютное безразличие Элеоноры. В конце концов, если бы привязанность бедняги Норы не была такой очевидной и такой классической, их могли бы заподозрить в худшей форме извращенности.
Этим вечером твое верное сердце со мной.
А завтра над морем ласточки будут летать…
Трене пел, а море становилось серым. Появилась Нора в шелковой тунике сиреневого цвета, который слегка бил Элеоноре в глаза.
– Время коктейля, – сказала она. – Бог мой, эта пластинка… Прелестная песня, но такая грустная… особенно в эти дни…
– Выключи, – сказала Элеонора Себастьяну.
Она приветливо улыбнулась Норе. Та ответила на улыбку чуть-чуть неуверенно. Она задавала себе множество вопросов по поводу Элеоноры и должна была отказаться от намерения вызнать что-то у Себастьяна, потому что тот сразу становился холоден, как лед. Она знала только, что там, где Элеонора, там и Себастьян. В определенном смысле это было хорошо и не так задевало, как могло задеть что-нибудь другое. Она попыталась толкнуть в объятия Элеоноры Дэйва Барби, блестящую партию и очаровательного человека. Никакого результата. И кто такой был этот Хуго, который сидит в шведской тюрьме? И откуда у нее самой взялся такой любовник, загадочный и галантный, который принимал ее подарки любезно и рассеянно и на которого, в сорок лет, то нападал безумный мальчишеский смех, то необъяснимая хандра? Несмотря на глубокий цинизм, она привязывалась к нему, она умела привязываться и знала, что умеет. Это беспокоило ее. Что он думает делать в Париже? Где намеревается жить со своей мечтательной сестрой? Рассчитывает ли он на нее, Нору, или на случай? Он не заговаривал с ней об этом, однако через три дня надо было возвращаться.
Марио, садовник, шел к ним по аллее с лиловыми георгинами в руках, которые, улыбаясь, протянул Норе. Элеонора посмотрела на него с нежностью. В первое утро после приезда, открыв окно, она увидела его загорелую гибкую спину, ловкие движения удлиненных рук, подрезавших деревья, смуглый затылок. Он обернулся и сначала вежливо улыбнулся ей, потом улыбка исчезла с его лица. Тогда она сама улыбнулась ему, прежде чем закрыть окно. Когда все в доме засыпали или, скорее, когда по вечерам все уезжали в Монте-Карло и Канн, она спускалась по лестнице и шла в глубину сада. Там у Марио был сарайчик для инструментов, где пахло свежей мятой и соснами, там был праздник, где они кружились вдвоем, была восхищенная улыбка Марио, свежие губы Марио, горячее тело Марио, которое не нуждалось в массаже. Он был, как весь его славный народ, веселый и нежный, и ей было хорошо с ним, вдали от этого дома, захламленного мебелью, от этих шумных людей и звона долларов. В конце концов, их каникулы взял на себя Себастьян. Себастьян, идеальный брат.
– Отдайте эти поздние цветы мадам Ван Милем, – сказала Нора, – как они красивы… этот сиреневый цвет…
Марио повернулся к Элеоноре и протянул ей букет. Воротник его рубашки слегка распахнулся, и она увидела у него на шее фиолетовое пятно, которое оставила ему позапрошлой ночью, того же цвета, что и георгины, которые он протягивал ей. Она случайно коснулась его руки, он улыбнулся ей. И удивленный Себастьян увидел, как в светлых глазах сестры, вместе с лучами уходящего солнца, промелькнули искорки многих и многих воспоминаний и сожалений.
Да, да, я знаю: я снова впала в сплошное легкомыслие… Этот пресловутый мирок Саган, где нет настоящих проблем. Что поделаешь, так оно и есть. Я сама начинаю нервничать из-за этого, даже я, несмотря на мое бесконечное терпение. Один пример: после того, как я пришла к мысли и объявила вслух (кстати, я продолжаю так думать), что работающая женщина должна получать зарплату наравне с мужчиной; после того, как я объявила, что женщина сама вольна выбирать, иметь ей ребенка или нет, что аборты должны быть узаконены – в противном случае то, что для женщин, устроенных в жизни, является просто препятствием, которое нужно преодолеть, для других может обернуться зловещей мясорубкой; после того, как, клянусь всемогущим богом, я делала аборты сама, а в одном еженедельнике как-то прочитала следующий вывод на эту тему: «Женщины, ваше чрево принадлежит вам, и только вам!» – сразу думаешь – какая жалость, да еще в таких выражениях! – после того, как я подписала тысячу петиций, выслушала сетования банкиров, молочников, шоферов такси, по-моему, одинаково испорченных, и дала себя обобрать сборщику налогов, превратившемуся в злобного безумца (надо было с самого начала не доверять Жискар Д'Эстену: его стремление наглухо застегнуть воротничок мне никогда не нравилось… И что за воротнички у него сейчас?); после того, как мне хотелось разбить пятнадцать телевизоров – от отвращения или чуть не упасть с кресла – от скуки, посмотрев десять спектаклей «для толпы»; после того, как я нагляделась на апатию одних и бессильный гнев других, на добрую волю, злую волю, на бестолковщину, царящую при этом самодовольном луифилипповском режиме, на дрожащих от холода стариков, которые семенят, таща за собой «свои» тележки с мелким товаром, выслушала высказывания людей и крайних взглядов, и умеренных, дураков и умных; после того, как я оказалась – несмотря на трескучую спортивную машину – в стане неимущих; после всего этого я имею право укрыться в воображаемом и призрачном мире, «где деньги не в счет». Так-то вот. В конце концов, это действительно мое право, как право каждого не покупать полное собрание моих сочинений. Наше время частенько выводит меня из себя, это правда. Я – не певец труда, а рассудительность – мое не самое сильное место. Просто сейчас я с помощью литературы немного отвлекусь вместе с моими друзьями по имени Ван Милем. Я закончила. Уф!
Вовсе не будучи садисткой, Нора Жедельман любила показать свою власть. Сидя за рулем «Кадиллака», она ждала в аэропорту Орли Себастьяна и Элеонору, чтобы отвезти их, куда они скажут.
– Улица Мадам, 8, – непринужденно сказал Себастьян. – Если вам не надо делать из-за нас крюк.
Она вся сжалась в комок. Она ждала что-нибудь вроде «В „Крийон“» – ответ человека, знающего свое место, или «Куда скажете» – ответ доверительный. Десять дней она мучилась, пережила их с таким трудом – и вот результат. Нора ничего не понимала.
– У вас там друзья?
– Мы только и живем, что у друзей, – сказал Себастьян, простодушно улыбаясь. – Один из них нашел нам студио из двух комнат. Очень милое, как будто, и недорогое.
«Достаточно тебе продать твои часы „Картье“ или портсигар», – злобно подумала Нора.
Она уже рисовала себе картину, как Элеонора поселится у нее, в комнате для гостей, на авеню Монтень, а Себастьян – в огромном кабинете, рядом с ее комнатой. Неожиданный поворот дела лишал ее этой роли и делал невозможным семейное общение с уступчивым Себастьяном. Она видела себя доброй феей гостеприимства, феей-спасительницей. А теперь, после того как она встретила в аэропорту эту экзотическую парочку, она возвращается в свою огромную квартиру одна – муж все еще в Нью-Йорке. Ее охватила паника.
– Это глупо, – сказала она, – я могла бы устроить вас у себя.
– Мы и так слишком обременяли вас все лето, – сказала Элеонора. – Не хотелось бы злоупотреблять вашим расположением.
«Она смеется над Норой, – весело подумал Себастьян. – В конце концов, один разок можно… Что за манера – решать за людей заранее? Когда я думаю о том, что дня через три, может быть, придется продать запонки и отправлять срочное послание бедняге Роберу… И это придется делать мне, который терпеть не может торговаться или ходить на почту. К счастью, Робера знает весь квартал… Надеюсь, жить там можно, потом, ведь это всего на три месяца… Поскольку он заплатил за три месяца вперед».
Машина остановилась около старого жилого дома. Нора выглядела уничтоженной.
– Мы скоро вам позвоним, – дружески сказала Элеонора.
Оба стояли на тротуаре с дорожными сумками в руках, даже не зная точно, куда идти, – изящные, белокурые, безразличные ко всему. «Платить за них можно, а купить их нельзя», – подумала Нора в отчаянии. И потом, их двое. А не каждый сам по себе. Она сделала над собой усилие, помахала им рукой и взялась за руль. «Кадиллак» уехал, брат и сестра улыбнулись друг другу.
– Что мне нравится, так это то, что здесь есть подвал. А где консьержка?
Студио было достаточно темным, выходило окнами в крошечный садик, скорее цветничок. Пустое пространство разделяло две малюсенькие, но тихие комнаты. Был там красный диван, а на единственном столе бутылка виски и записка от Робера, верного Робера, который приветствовал их на новом месте.
– Как вы находите? – спросила консьержка. – Летом здесь и правда темновато, но зимой…
– Все прекрасно, – сказала Элеонора, располагаясь на диване. – Спасибо вам огромное. Куда я дела мою книгу?
И, к крайнему изумлению консьержки, она стала рыться у себя в дорожной сумке, а потом достала книгу, начатую в самолете. Багаж ехал за ними поездом, и Себастьян от нечего делать, будто кот в новой квартире, ходил по комнатам.
– Здесь прекрасно, – сказал он, вернувшись. – Прекрасно. Кстати, мадам, – он обратился к консьержке, – я нахожу, что у вас прекрасный макияж.
– Это правда, – сказала Элеонора, поднимая глаза, – я тоже заметила. Это редко бывает, так что тем более приятно.
Консьержка, улыбаясь, попятилась к выходу. Она действительно уделяла большое внимание своей внешности, а в этом месье Ван Милеме что-то было. В сестре, впрочем, тоже. Из приличного общества, это чувствовалось по их виду (и по багажу). Разве что несколько рассеянные… Ясно, что они здесь долго не задержатся, и, несколько смутившись, она уже пожалела об этом.
– Надо бы позвонить Норе, – сказал Себастьян. – В конце концов, она не знает нашего телефона и бросать ее одну, в «Кадиллаке», как какой-нибудь чемодан, не слишком любезно.
– О, чемодан от Вюитона, – сказала Элеонора, погруженная в чтение романа и, по всей вероятности, нашедшая на этом протертом, безвестном, чуть ли не засаленном диване прекрасное убежище.
Справа от себя она положила сигареты и зажигалку, сняла туфли. И хотя детектив, который она читала, был достаточно гнусным и действовало в нем множество отвратительных сыщиков, ей не было скучно читать его. Себастьян ходил взад-вперед по комнате. Радость новизны прошла, студио стало казаться смешным, невзрачным, несовместимым с их жизнью. На Себастьяна накатила гнетущая тоска (то, что называется по-немецки Katzenjammer). На этот раз ему показалось странным спокойствие сестры: непринужденное и очевидное, оно вызывало в нем что-то вроде раздражения, а бездеятельность только усиливала его (что ему делать с собой сейчас и что делать с их жизнью вообще?). Не было никакого желания разбирать чемоданы, вытаскивать вешалки, развешивать одежду. Не хотелось идти в какое-нибудь гипотетическое кафе, а ведь кафе были как-никак отличным пристанищем. Ему не хотелось быть одному, а рядом с Элеонорой, которая делала вид, что она ни за что не изменит своим привычкам, и читала детектив, он чувствовал себя страшно одиноким. Он подумал, что ей бы следовало «что-то» сделать, он мысленно заключил в кавычки это «что-то» и тут же запоздало сообразил, что вот уже два-три месяца это «что-то» делала Нора Жедельман – благодаря своим деньгам и тому, что дала соблазнить себя. Он чувствовал себя подростком, обиженным и покинутым, и считал, что Элеонора, которая все лето не утруждала себя ни малейшим усилием, должна была хотя бы отдавать себе в этом отчет. Короче, он чувствовал себя Шери, но Шери без Леи, и притом сорокалетним, от чего у него окончательно упало настроение.
– Почему именно от Вюитона? – спросил он раздраженно.
– Потому что они самые прочные, – ответила Элеонора, не отрываясь от книги. Он подумал о непоколебимой прочности, комфорте и прекрасно организованной жизни Жедельманов, и его охватила буквально физическая тоска.
В определенном смысле Себастьян Ван Милем был похож на старика Карамазова. Он считал, что в каждой женщине что-то есть. Более того, он даже больше любил физические недостатки некоторых женщин, чем их достоинства. Он никогда не говорил с ними об этом, ни в шутку, ни всерьез, но его не отталкивали ни слишком полные бедра, вытянутая шея или увядающие руки. Он считал, что любовь, плотская любовь, не имеет никакого отношения к «Мисс Франции» – скорее вспоминались Жиль Доре, Генрих VIII, Бодлер и его тяжеловесная мулатка. Он знал, что эти крупные, скверно сложенные женщины водили на поводке огромное количество мужчин – иногда гениальных – единственно потому, что знали – они будут торжествовать, потому что их тело – это друг, преданный зверь, доставляющий большее удовольствие им, чем даже мужчине, тело, влюбленное в любовь, да еще как. И горячее. Это как раз то, чего хотят мужчины: дав другому наслаждение, спрятаться в нем самом, быть господином и слугой, победителем и побежденным одновременно.
Себастьян понимал это и раньше, но теперь, когда у него была связь с женщиной старше его и не такой привлекательной, как он, ему казалось, ее восхищение имеет еще и другую природу, чем просто физическое желание, ведь женщина ищет в чувственных отношениях нечто иное, чем мужчина. Он чувствовал в себе нечто вроде гордости, открытой и непринужденной, о которой можно было бы сказать словами из Клови: «Склони голову, гордый Себастьян, обожай ту, что обожает тебя, и не утруждай себя большим – порой этого бывает совершенно достаточно».
– Что, по-твоему, значит «самые прочные»?
Элеонора повернула голову, положила книгу на колени и рассмеялась.
– Не разыгрывай из себя джентльмена, малыш. Я говорю не о судьбе Норы, не даже о ее скелете. Я говорю о ее неизменной нежности к тебе. И думаю также, что ты должен ей позвонить, потому что ей одиноко и, наверное, страшно. На твоем месте я бы сейчас же помчалась к ней, а завтра, когда ты вернешься, ты найдешь наш дом очаровательным благодаря стараниям Феи Мелюзины и Доброго волшебника, вместе взятых, – это я о себе.
Секунду они недоверчиво смотрели друг на друга, как две сиамские кошки, которыми вдруг овладела нерешительность – разъединяться ли им, ибо они увидели мышь. Между ними не было ни презрения, ни сожаления, просто их всегдашнее согласие не было столь очевидным, как обычно.