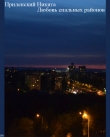Текст книги "Смятая постель"
Автор книги: Франсуаза Саган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Беатрис вернулась очень поздно и нашла обоих мужчин на террасе, они молча созерцали море, вместо того чтобы беседовать о театре и литературе, как беседовали всю эту неделю. Беатрис начала было уже скучать в их обществе, но тут они повстречали Джино с его матерью, бывшей любовницей Жолье. Разве Беатрис виновата в том, что Эдуар не любит моря? Не виновата она и в том, что свершилось так дерзко, сладостно и скромно. «У Эдуара нет никаких причин дуться», – подумала она и улыбнулась Жолье, который старался хоть как-то поддерживать разговор. К ее удивлению, он не ответил на ее заговорщицкую улыбку.
– Что вы тут делали целый день вдвоем? – поинтересовалась она.
Эдуар опустил глаза. Жолье закашлялся.
– Что касается меня, моя дорогая, то я чувствовал некоторую слабость и целый день просидел у себя в комнате и читал. Эдуар, полагаю, делал то же самое.
– Вам нужно было поехать со мной, – сказала Беатрис. – Это так красиво, прогулка по морю. Малыш Джино прокатил нас до Кап-Мартин. Мы даже прошли мимо самого дома.
– Кто это «мы»? – спросил Эдуар.
– Он и я, – безмятежно ответила Беатрис. – Его мать не захотела поехать. Он очень милый мальчик, – добавила она, – и прекрасно воспитанный.
Жолье отодвинул стул и встал.
– Вы простите меня, – сказал он, – но я сегодня действительно что-то устал; пойду лягу.
За всю неделю, что они были здесь, он впервые пожаловался на слабость, и Беатрис встревожилась. Он был таким милым, таким веселым и внешне так мало обеспокоенным своим состоянием, что этот внезапный упадок сил прозвучал как сигнал.
– Вы неважно себя чувствуете? – спросила она.
Но он, уже на ходу, успокоил ее, поцеловал ей руку, потрепал Эдуара по плечу и направился к лестнице. Она проводила его взглядом и повернулась к Эдуару, который, казалось, окаменел.
– Он меня беспокоит, – сказала она. – Ну а ты, что с тобой? – спросила она с раздражением.
На мгновение Эдуар поднял глаза, потом снова опустил. Ему почему-то было необычайно трудно открыть рот и заговорить.
– У Жолье есть очень сильный морской бинокль, – сказал он ничего не выражающим голосом. – Я смотрел в него, просто так, и случайно навел на твой парусник…
Он умолк. Он водил вилкой по скатерти, не глядя на нее, и уши у него горели.
– А-а, – сказала Беатрис задумчиво, – какая несчастливая случайность…
Эдуар на мгновение опешил. Он ожидал всего, чего угодно, только не этого спокойствия. Вот уже три часа он ждал этого объяснения, как ждут вступления цимбал в партитуре, а вместо этого вступил тихий фагот.
– Он хороший любовник, этот Джино? – спросил он.
Беатрис спокойно закурила сигарету и, выдержав кинематографическую паузу, ответила:
– Неплохой… Не такой хороший, как ты, но неплохой.
Она пристально посмотрела на Эдуара, которому не оставалось ничего другого, как закрыть глаза, потому что он не мог смотреть на ее спокойные губы, которые только что видел полуоткрытыми в момент наслаждения с другим. Ему показалось, что на невозмутимом лице Беатрис он теперь всегда будет видеть, будто наложение, сияющее наслаждением лицо, которое видел в окуляры бинокля. Сейчас на ее лице, которое было прямо перед ним, не было ни тени угрызений совести или страха. Страшное напряжение, в котором он был в течение последних шести часов, рухнуло перед очевидностью: он не добьется от нее ничего ни кулаками, ни криками, ни мольбами. Сделать можно только одно: оставить ее, а на это он был не способен, и Беатрис знала это так же хорошо, как и он.
Беатрис встала, пошла к двери и обернулась.
– Знаешь, – сказала она, – все это не так уж серьезно. – Она говорила снисходительно и ласково, будто он был виноват, а она его прощала. – Не мучайся, Эдуар. Напейся и иди спать в соседнюю комнату. Это единственное, что тебе остается.
– Но как же ты не понимаешь! – закричал Эдуар.
Он тоже встал, и тон его был почти умоляющим. Как ни глупо это было, в своем отчаянии он хотел, чтобы она поняла его и, может быть, даже утешила.
– …Ты что, не понимаешь, я видел тебя так же ясно, как вижу сейчас! И в тот самый момент, когда…
Беатрис покачала головой, казалось, она искренне переживала случившееся.
– Это, должно быть, ужасно. В самом деле, я глубоко сожалею, Эдуар.
Казалось, она понимает всю глубину несчастья или горечи своего очень близкого друга (может быть, ей даже безумно жаль его), но она ни в коем случае не чувствовала себя ответственной за его горе. Эдуар, который стоял, закрыв лицо руками, наконец отдал себе в этом отчет, и это глубоко оскорбило его.
– Тогда почему?.. – крикнул он.
И внезапно умолк: Беатрис уже вышла. Она поднимется по лестнице, смоет макияж, разденется и уснет, положив руку за голову, усталая и невозмутимая. А он, Эдуар, он остался один в огромной гостиной и с ненавистью глядел на изящную мебель, на проигрыватель, где стояла все та же пластинка, на бутылку спиртного, которую он опустошил по совету Беатрис. Он уже не мог понять, что же такое – его боль. Сначала это было ударом, боль была физической, но стала душевной болью, почти болью разума. В непрерывном и подробном повествовании, которое он мысленно вел каждый день – повествовании о своей страсти к Беатрис, – последний крупный план, непристойный и ужасный, казался ему чем-то вроде чудовищной ошибки; как если бы между главами книги какого-нибудь утонченного писателя ХIХ века злой безумец-издатель решил вставить три страницы комиксов.
Мало того, этот крупный план, эта картина не была ему отвратительна. Она делала Беатрис еще более необычной, порочной и более желанной, чем всегда, потому что, делай она что угодно, ее тело принадлежало ему; она отдала ему себя в «подарок», и этот подарок был невозвратим. Никто не мог отнять у него это тело, такое знакомое, теплое, щедрое, навечно созданное для него. Только он способен так ласкать его, так лелеять, и оно тоже об этом знает, даже если своенравная головка его обладательницы, где-то там наверху, попытается позабыть об Эдуаре. Когда Беатрис спала – и, может быть, во сне изменяла ему, – он, часто лежа без сна в темноте, ясно видел ее тело, которое, будто верный конь, прильнуло к нему. Видел ее бедра, которые – придет день – она раскроет перед другим, но теперь они прижимались к его бедрам. Видел продолговатую ладонь, которая – придет день – поманит какого-нибудь незнакомца, но теперь она гладила его лоб, его грудь, машинально, будто тайком от черноволосой, незрячей, одинокой головы, что покоилась где-то тут, на подушке. И тогда он наклонялся к ее суровому лицу, нежно целовал безжизненные губы и чувствовал, как они просыпаются и отвечают на его поцелуй прежде, чем сама Беатрис очнется и узнает его. Это тело, обнаженное женское тело, стало быть, было одолжено ему, и пусть оно теперь получит по заслугам.
Пробило три часа ночи, Эдуар едва держался на ногах, однако не алкоголь заставил его подняться по лестнице, войти в комнату Беатрис и броситься на кровать. В темноте под покровом простыни лежала женщина, что была его благом, доблестью, силой, его единственной любовью, и он сказал ей об этом, он льстил ей и оскорблял, вконец запутался и заснул. Но Беатрис, которая не шевельнулась, слушая этот сумасшедший поток, заснула с большим трудом.
Беатрис и Жолье разговаривали за завтраком, невольно понизив голос. Эдуар и правда лежал неподалеку, с закрытыми глазами, неподвижно, словно выздоравливающий больной.
– Странно, – заметил Жолье, – я вчера видел его со спины, когда он смотрел на тебя, и у меня было впечатление, что я тоже вижу тебя в этот проклятый бинокль. Мне было неловко, когда он обернулся. Бедный мальчик…
– Не стоит так уж его жалеть, – сказала Беатрис. – Если бы вы слышали его сегодня ночью… Он говорил со мной тоном собственника, и так странно, как будто с моим двойником. Меня это напугало…
– Для него ты и в самом деле помимо его воли двоишься, – сказал Жолье, – ты – женщина, которую он сейчас любит, и ты же персонаж, который он когда-нибудь опишет.
– Вы хотите сказать, что он использует меня?
Казалось, она пришла в ужас от этой мысли.
– Разумеется, – сказал Жолье, – даже если он сам этого не осознает. Последние пять лет, с тех пор, как ты его бросила, герои его пьес почти всегда покинутые мужчины. Я все думаю, каковы же будут следующие?.. Поруганные? Мазохисты?
– А почему не счастливые мужчины? – сурово спросила Беатрис.
– Потому что счастливые люди не годятся в герои романа, – ответил Жолье. – Что бы ты ни думала, а счастье – это последнее, что ищет с тобой Эдуар. Но сейчас он любит тебя, как говорится, слепо.
– Меня всегда любили слепо, – сказала Беатрис с горечью, – но слепота была ущербная: слепота мужчин, которые любили только мои недостатки.
– Замечено точно, – согласился Жолье. – Но, возможно, твои недостатки волнуют мужчин больше, чем твои достоинства? А может, они будят мечты, даже у идеалистов вроде Эдуара?..
Беатрис взяла чашку чая, поднесла к губам и вдруг поставила обратно.
– Послушайте, Андре, – сказала она, – я всегда говорила вам правду – или почти всегда. Вы прекрасно знаете, что я свободна от себя только на пространстве двадцать метров на десять и я искренна, только когда говорю чужой текст. Эдуар такой же: он искренен только в своих фантазиях.
– Между вами существенная разница, – возразил Жолье, – ты, играя, хочешь забыть о себе. А Эдуар, когда пишет, хочет себя найти. И еще, ты, как музыкант, который слышит свое исполнение, как художник, который видит свои картины, получаешь отклик, некое подтверждение своего таланта: тишина в зале или крики «браво»; радость от твоего искусства непосредственна и физически ощутима, она даже чувственна, сказал бы я. У писателя не бывает таких радостей. Разве что изредка, на рассвете, он обрадуется тому, что поймал наконец-то, что знал всегда, но это отвлеченная радость, никому больше не ведомая. Видишь ли, я не боюсь за Эдуара, я боюсь за тебя. Боюсь, ты так и будешь играть поставленные им пьесы.
И, видя, как, протестуя, Беатрис замахала руками, он рассмеялся и продолжал:
– Слава богу, что у тебя есть недостатки: неистовое честолюбие, любовь к мужчинам и любовь к изменам, – они твоя лучшая защита. Держись за пороки, что бы я ни советовал тебе раньше. Вполне возможно, что они и окажутся добродетелями. Самые беззащитные жертвы оказываются самыми свирепыми палачами, – добавил он, кивнув в сторону Эдуара, который поднялся и направлялся к ним.
Эдуар чувствовал себя совершенно отупевшим от солнца физически и вымотанным нравственно от того, что случилось накануне. Он никак не мог установить связь между вчерашними муками и сегодняшней безмятежностью – красивая брюнетка и спокойный джентльмен мирно хрустят печеньем под большим зонтом. (Эдуар даже не помнил лица этого Джино.) Ему хотелось сесть у их ног, слушать музыку, положив голову на колени Беатрис, и умереть так через тысячу лет, за которые не произойдет ничего больше. Но скоро они вернутся в Париж, вернутся в город, в его студио, с его подмостками, с его толпой знакомых, толпой, в которой, возможно, будут другие Джино. На следующее лето голубые глаза Жолье уже не будут смотреть на море, но они с Беатрис будут здесь, вместе, неделимые, неразлучные; и она ничего не сможет с этим поделать. Ее вчерашняя измена вдруг показалась Эдуару успокоительной: Беатрис могла ему изменить, он мог смириться с изменой, и значит, что не отсюда можно ожидать чего-то непоправимого. Он не хотел признаваться себе, что сомневался совсем не в своей готовности терпеть – он сомневался, что Беатрис будет терпеть его терпение. Есть женщины, которые изменяют своим возлюбленным весело, с удовольствием, но если возлюбленный узнает об измене, они с ним расстаются: взгляд со стороны болезнен для их самолюбия. Беатрис, слава богу, не настолько уважала себя или была настолько равнодушна к чужому мнению, что ей не требовалось быть в глазах Эдуара чистой и непорочной. Тем не менее, признаваясь, что видел ее, он рисковал многим. И только мужская гордость и некоторая поспешность выводов мешали Эдуару это признать.
Скоро они вернутся в Париж, и тогда он начнет писать. В солнечном краю его не тянуло к пьесе, наоборот, все отвращало от нее. Казалось бы, ему должно было быть прекрасно на вилле, красивой и пустой; но он чувствовал себя угнетенным. Чтобы писалось, нужно было переменчивое, облачное небо, случайные пристанища, тусклые сумерки или ночи без сна. У него слова возникали из теплого пепла, а не из пламени. И он с нетерпением ждал, когда сможет, соблюдая приличия, сделать вид, что забыл про Джино. И перестать думать о том, что должен делать такой вид.
Телеграмма Тони д'Альбре ускорила их отъезд, и Жолье их не удерживал. По природе любезный, он, казалось, все более отъединялся и от других, и от себя самого. Эдуар наблюдал, как он бросает камешки в море – зло, но и с удовольствием, как раньше. Должно быть, несмотря на все свое хладнокровие и мужество, Жолье досадовал на море, такое синее, неизменно синее, как бы оно ни менялось, и такое равнодушное к судьбе тех, кто им восхищался. Вечером, накануне отъезда, они отправились поужинать в Болье, а потом, по инициативе Жолье, который был в хорошей форме, пошли пропустить по последнему стаканчику в ночном баре отеля. Там-то они и столкнулись с Джино, красивым, как никогда, улыбающимся и пребывающим в полном восторге от этой встречи. Он пригласил Беатрис потанцевать и, когда она спокойно отказалась, стал настаивать каким-то особенным тоном. Эдуар, который в этот вечер почти не пил и, надо сказать, почти и не дрался со времен своей службы в армии, внезапно сообразил, что они уже схватились с Джино и катаются по танцплощадке. Служащие отеля, возмущенные и восхищенные, бросились их разнимать, и Эдуар оказался в гардеробной вместе с Жолье, который помогал ему привести в порядок его одежду. К большому удовольствию Эдуара, нос юного Джино был в крови и выглядел он глупо.
– Вы были великолепны, – сказал Жолье, – ведь это так трудно – драться без подогрева. Вам же этого совсем не хотелось, правда?
Эдуар улыбнулся. Ему было очень хорошо, он чувствовал расслабленность, как после любви.
– Нет, не хотелось, – согласился он. – Но я подумал, по отношению к Беатрис это будет правильно. Я не люблю драться, но не пасую перед всякими Джино. Тем более морально.
– А знаете почему? – сказал Жолье. – Потому что он невероятно красив! Беатрис тоже красива; а красивые люди, сделавшие из своей красоты профессию или призвание, образуют третий пол, откуда раз и навсегда изгнаны и гомосексуализм, и равенство.
Они прохаживались перед входом в гостиницу, поджидая Беатрис.
– Почему вы считаете, что красивые люди образуют особенный пол? – с интересом переспросил Эдуар.
– Потому что они так привыкли к всеобщему восхищению, что в постели друг с другом им всегда чего-то недостает, – ответил Жолье. – Когда актерская пара распадалась, я всегда думал: так оно и должно быть – ведь пока один сладострастно потягивается, опершись на подушку, другой изящно склоняется к окну, и оба видят себя крупным планом. А зрителей нет; что может быть хуже?..
Беатрис догнала их и поздравила Эдуара с умением драться.
– Я и не знала, что завела шашни с боксером, – сказала она. – Решительно, интеллектуал непредсказуем…
Она улыбалась. Конечно, она считала, что лучше демонстрировать свое мужское достоинство в постели, чем на ринге. Тем не менее она оценила, что кроткий Эдуар решил драться из-за нее и вел себя как боец. Только прибегая к всевозможным уловкам и нелепым мальчишеским выходкам, можно надеяться, что любовные отношения станут наконец подлинными или не утратят своей подлинности. Беатрис как любовница и как актриса не смогла бы долго выносить, не испытывая при этом стыда, что она любит труса.
Глава 13
Уже в антракте было понятно, что генеральная репетиция Курта с треском провалилась. Эдуар, который читал пьесу, недоумевал, куда девалось то хрупкое, по-чеховски щемящее очарование, которое он ощущал при чтении. Все первое действие он видел роботов, произвольно двигавшихся между декорациями из металлоконструкций, соблюдая ненужные, тягостные паузы. Мудреная игра светотени – мудреная в том смысле, что в темноте оставался актер, который говорил текст, а свет падал на незначащий объект, – не спасала положение и не увлекала толпу, впрочем, готовую благодаря репутации Курта признать великолепным и полным находок его неудачный экзерсис. В фойе люди подходили друг к другу и перешептывались с принятым в таких случаях удрученным видом, который на самом деле скрывал тайное удовлетворение.
Эдуар был расстроен и очень беспокоился, как себя чувствует Курт. Что касается Беатрис, то она восхитительно стойко переносила выпавшее на ее долю испытание. Она сцепила руки под подбородком, устремила неотрывный взгляд на сцену и не шевелилась. Она не позволила себе ни потянуться, ни зевнуть, ни кашлянуть, чего нельзя было сказать об остальных зрителях, которые поступали ровно наоборот. Только несколько молодых людей, ярых приверженцев авангарда, с презрением и насмешкой смотрели на публику «генералки», на «обуржуазившееся рутиперское старье», но их вызывающее поведение отдавало терроризмом. Эдуар и Беатрис встретили в коридоре одного театрального критика, он вздрогнул, увидев тщательно накрашенную красавицу Беатрис, и поспешил ей навстречу.
– Андре Беретти, – представила его Беатрис, – Эдуар Малиграс.
– Счастлив познакомиться, – поспешно произнес критик. – Боже мой, Беатрис! Что ты здесь делаешь? Неужели ты что-то находишь в этом выпендреже? Скука смертная!..
– Нахожу это очень интересным, – сказала Беатрис.
Оба ее спутника удивленно уставились на нее. Вид у Беатрис был честный, открытый и немного грустный, и она знала, что такое выражение лица просто восхитительно. Но в то же время она словно бы намекала Беретти: «Я знаю, что ты знаешь мое мнение, но лучше я буду смешной, чем предам». Двойственность очень чувствовалась, и роль была так нова для Беатрис Вальмон, которая всегда, при любых обстоятельствах, стояла за натиск и которая не ведала смысла слова «терпимость», что критик невольно рассмеялся, пораженный и, похоже, очарованный ее новым образом.
– Беатрис, – сказал он, – ты великолепна!
Он поцеловал ей руку и, повернувшись к Эдуару, добавил:
– Мои комплименты, мсье. Теперь я не сомневаюсь, что Курт ван Эрк – один из ваших друзей.
Эдуар прекрасно чувствовал все нюансы этой игры, и она его раздражала. Он предпочел бы, чтобы Беатрис сказала: «Невыносимо, отвратительно, уйдем отсюда», а не выставляла напоказ сострадание и преданность, которых у нее не было. Он не подозревал, что Беатрис разыгрывает эту комедию лишь для того, чтобы скрыть свои подлинные чувства. Она ненавидела Курта и, радуясь его провалу, скрывала свою радость, чтобы не добивать Эдуара. Беатрис улыбнулась Эдуару ласково, нежно, как улыбаются преданные женщины, и он не мог не почувствовать себя задетым: она что, принимает его за дурака?!
– Ты действительно находишь это интересным? – спросил он.
Она посмотрела на него и по выражению его лица поняла, что она на ложном пути и рискует провалиться. И тогда с удивительной быстротой, на которую была способна только она – потому как совсем не просто мгновенно перейти от утонченной комедии к полной откровенности, – она звонко ответила:
– Я нахожу это омерзительным! Понятно?
Теперь пришел в замешательство Эдуар, а Беатрис повторяла: «Омерзительно, омерзительно» – все громче и громче, радостно и настойчиво, так что на них уже стали оборачиваться. Он взял ее под руку и увел на балкон, где было поменьше народу. Они облокотились на перила.
– Этот спектакль – уродство, – сказала она, вдруг успокоившись, – жалкое и смешное. Твой друг Курт – фашист, мой дорогой.
– Фашист?
Эдуар запротестовал, но она, взяв его за галстук, легонько встряхнула, бросая ему насмешливо, но убежденно:
– Ты родился в семье нотариуса, в провинции, – сказала она, – а Курт в Германии, в семье адвоката, так? А я родилась в Париже, в бедной, очень бедной семье и всегда мечтала из нее вырваться. Я лучше, чем Курт, знаю тех, кого он называет «народ». И когда он ставит спектакли для «народа», народ у него там жалкий и подавленный. Народу это не нравится! Люди, как правило, могут жить более или менее пристойно лет тридцать, не больше. И они это знают!
Эдуар смотрел на нее в изумлении. Гнев очень шел Беатрис, лицо ее порозовело, черные волосы казались еще темнее, от нее исходила еще большая опасность, и главное, в ней было куда больше правды, чем во всех теориях Курта. Но воспоминания тревожили его – прошедшие годы, доверие Курта, его помощь, советы, совместные репетиции и надежды. Но если умственные поиски Курта внушали Эдуару чувство, близкое к безнадежности, то слишком уж определенные пристрастия светской публики – отвращение. По большому счету, он и сам не знал, кто он, из какого лагеря. Однако он понимал, что придет день, и среди всех этих затуманивающих вихрей, фальшивых истин и полулжи, в Париже или еще где-то, он сумеет придать себе отчетливый имидж. Разумеется, благодаря своему творчеству. И будет это так: его неизбежно будут перетолковывать, не понимать, искажать или восхвалять, изменять. О нем будут судить люди, которые кажутся ему слепыми, и восхищаться те, кто ему противен. Такова его судьба, судьба парижского драматурга. А потом настанет день, когда все молчаливо примирятся у него за спиной, а вернее, молча примут некое представление о нем. Потому что наше время всех расставляет по полочкам, но он-то знал, как знает всякий художник – хороший или нет, неважно: он вне табели о рангах. И для него было очевидно, что единственный приговор, который заставит биться его сердце и которому он подчинится, будет приговор Беатрис, как бы несправедлив он ни был. Он еще не знал, что это только потому, что он очень юн, юн как писатель, и биение его сердца еще заглушало фанфары и барабанную дробь успеха.
Второе действие было не лучше первого, с той только разницей, что кое-кто из приглашенных, считая, что быть невежливыми очень эффектно, шумно покинули зал еще до окончания второго действия. Эдуар нашел Курта за кулисами – тот был желчный, саркастичный и злой; Курт слегка подтолкнул его в сторону зала, будто отправляя ко всем этим людям, этой гнили, которая не в состоянии оценить его режиссуру. Его жест означал: «Раз уж ты часть этой толпы, ступай к ним». И бормотание Эдуара, дружеское и неловкое, ничего не могло изменить. Эдуар был страшно угнетен и почувствовал облегчение, когда появилась Беатрис и надо было возвращаться домой.
Вечером Беатрис гладила и утешала его. Она говорила «фашист, мой фашист ненаглядный», как иные безответственные матери говорят «ненаглядная моя чума». Было тепло, с улицы доносился запах жасмина, напоминая о прежней дружбе, утраченном доверии и счастливейшем провале; потому что, склонившись над ним и прикрыв ему веки ладонями, Беатрис говорила, чтобы он не придавал ничему значения, что у него, у Эдуара, есть талант, собственный голос, и этот голос все актеры Парижа, Лондона и Нью-Йорка мечтают или когда-нибудь возмечтают перенять, и еще с потрясающим спокойствием она говорила, что в их ремесле только так оно и бывает. С той минуты, как он взял в руки карандаш и бумагу и написал первую реплику своей первой пьесы, он уже желал, чтобы ее сыграли, а значит, согласился на миллион предательств, махинаций и гнусностей, неотделимых от театра. Она говорила ласково и с особой грустью, какой он еще не знал в ней, что он не должен рассчитывать ни на какую поддержку: как пьеса порождение фантазии, так гордыня – порождение таланта, а чистота и непреклонность в этой области прикрывают всегда бессилие и неудачливость. И пусть он это знает, знает, что каждая фраза, которую он написал, непременно сработает, и пусть поменьше носится со своим самолюбием. Потому что хоть он и будет завидовать Шекспиру и Расину, сожалея, что он – не они, но и ему случится порой быть довольным тем, что сделал он сам; как это случалось и с ней, когда казалось, что в героине, которая ей не нравится или которая на нее не похожа, удалось передать черту или тональность, присущую именно этой женщине.
В этот вечер она впервые занималась с ним любовью совсем бескорыстно – как гетера или сестра милосердия. Она поставила «их пластинку» и сама привела его к наслаждению именно в тот миг, когда он обычно хотел доставить наслаждение ей. Эдуар, счастливый, удовлетворенный, хотел сказать ей, что не стоило его так утешать, что не так уж глубоко его горе, но вместе с тем он ощутил, что новая форма любви не меняет ее сути, просто на миг из жреца он стал принесенной божеству жертвой. Перемена ролей была иллюзорной, все по-прежнему решала воля его божества. Их любовь подчинялась особой мелодии, ее по-разному мог исполнить оркестр, в разных ключах, с неизбежными импровизациями исполнителей, но Эдуар знал, что всегда узнает ее, и она, неизменная, незабываемая, без единой фальшивой ноты, всегда будет радовать его слух.
Глава 14
Вопреки ожиданиям, пьеса давалась Эдуару с трудом. Париж опустел, Беатрис была с ним по-прежнему нежна, но слова ускользали от него. Он часами сидел в саду, царапал набросок за наброском, чтобы вечером их порвать. Время от времени Беатрис просила поработать с нею, подавая реплики: она окончательно согласилась сниматься в фильме Рауля Данти в сентябре. По иронии судьбы, как это часто бывает, она должна была играть верную самоотверженную жену, которую терзает ревнивый муж. Диалоги, которые поначалу казались Эдуару только бездарными и многословными, скоро стали ненавистными, и, спросив безжизненным голосом два или три раза подряд, правда или нет, что Беатрис или, точнее, Лора (так звали героиню) изменила ему, и ожидая услышать, как она с похвальной твердостью ответит, что это невозможно, он внезапно вспылил и зашвырнул рукопись в дальний угол сада. Беатрис удивилась было, потом поняла и рассмеялась.
– Послушай, – сказала она, – ну будь же серьезнее. Мне нужно выучить слова, я же работаю, я… У меня полно других забот, кроме гипотетических Джино.
Потом она рассердилась по-настоящему, и Эдуара заменила верная Кати. И вообще, чем дальше, тем больше Беатрис раздражалась. Она и сама признавала, что диалоги нелепы. Она беспрестанно шагала взад-вперед по маленькому садику, словно измеряя его периметр, откидывала волосы, топала ногой и прислонялась к деревьям, иссушенным летней жарой, будто к воображаемым кулисам. Обеспокоенная Тони д'Альбре зачастила к ним с визитами и засыпала Эдуара коварными вопросами, на которые он не знал, что отвечать.
Положение спас телефонный звонок. Театр «Бютт», которым руководил Барберини, возобновил спектакль «После полудня…», который некогда прославил Беатрис. Барберини был старый человек, который находился в состоянии непрерывного разорения, несмотря на благосклонные отзывы критики. И вот, когда ему показалось, что возобновление этой пьесы может обеспечить ему длительный успех, исполнительница главной роли заболела. Это была молодая актриса, которая трактовала роль героини по имени Клер – роль, когда-то сыгранную Беатрис, – иначе, в ее исполнении Клер выглядела более интеллектуальной, более углубленной в себя, более современной, как обычно говорят, и многочисленные критики не преминули подчеркнуть эту разницу, стараясь не задеть Беатрис. Оказавшись в крайности, загнанный в угол, Барберини позвонил Беатрис и попросил ее, не слишком долго думая, взять на месяц эту роль, которую только одна она и знала наизусть. К всеобщему изумлению, Беатрис согласилась. Она ничего не выигрывала, принимая это предложение, да и вкуса к благотворительности у нее никогда не было, и потому все были в восторге, прославляя цеховую солидарность людей театра и потрясающую отзывчивость неумолимой Беатрис Вальмон. После нескольких репетиций, как оказалось ненужных, поскольку память Беатрис, по крайней мере на тексты ее ролей, оказалась великолепной, – ее ввели в спектакль.
Отказавшись и от Эдуара, и от Тони в качестве сопровождающих, Беатрис пришла в гримерную за час до начала. И Тони, и Эдуар раздражали ее: Эдуар тем, что считал, будто она согласилась на эту роль по доброте душевной, а Тони тем, что, напротив, думала, будто Беатрис делает это из чувства соперничества. Но для самой Беатрис дело было совсем в другом. Она быстро загримировалась и переоделась и была готова за полчаса до начала. Когда режиссер, проходя по коридору, монотонным голосом возвестил: «Через полчаса на сцену!», она вздрогнула, с удивлением почувствовав, как кровь приливает к лицу и щеки вспыхивают. Так было пять лет назад, однако ее отражение в зеркале не имело ничего общего с тем, почти забытым, тогдашним. Тогда от ее игры зависели ее карьера и жизнь. Сейчас ей нечего было терять.
Но руки у нее дрожали, и она крепко вцепилась в край гримерного столика, словно старалась раздавить если не страх, то уж точно гнев: Беатрис не любила столь неожиданных эмоций; она к такому не привыкла. Потом она позвала костюмершу, попросила рюмку коньяку и стала расспрашивать ее о том, как она живет, как идут дела в театре, и обо всяких закулисных историях, слушать которые обычно избегала, – короче, сделала все возможное, чтобы заполнить пустоту получасового ожидания. И все-таки, уже стоя на сцене за темным занавесом, она продолжала дрожать, удивляясь самой себе.
Привычный шум раздвигающегося занавеса; она стояла, залитая светом, перед бледными пятнами лиц, выступающими из мрака, перед загадочной, незнакомой толпой. Она глубоко вздохнула и звонко произнесла первую реплику. Отошла от пианино, на которое облокачивалась. Пошла к партнеру. И уже знала: счастье, свобода, вдохновение, искренность, сила – все вдруг вернулось к ней. Сердце больше не колотилось от страха, не трепетало, как трепещет оно от страсти, утомления или честолюбивых стремлений, – оно билось, билось по-новому, глубоко и ровно. Сердце билось сильно, голос звучал искренне, и наконец, наконец-то она высказывала свою правду! Ощущение фальши, сна наяву, противоречивых чувств, тоски по прошлому, которые не оставляли ее в обыденной жизни, исчезли; все лица, которые она видела перед собой, слились в одно-единственное лицо, которое любила, потому что ничего не была ему должна и потому что никогда его больше не увидит. Это лицо требовало, чтобы она обманывала его, заставляла мечтать, смеяться, плакать, короче, требовало всего, чего угодно, но только не правды. Той случайной заурядной скучной правды, которой всегда требовали и никогда не получали от нее родители, друзья и любовники. Зато из каких бы чудовищных преувеличений ни состояла ее роль, их всегда было мало этому лицу, этим близким и далеким людям: ее публике. И она всегда будет требовать от нее больше и больше. Беатрис произносила чужие слова, воспроизводила чужие движения перед чужими людьми, которых не знала, и была наконец самой собой. И «люблю тебя» она говорила в тысячу раз искреннее своему партнеру (известному педерасту), чем любому из своих возлюбленных. И этот псевдоанглийский интерьер, взятый напрокат на месяц и пустующий двадцать два часа в сутки, был для нее роднее собственного дома; и небо, нарисованное на холсте, которое виднелось за ненастоящим окном, в самом деле означало ясную погоду. И когда в качестве Клер она покидала эти жалкие декорации, то ее просьба, обращенная к партнеру, – поливать цветочек из пластика, звучала душераздирающе. Не любя в отдельности ничего – ни напомаженного молодого человека, ни поддельную мебель, ни взятые напрокат аксессуары, – она неистово любила временность и искусственность всего этого.