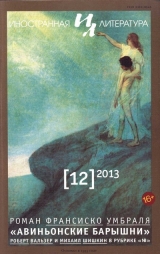
Текст книги "Авиньонские барышни"
Автор книги: Франсиско Умбраль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
– Ты тоже не веришь в своего начальника?
– Как в военного предводителя – нет. Он ведь сам сказал однажды, что никогда бы не начал гражданскую войну.
Через несколько месяцев Унамуно умрет в Саламанке, за чтением книги в постели. У него были нелады с мозговым кровообращением, но он никогда не обращался к врачам. И, конечно, его доконало чувство вины.
– От чего умер Унамуно, тетушка?
– От себя самого.
– Что это значит?
– От чистого противоречия, которое всегда жило в нем.
– Так он был за Франко или против Франко?
– Он и сам этого не знал.
Валье умер несколькими месяцами раньше, в Галисии. Валье, напротив, вполне определенно стоял за Республику и за Асанью. Время показало, что в эстетах больше благородства, чем в моралистах. Унамуно был не способен умереть за идею, а Валье был готов умереть за придуманную, но не ставшую реальностью, великую народную Республику Асаньи. Я никогда не забуду речей Валье за обедами по четвергам, в Атенее или Казино. Никогда не забуду его египетские сигареты и белые туфли. Сегодня он классик, как Кеведо или Сервантес. Ему для этого не потребовалось столетий.
– В Галисии умер Валье, тетушка.
– Мы остаемся одни, племянник.
– Дон Рамон как раз был убежденным республиканцем.
– И страстным человеком, Франсесильо.
Я промолчал.
– И лучшим, величайшим писателем Испании, Франсесильо.
– Почему он уехал из Мадрида?
(Для меня тогда пребывание в Мадриде являлось знаком верности Республике.)
– У него был рак. Он уехал умирать домой.
– Но он много чего нам оставил.
– Почитай мне какую-нибудь из его «Сонат», Франсесильо, ведь у тебя такой хороший голос, как говорил Унамуно.
Франко, однако, не спешил выходить на авансцену, пока ситуация не станет ясной. Эта осторожность пришла к нему не с опытом, он такой родился.

«Савоя-Маркетти SM.81 Пипистрелло» («Летучая мышь»)
Гитлер и Муссолини посылали Франко «юнкерсы» и «савойи» [119]119
«Савоя-Маркетти SM.81 Пипистрелло» («Летучая мышь») – итальянский средний бомбардировщик и транспортный самолет смешанной конструкции. «Савойя-Маркетти S.81» стали первыми самолетами, выделенными для поддержки франкистов в гражданской войне в Испании. Использовались как для переброски войск мятежников из Марокко в Испанию, так и для бомбовых ударов. Сыграли важную роль в ходе войны.
[Закрыть]. Асфальт Мадрида был устлан телами погибших. Я читаю тетушке Альгадефине сонату Валье, которая звучит и модернистски, и по-старинному, прекрасно и резко, похоже на Рубена и Д’Аннунцио, но больше всего, конечно, на самого Валье.
Проза Валье убаюкивает тетушку Альгадефину, она дремлет, и тонкое, порывистое, под стать ее больному дыханию, дуновение со стороны сьерры пытается отогнать далекое и холодное солнце, которое смотрит на нас через тополя, яблони и черешни.
Я набрасываю на спящую тетушку Альгадефину шаль и тихо ухожу в дом, где уже никого нет (до моей ночной женщины остается несколько часов).
Мария Эухения предстала перед нами в полдень, когда мы собирались обедать и Магдалена уже поставила приборы (у тетушки Альгадефины было обострение, и она взяла короткий отпуск). Мария Эухения спустилась в строгом одеянии бернардинки, красивая, торжественная и, по обыкновению, загадочная.
– Я обедаю с вами в последний раз. Я решила, что должна вернуться в монастырь.
– Хорошо, – сказала тетушка Альгадефина. – Мне кажется, это правильно, что ты туда возвращаешься, это твоя обязанность, твой долг, ведь ты сама это выбрала. Я только не понимаю, почему ты так одета. В котором часу за тобой приедет машина?
– Какая машина?
– Не говори мне, что ты собралась идти по Мадриду в монашеском одеянии. Ты не знаешь, что творится на улицах.
– Я знаю, что творится на улицах, и мне все равно. Лучше так.
Тетушка Альгадефина, задумчиво помолчав, сказала:
– Ты ищешь мученичества или смерти.
– А может, и того и другого, Альгадефина.
– Ты искушаешь судьбу.
– Ты всегда считала, что я искушаю судьбу, еще до того как я стала монахиней.
– Я всегда считала тебя близкой подругой и женщиной, которая умеет молчать.
– Но ты не видишь меня монахиней-бернардинкой.
– Я думала, что ты стала монахиней из-за смерти дона Жерома, но потом поняла, что нет.
– Ты меня осуждаешь?
– Я стараюсь никогда никого не судить без крайней необходимости, и меньше всего – подруг.
– Тогда дай мне уйти с миром.
– Ты пришла с миром и уйти можешь с миром, но наша дружба с детских лет дает мне право сказать, что не монастырь тебе нужен, ты ищешь смерти.
– И это не заслуживает уважения, по-твоему?
– Мне кажется, больше заслуживает уважения тихая смерть без зрителей и излишней театральности, как умер Валье или Унамуно.
– Как надеешься умереть и ты.
– Да, возможно. И довольно скоро.
– Прости, я не это хотела сказать.
– Я тоже не хотела говорить ничего из того, что сказала. Ступай к своим бернардинкам, к своим ополченцам, к кому угодно.
– Идет война, Альгадефина.
– Я с ней сталкиваюсь больше и чаще, чем ты.
– Я это знаю, но твой дон Мануэль проиграет войну.
– Но пока он ее проигрывает, ополченцы изнасилуют всех монахинь Испании и сожгут все монастыри.
– Ты смеешься надо мной, потому что я не на вашей стороне.
– Да, ты на другой стороне, на плохой стороне, но я не смеюсь, потому что это твое личное дело.
– Что ты имеешь против меня, Альгадефина?
– Ничего. Я даже не прошу тебя прятаться у нас и дальше. Я думаю, твой долг – вернуться в монастырь, но вернуться не так.
– Я возвращаюсь, как хочу.
– Ну иди.
– Тебе кажется, одеться так – это вызывающе?
– И очень опасно.
– Или я приду в свой монастырь так, или не приду вообще.
– Ты вспоминаешь дона Жерома?
– Да.
– Ты сильно изменилась с тех пор, как его не стало.
– Его у меня отняли немцы в глупой бессмысленной дуэли. Теперь немцы, руками Франко, убьют нас всех. Ну что ж, пусть я буду первой.
– Ты уже опоздала.
– Ты всегда была ироничной, Альгадефина.
– Спасибо.
– Ироничной женщина бывает в двух случаях: либо она умна, либо она больна.
– Во мне оба случая сошлись.
– А я всего лишь женщина сильная. И сильной меня сделала смерть дона Жерома. Я думаю, гражданская война началась с той дуэли.
– Здесь ты права.
– Я сумела понять это, оттого и пошла в монахини.
Установилось долгое молчание. Тетушка Альгадефина умела замолчать вовремя, оставить последнее слово собеседнику. Этой мудрости, как и, возможно, иронии, я научился у нее. Мария Эухения встала и на прощание поцеловала нас обоих.
Близкие подруги расстались холодно, мне это показалось достойным сожаления и очень досадным. И только потом я понял, что таким образом они скрывали взаимное волнение, что это вид женского дендизма, сдержанность почти мужская.
Монахиня Мария Эухения шла по улицам Мадрида, на нее глазели, кто-то ее оскорблял, кто-то подбадривал. Наконец ее остановили ополченцы.
– Стой, монахиня. Куда это ты так вырядилась?
– В монастырь Сан-Бернардо.
– Туда идти далеко. Может, сядешь в трамвай?
– Мне больше нравится пешком.
– Ясно. А ты знаешь, что мы можем тебя убить?
– Знаю.
– А знаешь, что мы можем тебя поиметь?
– До или после того как убьете?
Ополченцы захохотали.
– Но ты бы предпочла остаться в живых?
– Почему бы и нет?
Ополченцы – рабочие, каменщики, дворники – изумились ее бесстрашию.
– Ну тогда тебе придется пройти через многое, монахиня.
Вперед вышел высоченный парень, молодой, белокурый, видимо, их командир.
– Эта женщина заслуживает уважения. Продолжай свой путь, сестра-монахиня, тебе еще встретятся другие товарищи.
– Спасибо, милый юноша.
– Почему ты разрешаешь ей уйти?
– Она почти святая. Такая женщина достойна уважения.
– Это так.
Полупьяным ополченцам-сквернословам в потных рубашках, утомленным жарким июльским солнцем, было скучно, хотелось войны и активных действий. Асанья был единственным, кто понимал, что с такой армией войну не выиграть. Монахиня Мария Эухения продолжала свой путь по Мадриду 18 июля, и не было конца этому дню, 18 июля, он длился, казалось, месяцы, годы, столетия.
Как сказал высокий ополченец, другая группа ждала ее впереди, но эти были более уважительными или более робкими, то ли сильнее устали, то ли совсем напились, они задали ей несколько вопросов и позволили идти дальше.

Памятник Франсиско Гойе перед музеем Прадо в Мадриде. Выполнен из бронзы, мрамора и гранита в 1902 г.
Монахиня Мария Эухения шла по Мадриду как по острию ножа, она шла по Мадриду, как по военному лагерю, она шла по грязным переулкам, по многолюдным площадям, по пустынным улицам, сквозь трамвайный звон, сквозь веселье и грусть, она шла по Мадриду, и лопнувшее яблоко лежало на трамвайных путях, она шла по Мадриду, и мертвый человек плавал в фонтане Сибелес, она шла по Мадриду, и Гойя, сняв шляпу, скорбно смотрел на нее, она шла по Мадриду, и огромные здания, утопая крышами в необъятной голубизне, бросали оттуда свою неоклассическую тень на бедняков и революционеров, сумасшедших и пьяниц, балерин и цыганок, убийц и мертвых, и продавец сыров лежал, скрючившись, посреди улицы рядом со своим раздавленным ослом и перекореженной повозкой, и побитые кувшины с сыром валялись тут же – глиняные черепки на бело-красной плитке мостовой.
Монахиня Мария Эухения, наконец, встретилась с пикапом фалангистов, которые ехали убивать ополченцев.
– Куда вас отвезти, сестра?
– К бернардинкам, тут уже близко.
– Как вы смогли пройти, ведь кругом бог знает что творится.
– С ополченцами я уже разобралась.
– С ними разобраться можно только с помощью ружей.
– Ну вот же я – целая и невредимая.
Они оставили ее у дверей бернардинок. Монастырь наполовину сгорел, но еще давал приют монахиням.
Мавры Франко стояли в Каса де Кампо [120]120
Парк Каса де Кампо занимает правый берег реки Мансанарес в западной части Мадрида. Площадь его составляет примерно 170 гектаров.
[Закрыть]и в Университетском городке, они стояли там не один месяц, а легионеры Мильян-Астрая были в Карабанчеле [121]121
Карабанчель – небольшой город в Испании, в 6 км к юго-западу от Мадрида, любимое летнее гулянье жителей столицы.
[Закрыть]. Они тоже простояли там довольно долго. Я и с маврами пил чай, и у легионеров ел бутерброды. Я не был ни фалангистом, ни ополченцем. Я был сторонником Асаньи, как тетушка Альгадефина, но на всякий случай не говорил об этом в барах. О Марии Эухении мы никогда ничего больше не узнали. Ее проход через военный Мадрид в монашеском одеянии остался в памяти почти как чудо, сродни чудесам в житии святых. Ведь Мадрид в тот день истекал кровью, как скрюченный продавец сыров с раздавленным ослом и разбитыми кувшинами посреди улицы Санта-Энграсия, глиняными черепками на окровавленной мостовой.
Испания красная и Испания священная. Я жил на две Испании. Но, говоря о двух Испаниях, я значительно все упрощаю. На самом деле было много Испаний, в борьбе сошлось много разных сил, и эта сложность, многое объясняя в гражданской войне, превратила ее в войну безнадежную. Испания – задача, не имеющая решения, как сказал мне Эусебио Гарсиа, писатель и друг из кафе «Реколетос».
– Испания – задача, не имеющая решения.
Он был на двадцать лет старше меня и нуждался в ученике, как всякий учитель, и он нашел его во мне: мальчике, который молчит и слушает или задает вопросы, и эти вопросы никогда не кончаются.
Эусебио Гарсиа был сторонником Асаньи, как и я, но он также молчал об этом, потому что революционеры стали относиться к Асанье враждебно, после того как выяснилось, что он не хочет гражданской войны.
Герника – самый чудовищный эпизод войны, и картина Пикассо его не только увековечила, но и овеществила, что в общем-то одно и то же. Заметим, однако, что изначально Пикассо рисовал совершенно другое и делал это на заказ, но потом переработал уже написанное.
Я оставлял дома тетушку Альгадефину на попечение доктора дона Фернандо, который наблюдал ее всю жизнь и, кроме того, был красным. Ночью я возвращался домой, рассказывал ей о том, что видел за день, и мои рассказы приводили ее в восторг (как, например, история о Марии Эухении, монахине, за которой я шел по пятам 18 июля).
Что такое коммунизм и анархизм, я тогда еще не совсем понимал. Тогда моим кумиром был Асанья, и это сближало меня с Эусебио Гарсиа.
Гарсиа был парадоксальным диалектиком, фонтаном идей, искрометным оригинальным собеседником, в жизни не написавшим ни одной книги или статьи. Он был философом, но излагал свои мысли устно, как Христос или Сократ. Я встретил его в «Реколетос» и выбрал своим учителем, или он меня выбрал как ученика, теперь уже и не знаю, как оно было на самом деле.
Эусебио Гарсиа соединял в себе античного пророка, греческого философа и нищего мадридского бродягу. Хоть он специально не рядился красным или кем-то еще, но с его грязным галстуком-ленточкой он имел вид человека, перебежавшего от Асаньи к левым. Я же, как мне кажется, не бросался в глаза. Одежда на мне была заношенной и мятой. Тетушка Альгадефина не занималась домашними делами, ни глажкой, ни стиркой, ни уборкой, а Магдалена ограничивалась тем, что стирала мне белье и кое-какие рубашки. И я походил на уличного мальчишку-оборвыша, который прибился к революции (хотя на самом деле я до нее еще не дорос).
С Эусебио Гарсиа я целыми днями бродил по Мадриду, истекавшему кровью, оглохшему от революционных песен, и он, не переставая, рассуждал о том, что мы видели, ну прямо как Сократ на улицах Афин.
Однажды в дом заявилась толпа ополченцев. Тетушка Альгадефина остановила их, выкинув вперед руку – блеснули кольца на пальцах, и только я заметил, что рука ее чуть дрожит.
– Здесь жил дон Мартин, говорят, он был масоном и красным.
– Если он был масоном, то держал свое масонство в страшном секрете, так что никто в семье даже не догадывался об этом. Но разве вы не ополченцы?
Они хитро посмотрели друг на друга и рассмеялись.
– Мы фалангисты, мы переоделись, так нам легче работать.
– И что вы, фалангисты, имеете против деда?
– Он знался с Гальдосом и Валье-Инкланом, другом Асаньи.
Тетушка Альгадефина вздохнула с облегчением – слава богу, она не успела сказать, что работает секретарем у Асаньи.
Они обошли дом, заглянули в каждую комнату, в библиотеку, в патио, в кабинет прадеда.
– Это кабинет дона Мартина Мартина?
– Вы даже не знаете его имени. Он был Мартин Мартинес. Я Мартинес по второй фамилии. Мне кажется, что настоящие ополченцы работают лучше, чем вы.
– Не говори так, мы ведь можем и застрелить тебя.
– Ну давайте!
– А ты смелая. Но дон Мартин или как его там, все-таки был масоном.
– Мы об этом не знали.
– Надо бы сжечь его библиотеку.
– Не очень-то у вас выходит казаться ополченцами.
Затем они привязались ко мне.
– А этот щенок почему не с нами?
Тетушка Альгадефина ласково провела рукой по моему лицу.
– Потому что ни он ни я этого не хотим.
– Парень, ты по годам вполне можешь быть фалангистом.
Я молчал. Пусть тетушка ответит за меня.
– Он не занимается политикой. Он поэт.
– Хосе Антонио тоже поэт.
– Поэт пистолетов.
– Эй, ты, думай, что говоришь.
– Меня зовут Альгадефина.
– Красивое имя.
– Мы уже поняли, что ты не с нами. Но знай – однажды придут настоящие ополченцы, и будет гораздо хуже.
– Не думаю.
– А дед все же масон. Пока, красотка, ты настоящая сеньора.
– И ты, щенок. Надо проследить, запишешься ли ты в Фалангу.
И фалангисты, переодетые ополченцами, уехали на ревущем «форде Т», наверняка принадлежавшем отцу одного из них.
В следующий раз ночью пришли настоящие ополченцы.
– И это все принадлежало дону Мартину Мартинесу, леонскому богачу, завсегдатаю мадридского Казино?
– А это что, плохо?
– Плохо иметь столько денег. Теперь это ведь все твое.
– У меня нет ничего, потому что нам ничего не осталось. По этим парням сразу было понятно, что они ополченцы настоящие. Они были хуже одеты, но более решительны в своих действиях. От них пахло вином и бедой.
– Мы должны осмотреть дом.
– Начинайте, с чего хотите.
И снова блеснули кольца, тетушка Альгадефина жестом пригласила их войти.
Они так же обошли весь дом. Им очень хотелось что-нибудь сжечь, но они не знали что.
– Твой дед был плутократом.
– Я не знаю, что это такое. У него были земли в Леоне, но он проиграл их в рулетку.
– Богатей.
– Фалангисты обвиняют его в масонстве.
– А ты… сразу видно, ты сеньорита.
– Я секретарь Асаньи.
Они растерялись. Повисла пауза.
– Асанья реакционер.
– Ну тогда идите к нему, а меня оставьте в покое.
– А кто этот парень?
– Он мой племянник. Последнее, что у меня осталось.
– И твой любовник?
– У меня бывали и получше.
– Язык у тебя подвешен. Ладно, мы вас прощаем, потому что вы разорены.
– Вы можете забрать то немногое, что еще осталось.
– Мы не воры. Мы только изымаем излишки.
– Я знаю, знаю. И я, внучка масона, на вашей стороне.
– Передай Асанье – или он поддержит анархистов, или долго не продержится.
– Передам.
– Пока, красавица.
– До свидания, ополченцы.
Так тетушка Альгадефина отражала атаки на дом. Как она правильно сказала, у нас не осталось ничего. Мы выживали. Я любил ее еще сильнее за хладнокровие и выдержку перед лицом Истории, перед друзьями и врагами, перед людьми в целом. И в своей твердости она ни в чем не уступала монахине Марии Эухении, за которой я неотступно следовал по красному Мадриду, когда она возвращалась в монастырь, о чем, думаю, я уже говорил.
Франко откладывает взятие Мадрида, потому что хочет сначала очистить от красных все испанские провинции, ему кажется, что сделать это военным путем быстрее и надежнее.
Негрин [122]122
Хуан Негрин Лопес (1892–1956) – испанский политический деятель, премьер-министр в 1937–1939 гг. (в период Гражданской войны).
[Закрыть]выдвигает тринадцать пунктов, чтобы прийти к компромиссу с националистами. Он хочет спасти демократию (и жизни людей). Асанья еще ездит по Мадриду в машине с открытым верхом.
На Эбро [123]123
113-дневное сражение на реке Эбро (началось 25 июля 1938 г.) стоило республиканцам от 50 до 70 тысяч убитых, раненых, пленных и пропавших без вести. Националисты потеряли от 33 до 45 тысяч человек. Обе стороны по окончанию боев на Эбро заявили о своей победе: действительно, республиканцы смогли отстоять Валенсию, а националисты – отразить наиболее подготовленное и организованное контрнаступление противника за всю войну. Фактически же, Испанская республика понесла огромные потери и лишилась последних шансов на победу в войне.
[Закрыть]решается исход Гражданской войны, и мы знаем, кто в результате взял верх.
Полмиллиона каталонцев бегут во Францию.
– Полмиллиона каталонцев бегут во Францию, Франсесильо, – сказал мне Эусебио.
– А мы, Эусебио?
– Мы – Мадрид, а Мадрид еще держится.
Я, конечно же, не собирался оставлять тетушку Альгадефину одну, а уезжать с ней вместе тоже было невозможно. Она бы умерла в пути. Тем не менее я пробовал договориться с кем-то из друзей и даже с таксистами. Я готов был отдать все деньги, что оставались дома. Франция, французская медицина, поправившаяся тетушка Альгадефина, мы с ней, счастливые, на Лазурном Берегу.
В Мадриде продолжались праздники, коктейли, театры, танцы в «Ритце» (словно вернулись времена дона Жерома и немца кузины Маэны, такие далекие, такие близкие).
Забегая в бары, я заговаривал с каждым таксистом, в надежде договориться об отъезде. Франция, мир, здоровье, спасение моей любви. Наконец я нашел одного говорливого социалиста, который был готов ехать.
– Да, сеньорито. Меня радует, что вы тоже социалист. Я и сам думал уехать во Францию, потому что здесь уже полная безнадега. Да, сеньорито, завтра в восемь утра я у вашего дома. Я тоже собрался уезжать, я довезу вас до границы, и вы мне оплатите бензин. Меня зовут Фелипе, буду рад вам помочь.
Гарсиа, казалось, был немного разочарован моим бегством. Он собирался встретить войска Франко в Университетском городке и иронично приветствовать их вступление в Мадрид.
Фелипе отвез меня домой той ночью, чтобы утром не искать дорогу.
– Сейчас я ничего не возьму. Рассчитаемся на границе.
И мы оба засмеялись. Тетушки Альгадефины не было ни в шезлонге, ни в патио, ни в саду. Было поздно, и она, конечно, уже легла. Я даже не позвал Магдалену. Я горел желанием рассказать моей любимой о планах нашего отъезда, нашего спасения и ее грядущего лечения. Мы достанем все серебряные дуро, все золотые монеты, которые бабушка Элоиса хранила в своих шкатулках. С серебром и золотом можно ехать куда угодно. Тетушка Альгадефина была в постели, она спала. Я поцеловал ее в прохладный лоб. По крайней мере, температуры у нее нет. Я снова ее поцеловал, взял за руку. Она была мертва.
Я сел на краешек кровати, нашей кровати, и заплакал. Потом вышел на балкон, передо мной лежал ночной июльский Мадрид, только отдаленные выстрелы и разрывы тревожили его спокойный сон. Я вдруг перестал понимать, кто я, что я, где я, откуда я, что делаю. Я потерял мою любовь, но гораздо острее, чем боль от этой потери, я ощущал свою растерянность – у меня больше не было жизненных ориентиров, отныне меня никто по жизни не вел и никто ничего не объяснял.
Я вернулся к ней, и увидел на постели письма и стихи Рубена. Я почувствовал, что меня предали. Она умерла, слушая музыку стихов гениального индейца, он белей олимпийского снега, лебедь с розой оттенков агата, что крыло, словно веер в полнеба, раскрывает на фоне заката. Она никогда не была моей. Она принадлежала Рубену, она принадлежала другой эпохе, не моей. Я подумал, что должен вернуться на улицу, на войну, к Мадриду, найти снова Гарсиа, или кого-то другого, кто скажет, что мне делать и что мне думать. Пробили часы и тут же прозвонил колокол с монастырской колокольни. Ночные звуки мне помогли, и в голове прояснилось: сидеть над тетушкой Альгадефиной, похоронить тетушку Альгадефину рядом с семьей, потом одеться ополченцем и пойти по Мадриду, как бродячий полубог, сбившийся с курса, он белей олимпийского снега, лебедь с розой оттенков агата, что крыло, словно веер в полнеба, раскрывает на фоне заката.









