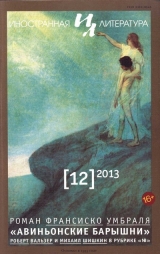
Текст книги "Авиньонские барышни"
Автор книги: Франсиско Умбраль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
– Иди, Иносенсья, иди вместе с твоим мужем, волками и детьми делать революцию, о которой ты не имеешь ни малейшего понятия.
– Простите, дорогой сеньор.
– Дай тебе Бог всего, чего ты хочешь, и всяческой удачи. Боюсь, что тебе придется однажды пойти против тех, кто поддерживал тебя всю жизнь, с самой молодости.
– Не говорите так, дорогой сеньор, я сейчас расплачусь.
И, рыдая, Ино пошла по коридору.
А дон Мартин подвел итог: его бросила любовница, от него ушла служанка, проработавшая в доме столько лет, – и он понял, что все ухнуло в тартарары.
На следующий день к нему пришла Убальда с теми же словами, что Ино, и стало ясно, что обе служанки сговорились. Дон Мартин простился с ними холодно, с достоинством, щедро заплатив.
Магдалена же продолжала петь, протирая стаканы, и ни о чем не беспокоилась, потому что всякие исторические перемены ее мало интересовали или потому что (и это более вероятно) ей было все равно и она не сомневалась, что богатые всегда останутся богатыми.
1934. Октябрьская революция в Астурии – жандармы, женщины в полосатых фартуках, шахтеры в беретах и павшие герои. В революции особенно проявили себя двое: Долорес Ибаррури, Пасионария [100]100
Пасионария по-испански означает «страстная».
[Закрыть](забавно, что она носит католический псевдоним – ее так прозвали оттого, что свои первые статьи она написала в Страстную Неделю), и Франсиско Франко, Франкито, который, разумеется, отличился жестокими расправами и тем завоевал доверие Республики, которую, впрочем, очень быстро предаст.
Астурийское восстание было единственным серьезным шансом, который выпал революционной Испании и который она упустила.

Алехандро Леррус Гарсиа
Леррус [101]101
Алехандро Леррус Гарсиа (1864–1949) – испанский государственный и политический деятель. В начале XX в. активно участвовал в республиканском движении в Каталонии, первоначально на его левом фланге, в дальнейшем эволюционировал вправо. Три раза становился премьер-министром Испании в период с 1933 по 1935 гг.
[Закрыть], император барселонской Параллели [102]102
Проспект Параллель – одна из самых известных и популярных улиц Барселоны, соединяет порт с площадью Испании. В начале XX в. проспект был сопоставим с парижским Монмартром, лондонским Вест-Эндом или нью-йоркским Бродвеем.
[Закрыть], общаясь с рабочими, надевал комбинезон и жевал бутерброды; с Луисом Компанисом [103]103
Луис Компанис Ховер или Льюис Компаньс-и-Жовер (1882–1940) – президент провинции Каталония с 1934 г. и во время Испанской гражданской войны.
[Закрыть]и подобными он совершенно менялся: гордый поворот головы, очки, усы – все подчеркивало его величие. Республика и революция творят своих лицемеров, как и монархия. Важно уметь распознать их. Это дело интуиции или умения наблюдать. Из Каталонии надвигается другая революция, менее кровавая, чем астурийская, в ней нет анархистов, в ней много интеллектуалов. Компанис объявляет Каталонию независимой. Дед ничего не понимает.
Он только понимает, что времена меняются, что с революцией или без революции, но пришел совсем другой век и что Историю вспять не повернуть. Он только чувствует, как История полоснула его по сердцу холодным ножом.
Его время кончилось, все в корне изменилось, от прошлого остаются какие-то крохи, да и те надо спасать. Но ему спасать нечего – у него ничего нет. И прадед дон Мартин Мартинес заболевает и умирает, его убивает время, новый век, он в буквальном смысле смертельно ранен Историей.
– Позовем священника, дон Мартин?
– Единственный священник, кого я готов принять, это дон Мигель де Унамуно.
– Но Унамуно не священник, дон Мартин.
– Он священник самый настоящий.
– Дон Мартин…
– Я не хочу церковников. Я хочу Унамуно.
И Унамуно приехал из Саламанки. Он провел ночь в поезде…
– Скажи мне, Мартин, что случилось?
– Случилось то, что я умираю, Мигель.
– Это я уже вижу. А что еще?
– Я хочу исповедаться.
– Но я не священник, Мартин.
(Перед лицом смерти они перешли на «ты»).
– Ты сам меня учил, что любой человек есть образ Христа.
Спальня прадеда была просторной супружеской спальней в барочном стиле – большие картины с изображениями святых и предков на стенах, массивная широкая кровать с высокой овальной спинкой в изголовье, украшенной причудливым узором.
– Ну хорошо, я слушаю.
Он снял берет и сел возле умирающего на краешек его вычурной кровати.
– Я не знаю, в чем мне исповедоваться, Мигель.
– И ради этого я приехал, Мартин?
– Ну, плотские грешки, это ерунда.
– Плотские грехи я тебе прощаю от имени Христа. А искушения дьявола?
– Дьявол искушал меня всю жизнь. Я, Мигель, как тот персонаж у Толстого, жил всегда под девизом: «А будь земли вволю, так я никого, и самого черта, не боюсь!» [104]104
Имеется в виду крестьянин Пахом из рассказа Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно?» (1886).
[Закрыть].
– Ты хотел много земли?
– Очень много, и не для себя только, а для моей семьи, для моих близких.
Семья, прислуга (какая еще оставалась), подруги и друзья, сестры Каравагио – все стояли у дверей спальни и слушали исповедь дона Мартина.
– Земля, Мартин, не для близких и семьи, а для всех людей и животных.
– Осуди меня за этот грех.
– Разве ты позвал меня не для того, чтобы я твои грехи отпустил?
– Я тебя позвал, чтобы ты меня осудил. Я знаю, что за свои грехи я попаду в ад, Мигель.
– Но ты никогда не верил в ад, Мартин.
– Уж лучше ад, чем ничто, Мигель.
Святые и предки на картинах с почтением взирали на эту невиданную исповедь. Слуги и женщины, хоть и не понимали ничего, но все равно плакали из жалости к дону Мартину. При зажженных свечах – а дон Мартин не любил электрический свет – огромный барочный альков терял свое величие и впадал в маньеризм.
– Мирские искушения, Мартин?
– Мир меня искушал мало. Я предпочитал объезжать на коне свои земли, чем торчать в мадридском Казино. Но рулетка, если это мирское искушение, сильно притягивала меня.
– Конечно, это мирское искушение, Мартин.
– Осуди меня, Мигель.
– Ты играл, чтобы спасти семью, и потерял молодую племянницу. Ты уже пострадал за это, Мартин.
– Священники судят строже, чем ты, Мигель.
– Тогда надо было позвать священника.
– Ты самый настоящий христианский священник, Мигель.
– Я отпускаю тебе твои грехи, Мартин.
И дон Мартин упокоился с миром.
Похороны прадеда дона Мартина Мартинеса были исполнены подлинной скорби. Националисты, крупные землевладельцы, либералы, республиканцы, церковные деятели, конституционалисты, монархисты – все как один собрались, чтобы попрощаться с этим человеком.
Вокруг были сплошные черные костюмы, цилиндры, береты, котелки, трости, ненужные зонтики, весь социальный спектр, как говорят сейчас, когда я пишу эти правдивые и невозможно фальшивые воспоминания, но как не говорили тогда. И как мог дед соединить цилиндры либералов Казино с беретами Пабло Иглесиаса [105]105
Пабло Иглесиас Поссе (1850–1925) – испанский политический деятель, основатель Испанской социалистической рабочей партии и социалистического профсоюза «Всеобщий союз трудящихся».
[Закрыть]? Это только доказывает, что он был великим человеком.
Шесть черных лошадей с черными плюмажами, оставлявших за собой навозные лепешки, тем не менее придавали шествию особую торжественность. Впереди шли священники с псалтирью, за ними служки несли кресты из фальшивого серебра, внушительные по виду, но не по весу, я тоже нес. Так Мадрид прощался с доном Мартином Мартинесом, который двигался к главному кладбищу Мадрида, чтобы занять свое место возле тел кузины Маэны, моего отца и других похороненных здесь родственников, которых я уже и не помню. Но не могу не упомянуть жену дона Мартина Мартинеса, прабабушку Петронию, которая вышла за него замуж в четырнадцать лет и умерла в двадцать с небольшим, успев нарожать множество детей, умерших в раннем возрасте, выжила только бабушка Элоиса. Похоронная процессия медленно двигалась по центральным улицам, пока ее не остановила толпа анархистов, шествовавших поперек, и произошла стычка, даже драка, и замелькали палки, и зонтики пошли в ход, в общем, разыгралась гражданская война в миниатюре, предвещавшая ту, настоящую, которая уже нависла над Испанией. Дон Мануэль Асанья зашел к нам домой, чтобы засвидетельствовать сочувствие семье тетушки Альгадефины, но на похороны не остался.
Это уличное столкновение между анархистами в красных рубашках и сеньорами левого толка в сюртуках наглядно показало мне, что положение дел намного серьезнее, чем я думал, и что гражданская война неизбежна. В конце концов похоронная процессия все же двинулась дальше, и в самом хвосте ее я увидел Марию Луису в трауре, без макияжа, и ничего революционного в ее облике не было.
– Франсесильо, это ужасно.
– Ты бросила деда, когда он больше всего нуждался в тебе.
– Я должна была посвятить себя революции.
– И твоему жениху.
– Поразительно, Франсесильо, как ты вырос и как ты все знаешь.
– Я будущий летописец своей семьи.
– И что это значит?
– Ничего особенного, просто я тот, кто старается все узнать и запомнить.
После похорон Мария Луиса повела меня в свой пансион на улице Хакометресо, где Ганивет когда-то подхватил сифилис. Я услышал на похоронах, перед могилой, очень много слов о свободе, либеральности, обновлении и все такое. Но, увидев ту жесткую стычку с анархистами, я уже не мог верить этим словам. Спасется ли Испания от беретов? Спасется ли Испания от сюртуков?
– Я узнала любовь прадеда, теперь я хочу узнать любовь правнука.
Мария Луиса, обнаженная, была намного красивее, чем проститутки, которых я часто посещал.
– А если придет революционер?
– Какой революционер?
– Твой чертов жених.
– Не беспокойся. Он занят тем, что убивает фашистов.
– И кто такие фашисты?
– Они даже не богатые, они просто служат богатым.
Она заснула, обнимая меня, а я думал о том, какие красивые были похороны, какие громкие говорились слова.
Я хотел разбудить ее, потому что боялся, что с минуты на минуту придет ее ополченец, но не осмеливался.
И еще я думал, приду ли сюда когда-нибудь снова, вспоминал тетушку Альгадефину и спрашивал себя, не предаю ли я ее? Но предаю в чем, каким образом? Она была мне второй матерью и только, да, я влюблен в нее, но это должно пройти. Разумеется, я никогда ни слова не сказал ей о Марии Луисе.
Такими были, в общих чертах, похороны прадеда дона Мартина Мартинеса, настоящий прообраз грядущей гражданской войны, где все смешается – капиталисты, социалисты, анархисты, ополченцы, проститутки и священники.
Испания – страна грандиозных похоронных процессий, и поэтому только на похоронах я понял масштаб личности прадеда.
Я плакал о нем, пока Мария Луиса спала. Потом я тихонько, чтобы не разбудить ее, оделся и так же тихо ушел.
Мария Эухения, монахиня, продолжала лизаться с Каролиной Отеро, пока в один прекрасный день галисийка, Прекрасная Отеро, не сказала:
– Извините меня, господа, с вашего позволения, но я возвращаюсь в свою галисийскую деревню умереть в мире и в милости Божьей.
Каролина Отеро отправилась на вокзал одна со своим картонным чемоданом, потому что ее тело уже не интересовало никого в доме: я разрывался, как можно догадаться, между Марией Луисой и козой Пенелопой, а монахиня Мария Эухения устала от своей подруги. Я видел, как она уходит в дождь (который словно предвосхищал типичную галисийскую погоду), пешком, с солдатским чемоданом, как какая-нибудь уволенная служанка, а не эротический символ Европы.
Я бы многому мог научиться у Прекрасной Отеро, но монахиня Мария Эухения отняла ее у меня, и я подозреваю, что знаменитая Каролина была немного влюблена в нее, а может быть, даже и очень.
С тех пор как я прочел Бодлера, любовь между женщинами интересовала меня всегда, в отличие от любви между мужчинами, к которой я никогда никакого интереса не питал. Тетушка Альгадефина с приходом революции мгновенно вылечилась от чахотки, каждый день ходила на работу к Асанье, занималась политикой и делами Республики и перестала служить мне благословенным приютом моего детства и отрочества.
Гражданская война медленно надвигалась, и это иннервировало (а вовсе не нервировало) тетушку Альгадефину, необычайно активно помогавшую Асанье (что вызывало у меня чувство ревности), у нее со щек даже исчез ее обычный по вечерам болезненный румянец.
Я сказал об этом маме:
– Тетушка Альгадефина живет исключительно для Асаньи и для Республики.
И мама, спокойная, как сама вечность (и несомненно понимающая мою тайную ревность), ответила:
– Оставь ее. Болезни лечатся только страстью, и лучше пусть она сгорит на работе, чем от чахотки под магнолией.
В Испании уже были синие и красные, и кажется, мы относились к красным, потому что именно среди красных обретались правые, забывшие дорогу к мессе. Красные с положением и деньгами, не сторонники фалангистов и не коммунисты, мы рисковали со всех сторон.
Однажды пришли фалангисты и обыскали весь дом. На другой день пришли коммунисты и обыскали уже обысканное. Без сомнения, наша семья (а все еще помнили дона Мартина) с непонятной политической ориентацией приводила всех в замешательство.
В конце концов нас оставили в покое.
После смерти прадеда дедушка Кайо и бабушка Элоиса в свою очередь решили умереть, пожелав, чтобы их похоронили рядом с прадедом.
Первым умер дон Кайо, в компрессах, в одышке, полный молчаливого смирения. Следом умерла бабушка Элоиса, в молитвах и с распятием в руках. Похороны, понятное дело, были не такие пышные, как у дона Мартина, но на погребение дедушки Кайо явились все налоговые чиновники Мадрида, молодые и старые, пенсионеры и стажеры, веселые и грустные, потому что дедушка Кайо, с его четками и Фомой Кемпийским, был великим либерализатором налогов в Испании, налоговые чиновники относились к нему с большим почтением, и его фотография висела на всех таможенных постах страны.
Я стал пренебрегать козой Пенелопой, все мои силы уходили на визиты к Марии Луисе по средам и пятницам, по тем же дням, в какие ходил к ней прадед. Перед войной (теперь-то я могу так сказать) Мадрид, мой Мадрид, практически превратился в зону красных, вся же остальная Испания была скорее зоной националистов. Однажды мать сказала:
– Надо уезжать в наше леонское поместье, там поспокойней.
– Но папа похоронен здесь, и погиб он за Галана и Гарсиа Эрнандеса.
– Раз такое дело, поступай, как знаешь.
И я остался в Мадриде, среди красных.
Дельмирину, пусть некрасивую, но очень добрую, схватили на улице ополченцы и хотели расстрелять.
– Ты переодетая монахиня.
– Я работаю в «Уньон и Феникс» [106]106
Испанская страховая компания, возникшая в 1879 году в результате слияния нескольких мелких страховых агентств.
[Закрыть], можете там справиться.
– Не ври, монашка. Ты просто переоделась.
Ей собирались отрезать волосы и расстрелять, когда подошел командир ополченцев:
– Я Пелайо и это моя жена Дельмирина. Любовь моя, ты меня узнаёшь, ты меня прощаешь?
Хромая Дельмирина и вор Пелайо крепко обнялись и стали жить вместе, и никогда не говорили о прошлом. Что до сестер Каравагио, то они не выходили из дома вообще, и это помогло мне окончательно порвать с Сасэ.
Кубистская толстуха меня больше не интересовала ни с какой стороны.
Однажды я спросил сам себя: кто я – красный или националист, и понял, что красный, как прадед дон Мартин и как папа, а может, просто я был заодно с Мадридом. Я был таким же красным, как Галан и Гарсиа Эрнандес, но революционно настроенный народ это плохо понимал. Тетушка Альгадефина была красной, как Асанья. Красные были расколоты, и предводителей у них было много, именно из-за этого мы потом и проиграем войну. Пако, садовник, донес на нас, назвав фашистами, и снова начались обыски. Я не помню точно, шла ли уже война, но Мадрид жил в состоянии войны. Наш сторож Эладио, толстый и косоглазый, тоже донес на нас как на фашистов, но все бумаги дедушки красноречиво свидетельствовали об обратном, так что ополченцы ушли ни с чем и даже извинились, но после них в доме остался какой-то липкий коричневый запах, запах человека, который пришел убить.
Потому что всякое преступление, будь оно бытовое или политическое, имеет запах, и пахнет оно чем-то нечистым, беспощадным, свинцовым.
По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам я распутничал с козой Пенелопой, по средам и пятницам посещал Марию Луису, которая, помимо своей революционной деятельности, продолжала работать проституткой в «Чикоте». Воскресенья я посвящал тетушке Альгадефине, отдыхавшей в своем шезлонге после рабочей недели.
– Как дела, тетушка?
Она медленно положила свою нежную руку мне на голову.
– Я вижу тебя всего раз в неделю, Франсесильо. Чем ты живешь?
– Ты слишком много времени посвящаешь Асанье.
– Ты ревнуешь меня к дону Мануэлю?
– Да.
– Он, бедняга, работает сутками, на нем лежит огромная ответственность.
Тетушка Альгадефина приблизила мои губы к своим и поцеловала меня. Это было как чудо, как если бы вдруг меня поцеловала Дева Мария, но не в лоб, а по-настоящему. После этого она закашлялась, а я понял, что мамин отъезд в Леон, на земли прадеда, предоставил ее сестре полную свободу. Я отнес тетушку Альгадефину в постель, чтобы она отдохнула, и там, в ее спальне, мы молча предались любви, безыскусной и безмятежной, и я чувствовал себя как Данте в раю. Потом тетушка Альгадефина заснула и дышала сначала трудно, с большим усилием, но очень быстро дыхание выровнялось и стало спокойным. Любовь ее излечила.
1935. Женится дон Хуан де Бурбон, сын Альфонса XIII, претендент на испанский престол. Популярным и любимым в народе становится Хосе Диас [107]107
Хосе Диас Рамос (1896–1942) – испанский профсоюзный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании в 1932–1942 гг. Руководил компартией во время Гражданской войны в Испании, не занимая государственных постов, сыграл выдающуюся роль в создании Народного фронта и организации Народной армии, сражавшейся против фашизма.
[Закрыть], генеральный секретарь компартии. Мы думали, что коммунизм – это вещь иностранная, но оказалось, что он годится и для Испании. Дали рисует свое Предчувствие гражданской войны [108]108
Знаменитое полотно «Мягкая композиция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны» было написано Сальвадором Дали в 1936 г.
[Закрыть].Дали, друг сеньорите Лорки, который в нашем доме играл Фалью в четыре руки с тетушкой Альгадефиной, утверждал, что картина эта – великий образец сюрреализма, но она гениальна еще и своей пророческой силой, обращенной ко всему человечеству.

Хосе Диас Рамос
Мария Эухения после отъезда Каролины Отеро много читает, занимается садом, ведет дом.
Мария Эухения, нашедшая убежище в нашем доме монахиня, и Альгадефина (я устранил слово «тетушка» с тех пор как превратился в ее любовника, правда очень быстро я его верну), сторонница Асаньи, ведут бесконечные политические беседы повсюду: под магнолией в саду, в патио, в гостиной, в столовой – где угодно. Мария Эухения за правых и верит в Хосе Антонио [109]109
Хосе Антонио Примо де Ривера-и-Саэнс де Эредиа (1903–1936) – испанский политик, основатель партии Испанская фаланга. В 1935 г. руководство Фаланги на закрытом тайном собрании утвердило шин государственного переворота. Но республиканцы раскрыли заговор, Фалангу объявили вне закона, а 14 марта 1936 г. Хосе Антонио Примо де Ривера был арестован и 20 ноября расстрелян.
[Закрыть], сына диктатора Примо, бывшего ухажера Альгадефины. Мария Эухения даже знает его лично.

Хосе Антонио Примо де Ривера-и-Саэнс де Эредиа
Одни говорят, что у него в невестах ходили знаменитости, такие как Маричу де ла Мора [110]110
Маричу де ла Мора Маура (1907–2001) – испанская писательница и журналистка, политический деятель.
[Закрыть]или Мерседес Формика [111]111
Мерседес Формика Кореи (1916–2002) – испанская писательница.
[Закрыть]. Другие – что он педераст. Верить не стоит ни тем ни другим. Его единственной страстью была политика. Он встречался с Муссолини и брал у него деньги, чтобы поддержать Фалангу, которая бесхитростно копировала итальянский фашизм. Я писал стихи, сильно подражая Гильену [112]112
Хорхе Гильен (1893–1984) – испанский поэт-неоклассик, друг Лорки, переводчик Валери.
[Закрыть]или Хуану Рамону [113]113
Хуан Рамон Хименес (1881–1958) – испанский поэт, один из лучших испаноязычных лириков. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1956 г.
[Закрыть], и тайно посвящал их тетушке Альгадефине, но уже тогда понимал, что зарабатывать деньги литературой можно только в журналистике, и стал строчить статьи революционного содержания. Я не был таким пламенным революционером, как можно было подумать по моей писанине, мне просто хотелось получить за нее деньги и увидеть ее напечатанной. Мое имя замелькало в левацких газетенках.
Наши обеды по четвергам, после стольких смертей, давно зачахли, но все-таки Мария Эухения – она как скрывающаяся от красных монахиня пользовалась у правых большим авторитетом – привела однажды Хосе Антонио Примо де Риверу.
Хосе Антонио, молодой, очень красивый, хорошо образованный маркиз, был, как обычно, грустным и флегматичным – страстность его натуры проявлялась только на митингах.
– Я уже знаю, что вы личный секретарь Мануэля Асаньи, – сказал он тетушке.
– Да, я работаю в его канцелярии.
– Его республика затопила Испанию кровью.
– Но выплыть Испании не даете вы.
– «Вы» – это кто? Кого ты имеешь в виду? – спросил Хосе Антонио, переходя с «вы» на «ты» и тем самым признавая тетушку себе ровней.
– Я говорю о правых.
– Правые – это я?
– Ты и Муссолини.
– Муссолини спасает Италию.
– Чтобы привести ее к войне и к фашизму.
– Я слышу дона Мануэля Асанью.
– Я умею думать сама, Асанья для этого мне не нужен.
– Значит, ты считаешь меня приверженцем Муссолини?
– Я считаю тебя фашистом.
– И это плохо?
– Да, потому что вы убийцы, вы убиваете коммунистов в рабочих кварталах.
– Ты что же, превратилась в коммунистку? Ты, аристократка до мозга костей?
– Я – нет, но я хорошо понимаю рабочих.
– Ты отравлена Асаньей.
– Это лучше, чем быть отравленной тобой, как эти бедные парни, которые умирают каждый день.
– Они герои, и они бы меня оправдали.
– Не надо красивых слов.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что ты пошел в политику, чтобы продолжать дело твоего отца и чтобы спасти капитализм с помощью средств, еще более жестоких, чем у него.
– Альгадефина…
– Молчи. Твой отец поступал скверно, а ты – еще хуже. Ты знаешь, что он посылал мне цветы из Франции?
– К чему ты это говоришь?
– К тому, что я все равно не очень-то о нем думала, а о тебе не буду думать и подавно.
– Ты думаешь о революции, это ясно, но ты не знаешь, что мы, фалангисты, тоже революция, только другая – с нами Бог и Родина.
– Вы контрреволюция капитализма, как в Италии и Германии. Ты сам сказал это – спасти аристократию, «вернув все ее обычаи».
– Я вижу, ты основательно меня изучила.
– Я знаю своих врагов.
– Альгадефина.
– Что.
– Какой великий фалангист пропадает в тебе.
– Нет, я готова предать свой класс, чтобы спасти Республику. Я думаю только о Республике и о том, что с ней связано, начиная с Асаньи и кончая свободной любовью.
(Мне почудился смутный намек на меня: кровосмесительной любовью, она могла бы сказать.)
– Европейские демократии прогнили, Альгадефина. Какое прекрасное у тебя имя.
– Спасибо. Европейские фашисты работают на Круппа [114]114
Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен унд Гальбах (1870–1950) – немецкий промышленник и финансовый магнат, оказавший значительную материальную поддержку нацистскому движению.
[Закрыть], что еще хуже. Вы воюете, потому что Круппу нужна война, чтобы производить и продавать оружие.
– Это слова Асаньи.
– Ты опять за свое! Достаточно почитать иностранные газеты. Гитлер вот-вот начнет мировую войну, но принуждает его к этому окружение Круппа.
– Ты все время говоришь о Европе, а мы думаем о Испании, о нашей Испании, – мягко сказал Хосе Антонио.
Обедали в саду. Привычной июльской жары не было. Мы с Марией Эухенией сидели рядышком и внимательно слушали разговор. Высоко над сливами победно кричали сороки.
– У Испании только два пути: Республика или фашизм. Фашизм католический, Хиля-Роблеса [115]115
Хосе Мария Хиль-Роблес-и-Киньонес (1898–1980) – испанский политический деятель, юрист. Участвовал в создании Испанской конфедерации независимых правых (CEDA), очень быстро стал ее лидером. Симпатизировал фашистским режимам и увлекался антидемократической риторикой – на этом основании многие считали, что Хиль-Роблес в 1930-е г. был фашистом.
[Закрыть], или твой языческий – это уже не имеет значения.
– Я хочу видеть Испанию с гармоничной структурой власти, как бы пронизанную вертикалью.
– Не надо красивостей, Хосе Антонио. Я читала твои речи, ты, конечно, лидер, но у тебя мало идей и много лирики. Ты говоришь очень образно, но тебе не хватает четких пятилетних планов.
– Это уже советские дела.
– А почему бы и нет?
– Ты, похоже, в курсе модных веяний.
– Фашизм – тоже мода.
– Я не фашист.
– Но принимаешь деньги от Муссолини.
– Это сплетни.
– Но если ты служишь ему бесплатно, тем хуже для тебя.
– Я не ожидал встретить в этом доме такую радикальную особу.
– Уж если кто и радикальный, так это ты, ты ведь ходишь с пистолетом.
– Послушай, Альгадефина, революцию можно сравнить с ездой на велосипеде, пока крутишь педали, он едет, но стоит остановиться, он падает.
– Говоришь прямо грегериями [116]116
Грегерия – очень короткий художественный текст – одно, иногда два предложения, – одновременно афоризм и метафора. Жанр грегерий создал испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна (1888–1963).
[Закрыть], как Рамон. На самом-то деле ты против революции, и я надеюсь, что твой велосипед упадет очень скоро.
Хосе Антонио Примо де Ривера был красив, грустен, предельно корректен и лиричен. По всей видимости, проповедуемое им политическое насилие объяснялось его желанием изжить какую-то свою глубоко личную внутреннюю травму (но так это или нет, никто никогда не узнал).
– За меня вся испанская буржуазия, Альгадефина.
– А против тебя весь рабочий класс.
Тетушка Альгадефина почти не ела. Мы прошли в fumoir,как во времена дона Мартина, и закурили антильские сигареты, оставшиеся после него.
– Послушай, Хосе Антонио, – сказала Альгадефина, удобно устроившись в кресле и закурив сигарету, – ты красивый парень, в тебе есть что-то от Амадиса Гальского, как пишут в пошлых журналах, которые печатают на твои же деньги, но ты мне нравишься, и я хочу предостеречь тебя.
В fumoirнапряженно жужжали огромные шмели вентиляторов.
– Послушай, Хосе Антонио, прекрасный юноша, почти Амадис Гальский, твой враг не дон Мануэль, твой враг не буржуазная Республика, твой враг – армия, генералы в Африке, которые готовят государственный переворот. Они сделают все четко и быстро или, может случиться, медленно и жестоко, но вы, правые романтики, фалангисты, в любом случае останетесь не у дел.
– Альгадефина… – Хосе Антонио взял стакан с виски.
– Подумай о Моле [117]117
Эмилио Мола Видаль (1887–1937) – испанский военачальник, генерал. Участник Гражданской войны 1936–1939 гг.
[Закрыть]и Франко. Твоя Фаланга – это все лирика. Реальная власть у армии, и этого никак не хочет взять в толк Асанья, хотя я сто раз говорила ему об этом.
Воцарилось молчание, глубокое, долгое, и мы выпили холодное виски. Марии Эухении гость явно нравился. А у меня он вызывал отвращение. Начиналась сиеста, и я слушал речь Альгадефины как тихую убаюкивающую музыку, как приятные звуки, сливающиеся с еле слышным шелестом лета.
Мы жили как на войне, хотя война еще не пришла. Дом, наш старый дом, без прадеда, мощно заполнявшего его собою, без бабушки и дедушки, без кузины Маэны, без кузины Микаэлы, без Ино и Убальды, был словно обезлюдевший корабль, затерянный во времени и пространстве. Нам, оставшимся, не хватало ушедших, без них мы бродили по опустевшему дому, ощущая себя в нем лишними и чужими.
Коза Пенелопа мне уже надоела, как надоедает старая, давно знакомая проститутка, так что я взял нож, перерезал веревку и отпустил ее. Она радостно запрыгала, обезумев от свободы, потом засеменила прочь, и больше я ее никогда не видел. Я тоже почувствовал себя более свободным.
Потом, став взрослым, я понял, что разрыв любовных отношений (ты оставляешь женщину или она тебя – это неважно, это одно и то же) всегда несет в себе облегчение, неожиданное и радостное расширение личного пространства. Самое большое благо, которое дает любовь, – это свобода в будущем, потом, когда она кончится.
Война, я уже говорил, стояла над нами грозовой тучей, которая неизбежно должна была пролиться в июле, как летняя гроза. Я читал Аполлинера: «Вот опять наступает неистовство лета». В среду я пошел к Марии Луисе, она лежала на своей прохладной постели, раздетая и мертвая, с простреленной грудью. Хозяйка пансиона мне рассказала:
– Ночью она пришла с сеньором из «Чикоте», одетым в форму фалангиста. Меня это удивило, ведь она была красной. Потом мы уснули и ничего не слышали, и только утром я ее нашла.
– Но что могло произойти?
– Вы ведь знаете, сеньорито, что молодые фалангисты убивают людей. Я говорю это вам, потому что знаю, что вы не фалангист, сеньорита Мария Луиса мне говорила.
– И что?
– То, что фалангист пришел не время с ней провести, он пришел убить ее, и еще спасибо ему, что не залил тут все кровью, которую так трудно отмывать.
– Но почему он ее убил?
– Потому что сеньорита Мария Луиса водилась с ополченцами, это все знали, и она всем говорила, что никогда не ляжет с фашистом. Вот как он ей отплатил.
Мне захотелось снова подняться к ней и обнять ее тело, мертвое и холодное, но я подумал, что это будет слишком театрально.
– Вы что-нибудь знаете о семье Марии Луисы?
– А разве у сеньориты была семья?
– Да, вы правы, у сеньориты нет семьи. Возьмите.
И я дал ей несколько серебряных дуро, чтобы она купила цветы для Марии Луисы.
– Пусть ее похоронят достойно. Вот вам деньги на все.
– Спасибо, сеньорито.
– Не надо благодарить, ведь это не для вас, а для нее.
И я ушел навсегда из пансиона, где Ганивет подхватил сифилис.
Я уже говорил, что часть семьи, включая мою мать, уехала в зону националистов. Маме, я думаю, нравилось, что я остался в Мадриде, в родном городе, с тетушкой Альгадефиной и с Республикой. Потому что Мадрид, столица государства, перед самым началом войны был красной зоной, а почти вся остальная Испания была зоной национальной, или неуклонно становилась ею.
Сасэ Каравагио пришла однажды к нам домой, желая, наверно, возобновить наши отношения, но в моей душе уже поселилась великая любовь, тайная, нежная, инцестовая – тетушка Альгадефина.
– Вы не уезжаете из Мадрида, Сасэ?
– А почему мы должны уезжать из Мадрида?
– Но вы же галисийцы, нет?
– А при чем тут это?
– В Галисии, я думаю, не будет войны.
– Ты всегда все знаешь, Франсесильо.
– Возвращайся домой, Сасэ, и будь осторожнее с ополченцами и фалангистами.
– Не беспокойся, Франсесильо. И поцелуй меня.
И мы поцеловались, как целуются без любви – холодно и сдержанно.
Сестры Каравагио, мне кажется, и не заметили войны. Сестры Каравагио жили в мире свадеб, праздников, годовщин, танцев в «Ритце» и «Паласе», премьер и matinées,а все это никогда не прекращалось в Мадриде, даже в самые мрачные и скорбные времена.
Война для сестер Каравагио пронеслась, как летняя гроза, которая не омрачила их шумное веселье, и сколько еще таких семей было в Мадриде.
Я чувствовал себя истинным республиканцем, преданным Асанье, и был готов провести войну, если она придет, в Мадриде, где пребывало правительство. Сторож и садовник продолжают то и дело доносить на нас. Война начинается с восстания в Мелилье. Испания вспыхивает снизу, пламя лижет сначала ее босые мавританские ступни.
Тетушка Альгадефина каждое утро ходила на работу в канцелярию Асаньи, который не придавал пока большого значения восстанию в Африке. Он был большим интеллектуалом, но мало понимал в Истории, а в Истории некоторые события происходят молниеносно и надо уметь их предугадать. Тетушка Альгадефина отдыхала каждый вечер в своем шезлонге, и я читал ей Хорхе Манрике, Педро Салинаса, Гильена, Рубена, Лорку, Кеведо, фрая Луиса. Рубена, правда, читала мне она, потому что знала его наизусть, и я ревновал ее к никарагуанцу, стихи которого продолжали жить в памяти моей тетушки/любовницы.
Ночью, в темноте, я молча проскальзывал в ее кровать, и днем мы никогда не говорили об этом, а вечера проводили в разговорах о политике.
– Как мог Унамуно продаться Франко, тетушка?
(У меня словно было две женщины, ночная и дневная. Ночью я ее любил. Днем я был ей племянником. Эта таинственная двойственность очаровывала меня.)
– Унамуно и не думал продаваться. Он отдался. Продаться было бы более достойно, Франсесильо.
– Более достойно?
– Продаются великие предатели, отдаются бедные проститутки.
– Унамуно часто бывал в этом доме, и он не робел перед Примо.
– Видишь ли, по его теории, стране нужен железный диктатор.
– И он решил, что железный диктатор – это Франко?
– Конечно.
– Но почему он так решил?
– Это все его религиозность, его «христианский дух».
– Ты думаешь, тетушка?
– Унамуно был бы святым, если бы его не мучили противоречия между разумом и верой, для него главное, что Франко тесно связан с католической церковью.
– Какое убожество.
– От веры человек мельчает, Франсесильо.
– Но Унамуно…
– Это в нем всегда было.
Я жил с двумя женщинами, с мудрой тетушкой/матерью и с ночной, недоступной взору любовницей. Унамуно предпринял унизительную попытку дискуссии с Мильян-Астраем [118]118
Хосе Мильян-Астрай-и-Террерос (1879–1954) – испанский военачальник, создатель испанского Иностранного легиона. Во время Гражданской войны в Испании Мильян-Астрай воевал на стороне франкистов; к ее концу он был назначен министром прессы и пропаганды. 12 октября 1936 г. имела место ожесточённая публичная дискуссия между Мильян-Астраем и Мигелем де Унамуно, который отстаивал идеи либерализма и благоразумия.
[Закрыть]в Саламанке и больше уже не выходил из дома. Такова была цена, заплаченная Мигелем де Унамуно за свои колебания. Он сам сделал себя узником.

Хосе Мильян-Астрай-и-Террерос
– Но ведь Унамуно – сама независимость, тетушка.
– Унамуно – само сомнение. Он мужественно переносит свои сомнения, но это ничего не меняет, он состоит из них.
– И что же теперь?
– Республика мало-помалу теряет своих сторонников.
– А дон Мануэль?
– Дон Мануэль хочет предотвратить войну, ни в коем случае не допустить ее, хотя без армии сейчас не обойтись. Но дон Мануэль не понимает этого.








