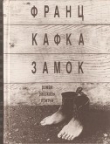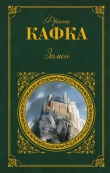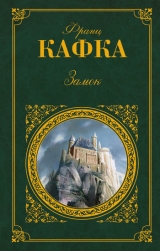
Текст книги "Замок (переводчик Рудницкий)"
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
8
В ожидании Кламма
Поначалу К. был даже рад уйти из душной, перетопленной комнаты, где в суматохе толклись служанки и помощники. На улице, кстати, подморозило, снег затвердел, идти стало легче. Правда, опять начинало смеркаться, поэтому он ускорил шаг.
Замок, чьи очертания уже стали расплываться, стоял вдали, как всегда, в полном безмолвии; ни разу еще К. не видел там ни единого признака жизни; впрочем, на таком расстоянии, наверно, и невозможно хоть что-то различить, но именно этого изо всех сил жаждали глаза, тамошние неподвижность и тишь были им что нож острый. Когда К. смотрел на замок, ему казалось, будто там, вдали, спокойно сидит некто и смотрит в пространство прямо перед собой, не то чтобы в раздумье и потому обо всем на свете позабыв, а просто так, свободно и безмятежно; словно он совершенно один и никто за ним не наблюдает; хотя ведь должен бы замечать, что за ним именно наблюдают, следят, однако его это нисколько не трогает, покой его по-прежнему нерушим – там, вдали, взгляду наблюдателя и вправду не за что было уцепиться, он как бы соскальзывал, и неясно было, незыблемый покой Замка – то ли причина тому, то ли следствие. Сегодня впечатление это еще усиливалось из-за ранних сумерек, чем пристальней смотрел К. вдаль, тем меньше он различал, тем беспросветней и глубже погружались во тьму неприступные контуры.
К. только-только подошел к не освещенному еще постоялому двору, как во втором этаже распахнулось окошко, оттуда высунулся молодой, толстый, гладко выбритый господин в меховой тужурке да так и застыл в окне, даже легким кивком не ответив на его приветствие. К. никого не застал ни в прихожей, ни в буфетной, где прогорклая пивная вонь шибала в нос еще сильнее, чем прежде, в трактире «У моста» подобного безобразия все-таки не допускали. К. прямиком направился к двери, через глазок в которой в прошлый раз подглядывал за Кламмом, осторожно надавил ручку, но дверь оказалась заперта; он попытался на ощупь отыскать место, где прежде был глазок, но крышечка, судя по всему, была пригнана к отверстию так плотно, что найти глазок вслепую не удавалось, поэтому К. чиркнул спичкой. И тут же вздрогнул от испуганного вскрика. В углу между стойкой и дверью, у самой печки, сжавшись в комочек, сидела молоденькая девушка и в зыбких бликах горящей спички, явно со сна, таращилась на К. ничего не понимающими глазами. Очевидно, это была преемница Фриды. Она, впрочем, быстро пришла в себя, включила электричество, и лицо ее ничего хорошего не сулило, но тут она узнала К.
– А-а, господин землемер, – сказала она с улыбкой, подала ему руку и представилась: – Меня Пепи зовут.
Девица оказалась низенькая, крепко сбитая, пышущая здоровьем, ее густые рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, вокруг лба и ушей все равно курчавились непокорными кудряшками; длинное, из серой блестящей материи платье, по-детски неумело стянутое внизу шелковым шнуром с бантом, явно ей не шло. Она спросила о Фриде – не надумала ли та вернуться. Вопрос был задан почти зло, с подковыркой.
– Меня, – пояснила она, – сразу после ухода Фриды срочно вызвали, ведь кого попало сюда не поставишь, прежде-то я горничной была, а теперь вот сменила место, да только вряд ли к лучшему. Больно много вечерней и ночной работы, устаешь сильно, сама не знаю, как я это выдерживаю, нет, я не удивляюсь, что Фрида ушла.
– Фрида была здесь очень довольна, – заметил К., желая поставить Пепи на место и напомнить ей, что она Фриде не чета.
– Да не верьте вы ей, – отмахнулась Пепи. – Просто Фрида умеет в руках себя держать, как мало кто. Чего она не захочет сказать, того не скажет, и по ней даже не заметишь, что есть что скрывать. Я ведь не первый год здесь, когда-то мы с ней в одной комнате спали, но доверия между нами не было, а сейчас она небось обо мне и вовсе думать забыла. У нее, наверно, только одна подруга и есть, старая хозяйка в трактире «У моста», это тоже кое о чем говорит.
– Фрида моя невеста, – сказал К., украдкой пытаясь нащупать глазок в двери.
– Я знаю, – откликнулась Пепи. – Потому и рассказываю. Иначе какой бы вам от этого прок.
– Понимаю, – протянул К. – Вы хотите сказать, что мне гордиться надо, раз я такую скрытную девушку сумел завоевать.
– Да, – радостно подтвердила Пепи и рассмеялась, как будто в отношении Фриды они с К. втайне уже о чем-то сговорились.
Однако не столько ее речи занимали К. и даже отвлекали от поисков, сколько само ее присутствие здесь, ее новоявленная принадлежность к этому месту. Конечно, она гораздо моложе Фриды, почти девчонка, и платье у нее дурацкое, не иначе в ее представлении должность буфетчицы – страшно важное отличие, вот она и вырядилась. И, должно быть, представление это по-своему верное, ведь место, на которое она заведомо не подходила, досталось ей неожиданно, незаслуженно и явно временно, – даже кожаный кошелек, который Фрида неизменно носила на поясе, ей не доверили. Видно, и ее мнимое недовольство местом тоже не более чем напускное зазнайство. И все-таки, [ когда К. увидел, как она тут, в буфетной, сидит на Фридином стуле, подле комнаты, в стенах которой когда-то, а быть может, еще и сегодня, бывал Кламм, как ее маленькие толстые ножки попирают половицы, на которых он с Фридой лежал, здесь, в «Господском подворье», этой обители господ чиновников, он вынужден был признаться себе, что, встреть он здесь на месте Фриды Пепи и заподозри он в Пепи хоть какую-то причастность к Замку – а разве не вероятно такую причастность допустить? – он бы точно так же попытался заграбастать эту ее тайну в свои объятия, как поневоле вышло у него с Фридой…] невзирая на все свое детское недомыслие, она, эта пигалица, как-то связана с Замком, служила там горничной, если, конечно, не врет; да и здесь, сама не ведая своих выгод, имеет возможность не то что быть, но вон, как сурок, спать на работе целыми днями, и, обними он сейчас это крепкое, даже со спины слегка округлое тело, ему, конечно, ничего от самих этих выгод не перепадет, однако какое-то соприкосновение с ними, а может, и ободрение на его тяжком пути вдруг да и случится. Почему с ней не может быть так же, как с Фридой? Хотя нет, не может. Достаточно только взгляд Фриды вспомнить, чтобы в этом убедиться. Нет, никогда в жизни он к Пепи не притронулся бы. И тем не менее ему пришлось на миг смежить веки, столько лютого вожделения было сейчас в его глазах.
– Свет зря жечь нельзя, – заявила Пепи и повернула выключатель. – Я зажгла только потому, что вы меня перепугали. Что вам тут понадобилось? Или Фрида забыла что-нибудь?
– Да, – отозвался К. и ткнул на дверь. – Скатерть вот здесь, в соседней комнате, белая, вязаная.
– Ах да, ее скатерть, – не удивилась Пепи, – помню, тонкая работа, я еще ей помогала, только в этой комнате она вряд ли осталась.
– Фрида сказала, что там. А кто там живет?
– Никто, – ответила Пепи. – Там господская общая гостиная, господа там выпивают и кушают, то есть считается так, вообще-то они все больше наверху в номерах своих остаются.
– Если бы наверняка знать, что там никого, я бы зашел поискал скатерку. Но в том-то и дело, что наверняка ничего не известно, вот Кламм, к примеру, часто там сидит.
– Кламма там сейчас точно нет, – возразила Пепи. – Он вот-вот уедет, сани во дворе уже поданы.
[ – Сани Кламма? – быстро переспросил К. – Должно быть, красивые, хотелось бы на них взглянуть. Говорят, на передке у них золотой орел.
– Да нет, – заметила Пепи, – это вам кто-то приврал. Обычные сани, с черной закрытой кабинкой, как все сани из Замка.]
В тот же миг, ничего не объясняя, К. вышел из буфетной и направился по прихожей, но не к выходу, а в другую сторону, в глубь дома, и через несколько шагов очутился во дворе. Как же тихо, как красиво было тут! Четырехугольник двора с трех сторон был охвачен зданием, а с четвертой, что выходила на улицу – соседнюю, которую К. не знал, – высокой белой стеной с широкими, тяжелыми, распахнутыми сейчас воротами. Здесь, со двора, здание гостиницы выглядело выше, чем с уличного фасада, по крайней мере второй этаж смотрелся стройней и как-то торжественней, а по всей длине его, повторяя очертания дома, тянулись ходы деревянной галереи, наглухо закрытой, за исключением узкой прорези на уровне глаз. Наискосок напротив К., еще в средней части здания, но ближе к углу, куда примыкало боковое крыло, был парадный подъезд, открытый, без дверей. Перед ним стоял просторный, темный, закрытый, парой лошадей запряженный возок. Кроме кучера, силуэт которого сейчас, в темноте и с отдаления, К. скорее угадывал, чем различал, возле саней никого не было. {10}
Руки в карманах, то и дело озираясь и держась поближе к стене, К. обогнул две стороны двора, покуда не оказался возле саней. Кучер – мужик вроде тех, каких К. в прошлый раз видел в буфетной, – сгорбившись в тулупе, за приближением К. к саням наблюдал совершенно безучастно, ну примерно как если бы по двору проходила кошка. И даже когда К. совсем вплотную подошел, поздоровался и лошади забеспокоились, слегка вспугнутые вынырнувшим из темноты человеком, кучер не проявил к незнакомцу ни малейшего интереса. К. только того и нужно было. Прислонившись к стене, он развернул сверток с едой, с благодарностью вспомнив о Фриде, которая так предусмотрительно о нем позаботилась, а сам как бы невзначай поглядывал внутрь дома. Оттуда, переламываясь на повороте под прямым углом, сбегала к парадному лестница, в самом низу пересекаемая невысоким, но, как думалось, очень протяженным, далеко в глубину уходящим коридором; все было чистенькое, свежей побелки, прямых и необычайно острых очертаний. {11}
Ждать, однако, пришлось дольше, чем К. рассчитывал. Он давно управился со своей едой, мороз полегоньку крепчал, сумерки сменились полной тьмой, а Кламм все не появлялся.
– Это еще долго может протянуться, – произнес чей-то сиплый голос совсем рядом и настолько неожиданно, что К. вздрогнул. Оказалось, это кучер: будто бы просыпаясь, он потянулся и громко зевнул.
– Что может протянуться долго? – спросил К., скорее обрадованный, что его оторвали от размышлений: нескончаемая тишина и напряженное ожидание начинали его угнетать.
– Ну, пока вы уйдете, – бросил кучер.
К. не понял, но переспрашивать не стал, рассчитывая, что таким образом вернее заставит обнаглевшего холопа разговориться. Ведь когда в такой темноте тебе еще и не отвечают – это почти неприкрытый вызов. Кучер и в самом деле немного погодя спросил:
– Коньяку хотите?
– Да, – не раздумывая ответил К., тем более прельщенный неожиданным предложением, что его помаленьку пробирал озноб.
– Тогда откройте кабинку, – распорядился кучер. – Там, в боковом отделении, несколько бутылок, возьмите любую, сами выпейте и мне передайте. А то мне из-за тулупа слезать тяжеловато.
К. досадно было выполнять подобные поручения, однако, раз уж он все равно теперь с кучером запанибрата, пришлось подчиниться, даже рискуя быть застигнутым в санях самим Кламмом. Он открыл широкую дверцу и мог бы сразу вытащить бутылку из кармана с внутренней стороны, но едва дверца распахнулась, его с такой неодолимой силой потянуло в темное нутро кабинки, что противиться он не смог – хоть минутку, а посидит! И он юркнул внутрь. Поразило его, что в кабинке так тепло, и тепло это не улетучивалось, несмотря на распахнутую настежь дверцу, которую К. не решался захлопнуть. Невозможно было понять, на скамейке ли ты сидишь или на чем еще, настолько утопало все тело в пледах, подушках и мехах; как ни повернись, куда ни потянись – всюду тепло и мягко. Разбросав во всю ширь руки, откинув голову на подушки, что сами угодливо ластились к затылку, К. смотрел из возка на темный дом. Ну почему Кламм так тянет с выходом? Разомлев и слегка одурев в тепле после долгого стояния на морозе, К. очень хотел, чтобы Кламм наконец вышел. Мысль, что лучше бы ему – в такой-то позе и в таком месте – вовсе не попадаться Кламму на глаза, брезжила в голове лишь отдаленно и смутно, мелкой занозой в сознании. Укрепляло его в этой беспечной забывчивости поведение кучера, уж тот-то наверняка знает, что К. залез в сани, а вот ведь не гонит его и даже коньяк подать не требует. Это с его стороны очень любезно, но и он, К., готов ему услужить; лениво, с трудом, лишь бы не менять положение тела, К. потянулся к боковому карману в дверце, но не открытой, та была слишком далеко, а к закрытой, подумаешь, невелика разница, бутылки сыскались и тут. Он достал одну, отвинтил крышечку, понюхал и невольно расплылся в улыбке: до того сладкий, до того душистый, до того вкрадчивый аромат дохнул из горлышка, словно кто-то очень дорогой и любимый хвалит тебя и говорит хорошие слова, а ты и не знаешь толком за что, да и не желаешь знать, а просто счастлив оттого, что тебе их говорят. «Неужто это коньяк такой?» – усомнился про себя К. и из любопытства отхлебнул. Да, это был коньяк, как ни удивительно: и горло обожгло, но и согрело тут же. Поразительно, как прямо во рту жидкость, только что источавшая нежнейшие ароматы, превращалась в простецкий напиток кучерской братии. «Как такое возможно?» – спросил себя К. вроде даже с каким-то недоверчивым упреком и отхлебнул снова.
Тут – только К. снова, на сей раз основательно, приложился к бутылке – вдруг стало светло, повсюду – внутри на лестнице, в коридоре, в прихожей, даже на улице над парадным – вспыхнуло электричество. Вниз по ступеням застучали дробные шаги, бутылка выпала у К. из рук, коньяк пролился на меховую полость, К. выскочил из возка и едва успел захлопнуть дверцу, произведя при этом оглушительный грохот, как из дома неспешно вышел некий господин. Утешало – а может, наоборот, достойно было сожаления – только одно: это был не Кламм. Это оказался тот самый господин, которого К., подходя сегодня к трактиру, видел в окне второго этажа. Еще относительно молодой человек, внешне вполне собой пригожий, что называется, кровь с молоком, но вида очень строгого. К. тоже старался смотреть сурово, однако относил свой неодобрительный взгляд как бы самому себе. Лучше бы, право, он помощников сюда послал – вести себя, как он, им бы больше пристало. Остановившись прямо перед ним, господин по-прежнему молчал, словно даже в его широченной груди не хватало воздуха, чтобы дать волю распиравшему его возмущению.
– Это безобразие! – рявкнул он наконец и слегка сдвинул со лба шляпу.
То есть как? Этот господин, судя по всему, даже не зная, что К. успел побывать в санях, все равно что-то считает безобразием? Неужели безобразие уже одно то, что К. осмелился прорваться во двор?
– Как вы сюда попали? – спросил господин, но уже тише, уже на выдохе, уже смиряясь с неизбежным.
Ну что тут спрашивать? И что отвечать? Неужели вот этому господину К. обязан отчитываться в том, что его путь сюда, еще с утра исполненный стольких надежд, оказался напрасным? Вместо ответа он повернулся к саням, отворил дверцу и достал из кабинки свою шапку, второпях там позабытую. При виде коньячных капель, мерно стекающих на подножку, ему стало совсем не по себе.
Потом он снова повернулся к господину, уже не боясь показать, что побывал в санях, раз это, как выясняется, отнюдь не самое страшное прегрешение, и если его спросят, – правда, только если спросят, – он не умолчит, что по меньшей мере открыть дверцу его подбил кучер. Самое же страшное было, что господин застал его врасплох: у К. не хватило времени от него укрыться, чтобы спокойно дождаться Кламма, и в санях остаться не хватило духу, захлопнуть дверцу и там, в тепле и мехах, дожидаться Кламма или по крайней мере отсидеться, пока господин, покрутившись во дворе, сам не уйдет. Правда, невозможно знать заранее – а вдруг бы тогда и сам Кламм вышел, в таком случае, конечно, куда приличнее было встретить его здесь, ожидая возле саней. Да, многое можно было обдумать и учесть заранее, а теперь-то уж что думать, когда всему конец.
– Пройдемте со мной, – распорядился господин не то чтобы приказным тоном, но приказ был не в словах, а в коротком, нарочито равнодушном мановении руки, которым он свои слова сопроводил.
– Я тут жду кое-кого, – ответил К., впрочем, без всякой надежды на успех, скорее просто так, лишь бы что-то возразить.
– Пройдемте, – повторил господин все тем же невозмутимым тоном, словно желая показать: он и не сомневался ничуть, что К. ждет кого-то.
– Но тогда я пропущу того, кого жду, – сказал К., содрогаясь всем телом. Несмотря на все случившееся, у него было чувство, что он чего-то здесь добился, что-то добыл, и хотя добыча вот-вот ускользнет из рук, отдавать ее просто так, по приказу первого встречного, он не намерен.
– Останетесь ли вы ждать или пройдете со мной, вы пропустите его в любом случае, – сказал господин прежним решительным тоном, но странным образом поддаваясь логике рассуждений К.
– Тогда я предпочел бы пропустить его, дожидаясь здесь, – уже с неприкрытой строптивостью в голосе заявил К., твердо решив, что одними словами какого-то щелкопера прогнать себя не позволит.
Услышав такое, господин надменно откинул голову и на миг прикрыл глаза, словно проделывая нелегкий мысленный путь от неразумия К. к собственному здравому рассудку, после чего, проведя кончиком языка по пухлым, чуть приоткрытым губам, бросил кучеру:
– Распрягайте!
Пришлось кучеру, тотчас повинуясь приказу господина, но злобно косясь на К., слезть-таки в своем тяжелом тулупе с козел и явно нехотя, ожидая не то чтобы от господина отмены приказа, но скорее от К., чтобы тот образумился, задом подавать лошадей и сани к боковому крылу здания, к большим воротам, за которыми, очевидно, располагались конюшня и каретная. К. увидел, что его оставляют одного: в одну сторону отползали сани, в другую, тем же путем, каким сам К. сюда добирался, уходил молодой господин; правда, и сани, и господин удалялись очень медленно, словно желая показать К., что вернуть их в любую секунду пока в его власти. {12}
Что ж, может, у него и есть эта власть, да только какой от нее прок? Вернуть сани – значит самого себя отсюда выдворить. Так он и остался стоять, в гордом одиночестве господствуя над пространством двора, только не было в этой победе никакой радости. Попеременно он провожал глазами то господина, то кучера. Господин дошел наконец до двери, через которую и К. проник на двор, там еще раз оглянулся и, как показалось К., даже головой покачал при виде столь злостного упрямства, потом каким-то особенно решительным, коротким и окончательным движением повернулся и шагнул в подъезд, тотчас пропав в его темных недрах. Кучер оставался на дворе подольше, у него было много возни с санями, пришлось открывать тяжеленные ворота конюшни, задом подавать на место сани, распрягать лошадей, разводить их по стойлам, все это кучер проделывал сосредоточенно, уйдя в какие-то свои думы и уже без всякой надежды на скорый выезд; и вот эта его молчаливая, без единого косого взгляда в сторону К. возня почему-то показалась тому куда более суровым упреком, чем укоризненное поведение господина. И когда, наконец завершив работу в конюшне, кучер своей неспешной, тяжелой, шаткой походкой пересек двор, затворил большие въездные ворота, а потом двинулся обратно, все так же медленно, буквально ни на что, кроме собственных следов в снегу, не глядя, и заперся в конюшне, после чего вдруг разом погасло все электричество, – а для кого бы еще ему светить? – и лишь вверху, на деревянных галереях, где проходила смотровая щель, змеилась тоненькая полоска света, притягивая к себе растерянно блуждающий взгляд, – тут только К. ощутил, что теперь уж с ним всякую связь оборвали окончательно, и он, хоть и волен сейчас располагать собой, как никогда, и может здесь, в этом прежде запретном для себя месте, ждать сколько душе угодно, и пусть свободу эту он завоевал, сражаясь за нее как никто, и теперь ему здесь и слова сказать не посмеют, не то что пальцем тронуть или прогнать, – однако вместе с тем он чувствовал, и убежденность в этом была по крайней мере столь же несомненна, что нет ничего бессмысленнее и безысходнее этой свободы, этого ожидания, этой его неуязвимости.
9
Борьба против допроса
И он заставил себя сдвинуться с места и направился обратно в дом, на сей раз не вдоль по стенке, а напрямик, через двор, по снегу, в прихожей столкнулся с трактирщиком, который безмолвно его поприветствовал и указал на дверь буфетной, куда К. и проследовал, потому что продрог и хотел видеть людей, но и там его ждало разочарование: за маленьким столиком, очевидно специально по такому случаю выставленным, – обычно здесь довольствовались бочками, – сидел тот самый молодой господин, а напротив него, довершая неприятную для К. картину, стояла хозяйка трактира «У моста». Пепи, гордая, с откинутой назад головкой и победной улыбкой, в непререкаемом сознании новизны и особости своего положения, при каждом движении покачивая косой, деловито сновала от стойки к столику и обратно, принесла пиво, потом чернила и перо, ибо господин, разложив перед собой бумаги, деловито сопоставлял какие-то данные, отыскивая их на разных листках то на одном, то на другом конце стола, и теперь вознамерился что-то записать. Хозяйка, чуть выпятив губы, молча и как бы отдыхая, с высоты своего роста смотрела на господина и бумаги с таким видом, будто все, что следует, она уже сообщила, и не без успеха.
– Господин землемер, наконец-то, – изрек господин при появлении К., мельком вскинув глаза и снова углубляясь в свои бумаги.
И хозяйка тоже лишь скользнула по К. ничуть не удивленным, скорее равнодушным взглядом. А Пепи и вовсе, казалось, заметила присутствие К., лишь когда он подошел к стойке и заказал рюмку коньяку.
Прислонясь к стойке, К. прикрыл ладонью глаза – ему ни до чего не было дела. Потом пригубил коньяк и тут же отставил – до того мерзкое оказалось пойло.
– А господа пьют, – только и бросила Пепи, вылила остатки, ополоснула рюмку и поставила обратно на полку.
– У господ есть коньяк и получше, – заметил К.
– Может быть, – отрезала Пепи, – у меня другого нету.
И, отделавшись таким образом от К., в услужливой готовности снова поспешила к господину, но, поскольку тому вроде бы ничего не требовалось, принялась кругами расхаживать у него за спиной, время от времени с боязливой почтительностью пытаясь через его плечо заглянуть в бумаги; на самом деле ничего, кроме праздного любопытства и важничанья, в этом ее хождении не было, так что даже хозяйка, нахмурив брови, посматривала на нее неодобрительно.
Вдруг трактирщица встрепенулась и замерла, уставившись в пустоту и вся обратившись в слух. К. обернулся, однако ничего особенного не услышал, да и остальные, похоже, ничего не заметили, однако она хоть и на цыпочках, но широким шагом поспешила к двери в глубине буфетной, откуда был выход во двор, прильнула там к замочной скважине, потом – глаза огромные, лицо раскраснелось – обернулась к остальным и поманила пальцем, после чего уже все по очереди стали смотреть в скважину, причем трактирщице, конечно, доставалось больше других, хотя и про Пепи она не забывала, и только молодой господин поглядывал изредка, стараясь сохранять относительно безучастный вид. Пепи и господин вскоре вернулись на свои места, и только трактирщица все никак не отходила: низко наклонясь, чуть ли не на коленях, она вперилась в скважину и, казалось, не столько смотрит – смотреть, судя по всему, было уже не на что, – сколько умоляет скважину пропустить ее внутрь. Когда она наконец поднялась, провела руками по лицу, поправила волосы, тяжело отдуваясь, часто моргая, словно глазам ее трудно снова привыкать и к этой комнате, и к людишкам здесь, а она вот поневоле вынуждена, – К. спросил, не столько желая утвердиться в своей догадке, сколько чтобы предотвратить новую атаку против себя, которой он почти боялся, до того уязвимым он теперь себя чувствовал:
– Что, Кламм уже уехал?
Хозяйка молча прошла мимо, не удостоив его ответом, но пухлощекий господин от своего столика изрек:
– Да, конечно. Вы же перестали там торчать, как часовой на посту, вот он наконец и уехал. Но это просто чудо какое-то, до чего он чувствительный. Вы заметили, госпожа трактирщица, как беспокойно Кламм озирался? – Та, похоже, ничего такого не заметила, однако молодой человек продолжал: – Ну, по счастью, углядеть-то он ничего не мог, кучер даже следы на снегу и те замел.
– А вот госпожа трактирщица ничего не заметила, – бросил К., не столько в намерении всерьез возразить, а просто в сердцах, раздраженный словами пухлощекого и особенно его тоном, уж больно непререкаемым и заведомо заносчивым.
– Может, я тогда как раз в скважину и не смотрела, – заметила хозяйка, первым делом беря пухлощекого под защиту, но затем, сочтя нужным и достоинство Кламма оберечь, добавила: – Впрочем, в такую уж чрезмерную чувствительность Кламма я не верю. Это мы вечно за него трясемся, пытаемся его оградить, вот нам и кажется, будто он ужас какой чувствительный. И это правильно, и наверняка такова же и воля Кламма. Но как оно на самом деле обстоит, мы не знаем. Разумеется, если Кламм с кем говорить не захочет, он и не станет ни в жизнь, сколько бы этот кто-то ни старался, как бы пронырливо к нему ни лез, однако самого этого обстоятельства – что Кламм никогда не соизволит с ним говорить, никогда не разрешит ему предстать пред свои очи – вполне достаточно, с какой стати ему еще опасаться, будто при встрече, если она в самом деле наяву произойдет, он не сможет выдержать вида этого наглеца. По крайней мере, доказать, что он не выдержит, невозможно, ведь до самого доказательства дело никогда не дойдет.
Щекастый ретиво закивал.
– В сущности, конечно, и я того же мнения, – сказал он, – а если и выразился несколько иначе, то лишь затем, чтобы господину землемеру понятнее было. Однако правда и то, что Кламм, выйдя из подъезда, несколько раз оглянулся по сторонам.
– А может, он меня искал, – заявил К.
– Может быть, – отозвался пухлощекий. – Мне это как-то в голову не приходило.
Все рассмеялись, причем Пепи, едва ли понимавшая суть, смеялась громче всех.
– Раз уж мы так весело коротаем время, – отсмеявшись, сказал господин, – я бы очень попросил вас, господин землемер, дополнить кое-какими сведениями мои документы.
– Много у вас тут писанины, – сказал К., издалека поглядывая на бумаги.
– Да, такая уж привычка дурацкая, – отозвался господин и снова усмехнулся. – Но вы, должно быть, даже не знаете, кто я такой. Я Момус, секретарь Кламма по делам общины.
После этих слов в буфетной вдруг все сделалось разом ужасно серьезно; хотя трактирщица и Пепи щекастого господина, разумеется, хорошо знали, но прозвучавшая фамилия вкупе с должностью даже их как будто поразила. И сам господин, как будто сказанное не вполне умещалось в границы его понимания или как если бы он по меньшей мере желал укрыться от неминуемого громоподобного воздействия собственных слов, опять углубился в бумаги и принялся так рьяно строчить, что в комнате только скрип пера и был слышен.
– А что это за должность: секретарь по делам общины? – спросил К. немного погодя.
Вместо Момуса, который теперь, представившись, очевидно, полагал, что ему подобные пояснения давать не подобает, ответить взялась хозяйка.
– Господин Момус – секретарь Кламма, как любой другой из кламмовских секретарей, но место его службы, а также, если не ошибаюсь, круг должностных полномочий, – тут Момус, не прерывая писанины, ретиво затряс головой, и трактирщица тотчас поправилась, – нет, только место службы, но не круг полномочий, ограничен деревней. Господин Момус ведает всей исходящей служебной документацией Кламма относительно деревни, а также первым рассматривает поступающие из деревни на имя Кламма прошения.
Заметив, что К., недостаточно потрясенный смыслом услышанного, по-прежнему смотрит на нее пустыми глазами, хозяйка, слегка смешавшись, добавила:
– Так уж заведено у нас, у каждого из господ свой секретарь по делам общины.
Момус, следивший за разговором куда внимательнее, чем К., от себя дополнил:
– Большинство секретарей по делам общины работают только на одного из господ, я же работаю на двоих, на Кламма и Валлабене.
– Да-да, – спохватилась со своей стороны трактирщица, обращаясь к К. – Господин Момус работает сразу на двух господ, на Кламма и на Валлабене, то есть он двукратный секретарь.
– Вон как, даже двукратный, – сказал К. и поощрительно кивнул Момусу, который, слегка подавшись вперед, смотрел на него во все глаза, кивнул, как кивают ребенку, которого в твоем присутствии похвалили взрослые.
Если и была тут с его стороны доля пренебрежения, то ее либо не заметили, либо, наоборот, с жадностью ждали услышать. Именно перед К., человеком, недостойным, как выяснилось, даже случайного взгляда Кламма, здесь подробно расписывали заслуги чиновника из ближайшего окружения Кламма в неприкрытом стремлении вырвать у К. в ответ слова признания и похвалы. Но, видимо, К. недоставало верного чутья; он, всеми силами добивающийся одного только взгляда Кламма, ценил должность человека, которому дозволено пред очами Кламма жить, не очень высоко, не испытывая к тому ни тени восхищения, ни капли зависти, ибо не близость Кламма сама по себе была средоточием его помыслов, а чтобы он, К., только он, и никто другой, и только со своими, а не чьими-то еще надобностями, мог к Кламму подойти, а подойдя, на этом не успокоиться, а пройти мимо Кламма дальше, вперед, в Замок.
Так что он посмотрел на часы и сказал:
– А теперь мне пора домой.
Едва он это сказал, соотношение сил мгновенно переменилось в пользу Момуса.
– Ну как же, как же, – проговорил тот. – Долг школьного смотрителя зовет. Однако одну минуточку вам все-таки придется мне уделить. Лишь несколько пустяковых вопросов.
– Да неохота мне, – бросил К. и направился было к двери.
Но Момус пристукнул папкой по столу и встал:
– Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы!
– Именем Кламма? – переспросил К. – Разве ему есть до меня дело?
– Об этом, – отвечал Момус, – судить не мне и тем более не вам; вот и предоставим это ему самому. Что же до нас с вами, то властью вверенных мне Кламмом должностных полномочий я призываю вас остаться и отвечать.
– Господин землемер, – вмешалась хозяйка. – Я теперь остерегаюсь вам советовать, все прежние мои советы, притом самые доброжелательные, какие только можно дать, встретили у вас неслыханный по бесцеремонности отпор, да и сюда, к господину секретарю, я пришла – мне скрывать нечего – только затем, чтобы, как положено, уведомить власти о вашем поведении и намерениях ваших, а еще раз и навсегда оградить свой дом от того, чтобы вас снова ко мне поселили, вот как оно сейчас между нами обстоит, и тут теперь вряд ли что переменится, и если я сейчас говорю вам свое мнение, то не для того, чтобы вам помочь, а просто чтобы хоть немного облегчить господину секретарю такое тяжелое дело, как переговоры с человеком вроде вас. Но тем не менее как раз благодаря полной моей откровенности – а иначе как откровенно, хоть и против воли, я общаться с вами не умею, – вы могли бы извлечь из моих слов кое-какой для себя прок, ежели захотели бы. Так вот, на этот случай зарубите себе на носу: единственный путь, который может привести вас к Кламму, проходит через протоколы господина секретаря. Не хочу, правда, преувеличивать, вряд ли эта дорожка до самого Кламма доведет, может, она гораздо раньше оборвется, тут все от благорасположения господина секретаря будет зависеть. Как бы там ни было, но это единственный для вас путь хотя бы по направлению к Кламму. И вот от этого пути вы хотите отвернуться, и единственно только из-за своего упрямства.