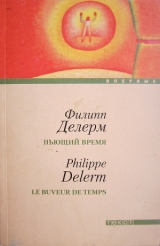
Текст книги "Пьющий время"
Автор книги: Филипп Делерм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
С тех пор мы живем здесь. Шведский дом нисколько не похож на квартиру месье Делькура. Тем не менее, когда я на него смотрю, мне кажется, что он давным-давно здесь обосновался. Он с такой радостью складывает дрова, топит печь…
А я учусь счастью. Я так долго жил в пузырьке. В один прекрасный день я покинул его ради тепла летних парижских улиц. Но здесь… Здесь я чувствую себя одновременно и внутри моего пузырька, и за его пределами. Снаружи – едва приметно взъерошенная шерстка инея, одевающая до самых тонких кончиков ветки берез; пепельная, почти туманная шерстка на берегу озера, куда я каждый день хожу один перед рассветом. Ни запахов, ни голосов; следы зверей – словно неясное послание, смысл которого остается для меня загадкой, но я угадываю в нем боль. Если долго смотреть вниз, голова начинает кружиться, снег мерцает и словно зовет меня на него прилечь, позволить себе уснуть в тайне его света. Я поднимаю глаза. Берега озера очерчивают границу такую далекую, что и мечтать уже не приходится о других местах. И все же я знаю, что в Даларне полным-полно таких же прозрачных озер. Вот что такое снаружи – этот пузырек холода, обжигающий грудь, когда я думаю обо всех тех, кто приходит помечтать на берег замерзшего озера, до боли в глазах всматриваясь все в тот же пейзаж и не зная, чего они ищут. Они никогда не встретятся друг с другом. Они вернутся внутрь.
Внутри – это красно-коричневый деревянный дом и дрожащие огоньки свечей. Элен сказала мне, что по-шведски свечи и свет обозначаются одним и тем же словом. Свечи здесь повсюду: в подсвечниках на подоконниках и на столах, в приделанных к стенам железных кольцах. Поздней осенью Клеман забил ими все шкафы. Он перекрасил деревянную обшивку стен, столы и вообще всю мебель в кораллово-красный цвет, такой горячий в живом сиянии свечей. В углу каждой комнаты высокая, до самого потолка, выкругленная изразцовая печка; можно открыть железную дверцу и смотреть, как рвется вверх узкое пламя. Острия языков пламени не видны, потому что огонь горит не для красоты, а для тепла, от этого он становится лишь сильнее и умиротворяющей лаской облизывает весь дом. В каждом окне видны озеро вдали, белая равнина, и иногда на первом плане – схваченная морозом береза с выгнутыми ветками. То, что внутри, никогда не забывает о том, что снаружи. То, что внутри, существует только ради того, что снаружи. Весь талант теплого света, коралловой мебели рожден голубизной, холодом, морозными узорами в рамках окон. Внутри полным-полно традиций, пирогов, вина, маленьких праздников. Я учусь проживать все это долгими днями, не знающими часов и отзвуков. Я смотрю на далекое озеро поверх семисвечника с зажженными свечами. Не спеша одеваюсь, толкаю темно-зеленую деревянную дверь. Выхожу из дома. Все повинуется мне.
Я так боялся этой встречи Элен с Клеманом. Но какой смысл чего-то бояться? Я понемногу усвоил, что время не желает идти, подлаживаясь под наши страхи, пристраиваться к нашим внутренним пространствам. Подмостки подвижны, и ожидаемой сцены по-настоящему не произошло. Клеман показался мне скорее задетым, чем удивленным. Он готовил праздник и дом к зиме. И вот он, похоже, оказался в ловушке и невольно чувствует себя от этого увереннее. Он смотрел на нас и долго качал головой, недоверчиво, радостно и покорно одновременно. Перед тем как броситься в его объятия, Элен произнесла ту короткую ключевую фразу:
– Помнишь этот запах?
Ответ пришел намного позже. Устроившись за кухонным столом и потягивая горячее ароматное вино, мы рассказывали о нашем путешествии. Клеман медленно повернулся к Элен:
– Ну да, запах. Мы не могли его определить. Может быть, пахло отчасти отсыревшим деревом пустовавшего зимой дома, отчасти воском, отчасти дымом свечей, который впитывали плетеные шерстяные половики. Запах не изменился. Есть и еще кое-какие мелкие признаки, словно бы доказывающие, что все это нам не приснилось. Но снаружи теперь ничем не пахнет.
И внезапно он, глядя в пустоту, проговорил охрипшим от ярости голосом:
– Все куда выше и куда совершеннее, словно огромная белая страница, на которую никогда не ляжет ни единое слово.
Вот так начались уколы фраз, царапины, которые что ни день оставлял бесконечно прерывавшийся и возобновлявшийся разговор между двумя прогулками, двумя кружками горячего вина, двумя мирными паузами в тепло освещенной усадьбе. Медленно и странно раскачивались дни: мороз, от которого перехватывало дыхание, домашний покой, то и дело растравляемая рана… Три дня спустя на берегу озера Элен произнесла более отчетливо и уверенно:
– Это не страница. Это прозрачная настойка. Знаешь, как говорят: мирабелевая настойка или грушевая, и вот он, плод, растворенный в прозрачном напитке. За тем, что остается невидимым, таится вкус. Для меня все зимы в Суннаншё – как эти настойки. Я чувствую, что за этим светом, за этой белизной что-то ярко горит, и вот-вот вспомню и скажу… Мне кажется, я скажу «малина», и это не будет обычным вкусом ягоды, который я смогу вспомнить. Это должно быть крепким, словно алкоголь, который пьянит и терзает…
– Вот он, малинник, – перебил сестру Клеман. – Снег очень ему идет, но зимой малинник стоит заиндевелый, и не все ли равно, что было раньше, что будет потом… Сохранить краски зимы, выпить зиму, быть по-настоящему вместе… Вот о чем я сейчас мечтаю.
И, поскольку мы, месье Делькур и я, стояли поодаль, он подозвал нас. Пройдя вдоль берега, мы оказались перед странной хижиной. Настил, начинавшийся как раз от заснеженного малинника, шел поверх льда и упирался в белый деревянный домик. Флорентиец толкнул дверь. Мы подумали, что это построено для детей: там оказался крохотный бассейн под открытым небом, квадратик воды с узкими дощатыми бортиками.
– Летом вода здесь почти горячая. Солнце отражается от выкрашенных белой краской стен, и можно купаться, греться на солнышке. Шведы обожают такие купальни. После шести снежных месяцев для них такое счастье вновь дождаться тепла, солнца…
– Забавно, – мягко перебил его месье Делькур. – Мне кажется, я мог бы неделю за неделей жить здесь и не мечтать о солнце.
Клеман долго смотрел на него.
– Вы правы. Не надо ничего желать, надо только смотреть. Вы меня этому и научили. Я больше никогда ничего не захочу, кроме одного – чтобы вы, все трое, оставались рядом со мной. Вот увидите, мы будем устраивать большие праздники. Скоро Санта-Лючия. Рождество придет слишком рано. Мы ничего не успеем!
В купальне облепленные снегом стены стерегли квадратик льда, и давнишние купания спали блаженным сном под слоем забвения. Но на обратном пути, когда шли по настилу, Элен, настигнутая какой-то картиной, спросила:
– А ты помнишь?
Не дав сестре двинуться дальше, Клеман неожиданно грубо схватил ее за руку и, свирепо отчеканивая каждый слог, произнес:
– Я больше не хочу слышать эти три слова!
С ним случился припадок ярости, какого со мной не случится никогда. Помню, что в эту минуту как-то странно позавидовал Клеману. Во мне было недостаточно любви, недостаточно страсти для того, чтобы вот так выйти из себя. Меня могли пронзить ледяная печаль, сверкающий осколок счастья, но пламени я не знал.
Поступок Клемана провел резкую черту. Элен перестала при нем воскрешать в памяти какие бы то ни было образы, упоминать о каких бы то ни было приметах прошлого. Трудно было удерживать равновесие, потому что в каждой комнате усадьбы, под каждой березой в парке таились для них сокровища каникул и отсветы отрочества. Брошенная лодка, на которой они когда-то уплывали по вечерам, спала, укрытая метровым слоем снега, но они узнавали ее очертания под длинным белым сугробом. Клеман затеял немыслимое: заставить на земле прошлого заиграть такой чудесный, такой новый свет, что все минувшее исчезнет без следа и без сожалений.
Элен кое-как ему подыгрывала. Она больше не писала, больше не говорила о воспоминаниях и о прошлом в присутствии Клемана. Но крепкая настойка детства так ее обожгла…
В тот раз, когда мы вместе приближались к усадьбе, месье Делькуру удалось пробудить ее любопытство. И однажды, когда Клеман ушел на долгую прогулку в одиночестве, она решилась заговорить о том, о чем думала неотступно. Месье Делькур сидел у печки на скамеечке с набитым соломой сиденьем, пристроив на коленях картину с голубым шариком. В самый тихий утренний час он с легкой улыбкой на губах, казалось, отправился в бесшумное, такое нетрудное и неспешное путешествие.
– Чем вас так приворожила эта картина? – спросила Элен, усаживаясь рядом с ним.
Очнувшись от грез, но все так же мягко, все так же туманно поглядев на нее, месье Делькур принялся неторопливо подыскивать слова:
– Чем приворожила? Для меня это, прежде всего, нежданная встреча с кем-то, кто любит шарики так же, как я. Клеман, наверное, говорил вам… У меня дома повсюду шарики – в стеклянных банках, в плетеных корзинах. Окна комнаты отражаются в них округленными, смягченными прямоугольниками. Американские шарики, дымчато-белого фарфора с разбросанными по нему рыжими песками и равнинами Ирландии, словно нежная радуга над туманом. Шарики-капельки воды, мутновато-прозрачные, как зеленое бутылочное стекло. Крупные шарики вроде этого. Взгляните: под молочной голубизной моря словно плещет волна теплой лавы. И вот эта длинная грязно-белая полоса. Это уединенная земля, где можно бродить вдоль пустых пляжей.
Никогда еще месье Делькур не говорил так много, и никогда он так не говорил. Я открыл в нем теперь надлом и силу: если он оставался по ту сторону слов, значит, делал это по собственному выбору, а не от бессилия. В тот день слова должны были родиться для Элен, и они приходили к нему без видимого усилия. Но Элен горестно улыбнулась:
– Да, я вижу вместе с вами и море, и пляж. Но эта акварель – не карта грез и не географическая карта. Тот, кто написал ее, хотел удержать в этом безупречном шаре хрупкое мгновенье счастья, детства. Дети играют в шарики, и детство уходит. Тот, кто написал эту картину, смотрел на детей. Мы с Клеманом нашли маленькую ямку в кухонном полу и играли на очки. Мы говорили, что никогда отсюда не переедем: в другом доме не будет ямки в кухонном полу. Мы играли, чтобы выигрывать. Конечно, нам очень нравились шарики, но их цвета и рисунки просто были частью нашей жизни, мы не воспринимали их отдельно. Кто-то, стоя у нас за спиной, смотрел на нас и хватался за кисти, чтобы остановить время, приручить, удержать на бумаге неуловимый круг детства. На этой картине дремлет мое круглое, совершенное детство и нежность того, кто смотрел, как оно уходит. Художник испытывал лишь мучительное наслаждение и ничего не останавливал ради себя самого. Для меня шарик существовал, чтобы жить, катиться. Сегодня я смотрю на него вместе с вами, и мне от этого больно, так больно, что от этой боли становится лучше. Я ничего не хочу забывать.
Элен встала и теперь смотрела через окно вдаль, на сковавший озеро лед. Все, что она говорила нам, воскрешало воду прежних дней, и настоящее больше не имело значения. Под коркой времени были дом, сад, тайные дорожки, по которым можно было уйти еще дальше, к другому безмолвию. Ее слова тихонько говорили об этом точно так же, как и ее упорное молчание. Сегодняшний день существовал лишь для того, чтобы раствориться, забыться, познать горькое счастье разделенной печали.
Месье Делькур и я хотели морозной зимы, отражений, зеркал, хотели оставаться здесь, ослепленные, неподвижные. Но в то утро лед показался нам серым, свет – приглушенным. Элен открыла дорогу воде. Каждая капелька времени хотела течь своим путем. Месье Делькур выглядел слабым, пришибленным. Я чувствовал себя очень одиноким: у меня не было прошлого.
В своем осеннем одиночестве Клеман-Флорентиец готовил для нас традиционные обряды декабрьских праздников. День за днем, прежде чем покинуть Суннаншё, госпожа Люндгрен рассказывала ему все, что знала, о неделях поста, предшествующих праздникам, о святой Лючии, о шведском Рождестве. Он сделал все остальное, набил шкафы несметными запасами сухофруктов, тканей и бумаги для аппликаций.
В самом начале месяца он поставил на стол в гостиной длинный деревянный подсвечник, украшенный бледными мхами. Месье Делькур хотел было зажечь четыре длинных белых свечи, но Клеман его остановил: с каждой неделей мы будем зажигать на одну свечу больше; четвертая возвестит приближение Рождества.
И праздничным все стало только вечером двенадцатого числа. Назавтра, в день святой Лючии, начнется декабрьское волшебство. Клеман хотел, чтобы мы готовились к нему все вместе, хотел превратить дом в теплый гудящий улей.
– Санта-Лючия – это праздник света. День зимнего солнцестояния. Ночь будет очень теплой, очень ласковой, если мы будем вместе, если уловим время в огоньки наших свечек.
G каким наслаждением мы предавались благоухающим кухонным хлопотам! Мучительное напряжение предыдущих дней спало. После нескольких неуклюжих попыток сравняться с Клеманом – тот, должно быть, наловчился, пока жил осенью вдвоем с госпожой Люндгрен, – мы принялись дружно лепить плюшки с изюмом и шафраном, потом варить горячее вино Санта-Лючии. В душистом облаке сушеных апельсинов, гвоздики, корицы, кардамона все становилось таким простым и легким. Затем Клеман разложил перед нами на кухонном столе щепочки, лоскутки, вату, шерстяные нитки. И вскоре под нашими неопытными руками уже рождались фигурки святой Лючии. Из клочка сухого мха месье Делькур сделал для нее малюсенькую корону, я, как мог, приклеил к этой короне свечки из позолоченной бумаги. Клеман объяснил мне, что главным героем праздника будет Тарнор, маленький трубочист, символ счастья.
– Я свяжу для него шапочку из красной шерсти! – воскликнула Элен.
Не прошло и четверти часа, как она нахлобучила на круглую гладкую деревянную головку восхитительный колпачок высотой в несколько сантиметров. Смех, аромат не имевших никакого значения слов, сказанных лишь затем, чтобы сделать приятное. Какой чудесный пузырек настоящего затаился в синей зиме Суннаншё!
Назавтра Элен, закутанная в белую простыню, с короной из горящих свечей на голове, с пяти часов принялась комната за комнатой обходить усадьбу, исполняя обряд святой Лючии. Торжественное выражение продержалось на ее лице недолго, и вскоре мы дружно заливались смехом. Да нет, у нас не было ни малейшего желания высмеивать все эти обычаи. Теперь, когда я вспоминаю тот день, мне кажется, что смех наш рождался от непрочности удовольствия, внезапно превратившего нас в сообщников. Мы уже боялись того, что будет потом, и эта тень заставляла еще ярче сиять шальной декабрьский свет.
До самого рождественского вечера жизнь продолжала искриться. Мы плели сердечки из соломы, втыкали гвоздички в сушеные апельсины, вырезали из нарядной цветной бумаги Вифлеемскую звезду, украшали стены веточками вереска, ели, букса и остролиста. Красно-белые скатерти и ленты, ярко горящие свечи, блеск в глазах Элен и Клемана превратили этот долгожданный вечер в сияющий луч, и я храню его след. Наевшись рождественских шаров с тертым кокосом и марципановых сердечек, мы в полночь выпили аквавита: блаженный ожог, крепчайшая настойка этого мгновения, прозрачность.
Что останется нам от всего этого после полуночи? Мы точно знаем: дни начнут неприметно удлиняться и неподвижная зима окажется под угрозой. Конечно, лед продержится еще несколько долгих месяцев… Но Клеман, внезапно отставив свой стакан с аквавитом, переменился в лице. После двух недель безоблачной радости мало-помалу вернется подавленное молчание. Праздником были лишь эти две недели в стране предвкушения, магия приготовлений, ожидания. Все вот-вот начнет заканчиваться. Мы ничего не приручили.
Когда Рождество засыпал снег, когда сияние недолгого единения померкло, Клеман бесповоротно отдалился от нас и от самого себя. Ему сделалось невыносимым не только присутствие Элен, но даже и то, что она усилием воли запрещала себе говорить о прошлом. Месье Делькур утратил свойственную ему безмятежную мудрость созерцания. Вместо того чтобы нырять в глубины стеклянного шара или калейдоскопа, он теперь подолгу сидел с невидящим взглядом, словно всматривался в себя. Если мимо проходила Элен, он, краснея, бормотал бессвязные слова, потом принимался за какую-нибудь непонятную и бессмысленную домашнюю работу. Что до меня, я теперь ничем не мог помочь Клеману. Когда мы делили Пале-Рояль, у меня была некая власть. Но зиму Суннаншё мы уже не делили друг с другом. Месье Делькур тихонько покинул нашу планету. Клеман надолго уходил гулять в одиночестве в поисках другого края, который не был моим. А Элен…
Рядом с ней я чувствовал мучительную растерянность. В конце каждой грезы и каждой дороги, в тайне каждого шарика и каждого отсвета, она написала самое жестокое для меня слово. Детство. У меня не было этого утраченного королевства. Но я знал, какую боль оно причиняет Флорентийцу. Я видел, как месье Делькура, так терпеливо сковывавшего время, пронзил этот ослепительный свет. Сам я, лишенный прошлого, словно рану ощущал отсутствие этой связи – я не мог прикрепиться к земным временам года, не мог помешать себе воспринимать все крупнее, сильнее.
В конце января, когда Клеман оставил нас одних, Элен, сев у печки, снова начала писать.
Клеман исчез. Вскоре после полудня он ушел со свертком под мышкой, и никто не осмелился спросить, зачем ему этот сверток, куда он его несет. Элен долго, много часов подряд, писала при свечах. Мы с месье Делькуром вышли прогуляться на берег озера, но пронизывающий ветер заставил нас сразу за купальней повернуть назад. Вскоре солнце закатилось. Едва зародившееся беспокойство превратилось в мучительную тревогу, потом в уверенность. К вечеру мороз окреп до минус тридцати, дул северный ветер, мела метель, насыпая над малейшим препятствием непроходимые сугробы. Почему Клеман ушел на ту сторону? Конечно, вчера вечером, когда он вернулся в усадьбу, Элен не успела вовремя спрятать рукопись, и их взгляды встретились. Но ведь он молча обо всем догадался задолго до вчерашнего вечера, и ничьи взгляды ничего спасти не могли.
К ночи разбушевалась вьюга, отрезав усадьбу от деревни. Впрочем, это уже ничего не меняло. Нам, всем троим, пришлось сидеть у печки и ждать, надрывая сердце. Потом, когда к пяти утра ветер понемногу стих, мы смогли выйти, прихватив факелы. Каждый выбрал себе путь. Элен углубилась в лес в поисках хижины, которую они когда-то построили. Месье Делькур двигался вдоль опушки.
Я пошел по льду через озеро, поминутно оскальзываясь, падая, снова поднимаясь и продолжая идти – безнадежно, медленно и неуклюже. Огромная тяжесть тянула мое сердце вниз, ноги прирастали к беспросветно серому льду. И все же я знал, что я прав. Прошло уже много часов, теперь слишком поздно. Островок давным-давно остался позади, рассвета ждать недолго. Неровный лед непривычно сильно вибрировал под ногами. Другой берег, противоположный нашему, где стояла усадьба, казался черным и таким далеким. После ночной бури было очень тихо. Сверхъестественная сила помогала мне держаться на ногах, меня трясла лихорадка. Мне слышалась понемногу нараставшая медленная и торжественная мелодия, музыка Вагнера, рожденная тишиной и шедшая за мной издалека, от самого Монмартра…
Вот он, лежит на льду, в последний раз красиво подобрав под себя ноги в сапогах из мягкой кожи. Для этого представления на краю пропасти он снова надел свой огромный плащ и теперь покоится в красных отсветах бархата на мерзлой земле. Его руки, широко раскинутые в безупречном жесте, пляской рваных лоскутьев продолжают пантомиму смерти. Гранатовый принц, беспечно отданный серому Северу, окутанный плащом роскоши и безмолвия. Я смотрел на него, и время причиняло такую боль. Далеко за пределами холода, слов, жестов и ожидания Клеман-Флорентиец прикоснулся к тайне. Пустые глазницы синей маски засыпал снег.
Мягкий снег падает на Пале-Рояль; мокрый снег, за которым мельтешит бал конца зимы, тает, едва коснувшись земли. Это карнавал: мимо скользят маски, венецианские костюмы. Бледные Пьеро в бирюзовых, шафрановых, зеленых шелках, шуты в огромных колпаках с непомерно длинными рогами, окружающими белые маски словно бы лепестками цветов. Они подходили по одному, поначалу робко, печальными птицами в мертвом саду. Прикрытые дымкой, они медленно кружили, понемногу приближаясь торжественным шагом. Постепенно под аркадами заметался смех, поднялась шальная беготня. Некоторые сдвигали маски на лоб, чтобы обежать вокруг бассейна, на бегу захватывая пригоршни тающего снега и торопливо глотая, пока его не впитала земля у подножия черных деревьев. Возбуждение казалось притворным, жесты – дергаными. Было похоже на плохой сон: заляпанные грязью костюмы, угрюмые маски, прикрытые смехом. Карнавал грязной зимы искал забвения во лжи и праздновал отчаяние.
Мы с месье Делькуром медленно шли вдоль Орлеанской галереи. Трубочный магазин никуда не делся, и беарнские пехотинцы смирно ждут, чтобы их раскрасили. Но что толку от этой иллюзии постоянства? Ничего не осталось от счастья-печали, которым были переполнены наши сердца в конце лета. Вот уже месяц как Клеман спит под квадратом дерна в Шенавале, на берегу Уазы. Элен уложила его в землю памяти, и мы проводили Флорентийца неловким и безмолвным обрядом. Когда она закончит свою книгу… Но можно ли когда-нибудь дописать книгу детства?
Пробегающие дети бросают в нас серпантин и конфетти. Беспокойный праздник разгорается к концу дня. Мы хотели пройти через стену; в глубине стеклянного шара снег оказался теплым, а пейзаж неожиданно бесцветным. Неслышными шагами мы покидаем аркады, сады, в последний раз вместе, и на сердце у нас тяжело.
Месье Делькур, пьющий время, мой брат во взгляде, время не выпьешь, и я покинул мир, куда вы меня привели. Вы безропотно вернулись на протоптанную дорожку, ходите на работу, потекли серые будни. Вам больно смотреть на шарики, стеклянные сферы больше ничего для вас не значат, вы быстрее шагаете по прямым улицам. Надо ощущать себя занятым, серьезным, спешащим – только тогда здесь, на земле, горе проходит, чуть притупляется. Когда-нибудь вы увидите в витринах книжных лавок книги Элен, и это станет последним октаскопом…
Вернувшись в русло времени, вы оставили меня одного, и я страдал, словно бы наперекор вам, от времени, которого мне недоставало, чтобы чувствовать себя несчастным из-за нашей чудесной истории. Для того чтобы ближе стали времена года и краски, для того, чтобы участвовать в представлении, нужны смерть и настойка детства, вот я и ушел.
В прозрачности можно укрыться; я больше никогда не выйду за стенки пузырька. Замерший в неподвижности на своей планете, я храню несколько крупиц чистого времени, словно звездную пыль: тот июльский вечер на набережных, парусники на воде, шведское Рождество. Спасибо за холод, и за тепло, и за боль, которую причиняют некоторые преследующие меня слова: время года, путешествие, чужие края, друг… Спасибо за все, что есть хорошего и плохого в том, что я чувствую, как вы далеко… И что поделаешь, если я иной раз готов отдать вечность за тарелку солонинки с чечевицей у Шартье.
Да, это я здесь, в прозрачном шарике, на глянцевой поверхности бумаги. Первое утро мира давно уже настало. Только ничего не трогайте, не меняйте. Вы поглаживаете книгу и сейчас ее закроете.








