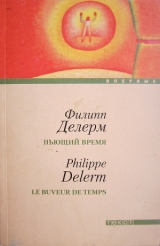
Текст книги "Пьющий время"
Автор книги: Филипп Делерм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Все эти причудливые лавочки, из века в век теснившиеся здесь, образуя город в городе, пробуждали в нас спокойное ликование. Мы так и видели себя каждый в своем магазинчике. Я бы торговал трубками и способностью затворять время в дыме. Месье Делькур, конечно же, стал бы продавать марки и обладал бы странами, не двигаясь с места, лишь придвигая глаз к круглой лупе. Чуть подальше Флорентиец работал бы на «Комеди Франсэз», приручал бы шелка костюмов для сочиненного им представления.
Но мы не созданы были для того, чтобы осесть, пустить корни; мы не хотели существовать в определенной атмосфере, мы хотели тихонько впитывать одну за другой. Пройдя под всеми аркадами Пале-Рояля, мы продолжали нанизывать картинки у круглого водоема. Мы усаживались на железные стулья, оставаясь параллельными друг другу. Каждый вглядывался в собственный мир, но где-то там, в летнем небе, линии наших взглядов должны были пересечься. Я удивлялся, услышав, как вздыхает месье Делькур – уж ему-то нашей спокойной дружбы должно быть достаточно. Под элегантной непринужденностью движений Флорентийца с каждым днем все заметнее проступала его глубокая рана, боль медленно захватывала и нас, саднило в груди, и, когда горе становилось невыносимо тяжким, приходили слова:
– Ах, если бы только Элен знала вас!
Мы с месье Делькуром переглядывались, ничего не понимая, пожимали плечами.
– Ну конечно! Вам не понять. Если бы Элен знала вас, если бы она разделила с нами Пале-Рояль, вот теперь, когда вы меня этому научили… Она перестала бы мучить себя словами, от которых никакого толка. Она оставалась бы на поверхности, вот так, попросту; с вами это становится возможным.
Научить. Мы улыбались, услышав это слово, странным эхом отзывавшееся в нашем уснувшем сознании. Месье Делькур никогда не преподавал, никогда никого не сковывал даже легчайшим чувством, малейшим намеком на нравоучения. Единственным, чего он требовал, была свобода предаваться созерцанию на свой лад и ни перед кем не отчитываться. Благодаря этой его непритязательной легкости я и появился на свет, потому что я был всего лишь взглядом. Совершенно очевидно, что мое пребывание на земле ничего от других не требовало и ничего от них не ожидало. И все же в этом городе, где каждый из жителей, казалось, находил смысл в своей судьбе – такое впечатление оставляло у меня стремление парижан ей покориться, – Флорентиец приписывал нам способность обучать.
Правда, урок оставался совершенно особенным. Разделить Пале-Рояль. Удивительная программа, которую сами мы не смогли бы так четко сформулировать. Таким образом, Флорентиец облек нас некой миссией. Конечно, это нам отчасти льстило, открывало нам глаза на самих себя. И в то же время нам это причиняло боль. Месье Делькур отгородился от жизни города; день за днем, погружаясь в океан шариков, в россыпи стеклышек калейдоскопов, в неподвижную метель стеклянных сфер, он укрывался в картинках, держась подальше от слов. Наслаждение и одиночество, печаль, мираж – он не делал различий, лишь менял отсветы, плавно поведя рукой или перемигнув. Это был все тот же мир, который продлился во встрече со мной. Но я, благодаря новой мысли о возможности соучаствовать, невольно внес туда некоторое оживление, ощущение праздника. А вот теперь Флорентиец дал название этой призрачной власти, открыл в ней урок. Чистые впечатления одиночества и тишины, когда им терпеливо дали отстояться и проясниться, превратились в убежище для забвения.
Всего лишь в убежище. Флорентиец рядом с нами забывал, но глубокая рана его не заживала. И теперь мы делили его боль, как делили Шартье или Пале-Рояль. За бесконечными прозрачными слоями месье Делькур различал нестерпимый образ прошлого. Что же касается меня, все, чего мне недоставало, неотступными волнами вскипало вокруг пузырьков, в которых я, как мне казалось, укрывался.
Последние чудесные деньки в Париже, которыми мы насладились. Свет был волшебным, и удовольствие обретало непрочную весомость счастья, понемногу наполняясь печалью. Забираясь в самую середину скверов, бредя вдоль набережных, мы думали об Элен – должно быть, каждый на свой лад, но с одинаковой печалью в глубине глаз. В последний день в Тюильри месье Делькур растерзал нам сердце стихотворением, которое знал наизусть и которое вдруг ему вспомнилось:
Я догоню тебя, Элен,
Несясь через луга,
И через свет морозных зорь…
Звенели детские голоса, темно-зеленая крыша карусели растворялась в синеве. Тихонько всплывали слова, моя память их сохранила; мне больно от этих слов, и все же я хочу когда-нибудь куда-нибудь унести их с собой в пузырьке:
Я тебя звал, но не знал
Где тебя можно найти
Слышалась поступь твоя
В шуме листвы на пути
Волны ваяли твой лик
К берегу прянув гурьбой
Ты была тихий ночлег
У деревеньки любой.
Маяться, толком не зная из-за чего. Мечтать о других красках, других картинах. Уехать. Словно невидимая заноза ныла где-то под кожей, словно Флорентиец влил в нас сладкую отраву. Красота Парижа в эти последние дни лета обретала смысл: надо было двигаться в какую-то другую сторону, строить миражи вдали. Отложив стеклянный шар, Флорентиец сказал нам:
– На земле есть места не менее совершенные, чем этот шар, такие же синие, такие же белые, такие же сияющие и пушистые. Я знаю страну, где вся зима так же прозрачна и могла бы кружиться у нас в руках.
Мы не задавали ему вопросов, но с тех пор эта зимняя страна все чаще всплывала в речах Флорентийца, с каждым разом делаясь все менее отвлеченной, все менее окутанной тайной, и, наконец, он нам признался:
– На самом деле я бывал там только летом. Мы собирали смородину и малину, но вода в озере оставалась ледяной. Хозяйка, госпожа Люндгрен, занимала только центральную часть усадьбы Суннаншё. В одном крыле, стоявшем к дому под прямым углом, были какие-то заброшенные службы, в другом жили мы. Десять лет… Мне кажется, что сегодня. Мы с Элен садимся в лодку и плывем к острову посреди озера.
– Зачем вы так себя мучаете? – перебил его месье Делькур. – Мне казалось…
– Знаю, – ответил Флорентиец. – Но, вопреки моему желанию, при всем вашем таланте, я ничего не могу по-настоящему стереть. И мне иногда снится Суннаншё, я мечтаю о нем… Мы всегда говорили о том, какая там зима. Это время года казалось почти недоступным. Поздней осенью госпожа Люндгрен возвращалась в Стокгольм. И полгода усадьба стояла пустая, обледенелая, засыпанная снегом, и ночи были такими долгими…
– Это очень далеко на севере?
– Да. Хотя, собственно… север там начинается от самого Стокгольма. Это в Далекарлии. Только шведское название гораздо красивее: Даларна.
Даларна… Можно грезить, плывя по течению слова, точно так же, как уплываешь в картинки октаскопа. И это слово сразу же тронуло нас своей янтарной мягкостью, своей текучей голубизной. Оно было куда лучше пузырька – три медленно проливающихся слога, словно река с приглушенным блеском, с туманными излучинами. Элен… Даларна… Я снова и снова повторял эти два слова, изумляясь тому, как нарастает упоительное головокружение, столь желанная боль. Флорентийцу хотелось провести там зиму. Для него это означало и перестать отрекаться от прошлого, которое помимо его воли овладевало им, и придать ему иной смысл, растворив прежние краски в отвлеченном сиянии шведской зимы.
Но нам-то какое место отводилось в этих грезах, нам, с нашими неповоротливыми телами, призывавшими нас к безмолвию и неподвижности? Нам казалось, будто прирученные картинки сомкнулись вокруг нас. Но дремота надежды притворна: однажды вечером на Монмартре появился Флорентиец, и мы взглянули на него. Нет ничего случайного. Клеману-Флорентийцу не стоило большого труда нас уговорить:
– Я уверен, все, что вы ищете, похоже на долгую зиму Суннаншё. Белизна снега, синева льда и дом, словно теплая точка в абстрактном пространстве. Месье Делькур оказался бы в центре стеклянного шара, внутри водяной капельки. А вы, – у меня все еще не было имени, и я начинал болезненно ощущать это отличие, когда ко мне обращались с совершенно излишней отстраненной вежливостью, – вы вновь обрели бы пространство картины, но благоухающее, у него был бы запах дома, и обжигающий морозный воздух, и краски, такие непохожие на ваши песчаные пустыни. Вы в каком-то смысле с экватора, из теплого центра, вам недостает севера, и вы прекрасно это понимаете… А я именно на севере смог бы наконец соединить забвение и память.
После этого они заговорили о таких вещах, в которых я ничего не понимал: сбережения, планы, поездки… Месье Делькур без тени сомнения готов был покинуть ту часть своей жизни, которую он называл конторойили работой ради куска хлеба. Флорентиец ошеломил его, рассказав, какую прибыль принесли его театральные представления. Между ними оставалось одно-единственное разногласие: Флорентийцу хотелось как можно скорее добраться до усадьбы Суннаншё, пока госпожа Люндгрен не уехала оттуда в Стокгольм. Месье Делькур хотел немного потянуть время, ссылался на материальные причины, требовавшие отложить наш отъезд на месяц или два, говорил, что надо предупредить хозяйку заранее…
– Таким образом, мы приедем туда зимой. Ведь вы так и хотели, по-моему?
– Да, может быть, так будет лучше. Я смогу приготовить дом к вашему приезду. Ждать и готовиться тоже очень важно. И потом, я уже не боюсь одиночества. Только обещайте мне…
Ясным сентябрьским днем, на Северном вокзале, он с нами расстался, бросив в самую последнюю минуту через вагонную дверцу слишком серьезную фразу:
– Мне кажется, я умру, если вы не приедете.
Вспоминая о том времени, я смотрю на все по-другому. То, что произошло потом, смело распределенные роли, перемешало возможности. Флорентиец вроде бы вел нас к цели, а месье Делькур, казалось, так кротко повиновался. Тем не менее именно он предчувствовал смысл этого путешествия и втайне руководил им. Знал ли он сам об этом? Он не был создан для того, чтобы знать; он созерцал медленное кружение в отсветах калейдоскопа и никогда не давал имен тому, что сам порождал в этом текучем мире, где осколки света таяли, творя другой свет. Впервые за все время своего пребывания на земле он отправлялся в путешествие. По крайней мере, так он, загадочно улыбаясь, сказал мне, но обмануть меня ему не удалось. На самом деле он знал все страны, их образы и краски. В фарфоровых шариках заключены моря и леса, их можно выбирать под настроение, под цвет охватившей тебя печали или потребности в надежде. Месье Делькур повелевал погодой. Кроме того, он хотел путешествовать на свой лад, никому не подчиняясь. Его соблазняла мысль о севере, но, прежде чем окунуться в синеву и белизну шведской зимы, он хотел обойти другие вешки, воскресить иные внутренние образы. Флорентиец казался ему слишком темпераментным спутником, а вот я…
Я безмолвно последовал за ним. Тихий и ошеломленный, я садился следом за ним в автобусы, в поезда, в грузовики, если мы ехали автостопом, а однажды в Голландии даже плыли на барже. За мутноватыми стеклами навстречу мне скользили пейзажи, снова и снова появляясь и не пропадая. Прижавшись лицом к стеклу и глядя вниз, себе под ноги, я видел, как бешено, неудержимо, с головокружительной скоростью проносится дорожная щебенка или камешки между рельсами. Я снова поднимал глаза: мирный, едва приметно плывущий за окном пейзаж сглаживал резкую силу стремительного бега, и я чувствовал себя восхитительно невесомым пассажиром нескольких планет, движущихся вразнобой.
Прямолинейные улицы Парижа уступили место пространству до того бескрайнему, что оно казалось мне почти родным. Но краски день ото дня менялись. Здесь уже не было ни темной зелени скверов, ни вечерней синевы Тюильри. Золото, янтарь и ржавчина играли на тускло-коричневой земле равнины, забираясь и в самую глубь городов и деревень.
Иногда месье Делькур в самый разгар дня предлагал мне сойти на какой-нибудь крохотной и безлюдной станции. Я тщетно стараюсь припомнить названия. В памяти у меня сохранился лишь переменчивый свет, дыхание осени. Мы углублялись в леса, сначала к северу от Парижа, потом на севере Франции. Осень. Небо все еще синело, но деревья с каждым днем одевались во все более притягательные, теплые, мягкие тона; теперь, когда мы готовы были ступить на дороги, уводящие в иные края, жизнь стала здесь прекрасной как никогда раньше. Осень; я понемногу постиг пронзительное совершенство мира, который завершается, удаляется, делая вид, будто приближается к нам, словно просвет в конце лесной тропы. Месье Делькур искал забвения в осенних запахах, красках фруктовых садов, он предпочел путешествовать во времени и пространстве, чтобы расстояние придало большую ценность планам шведской зимы. А у меня все смешалось: Элен, Даларна, путешествие, осень… Но я двигался, все вокруг менялось, одна деревня походила на другую, но то, что исчезало навеки, больше не возвращалось. У меня было чудесное ощущение: я оказался в центре изображения в октаскопе, потому что все было светящимся, явственным, умножавшимся до бесконечности, и в то же время чудилось, будто все меркнет и заканчивается.
Так вот, была осень лесов, осень дождя. Мы с непокрытыми головами шли по северной равнине, потом вдоль берега моря, по серому песку пляжей, где так легко было поддаться печали. В октябре они зябнут, всеми покинутые, зонтики сложены, краска на деревянных кабинках облупилась, на стенах опустевших гостиниц проступают ржавые пятна. Что за наслаждение – пропитываться дождем и тишиной, идя медленным-медленным шагом, до самого конца глухого времени года.
Месье Делькур вовлек нас в логику похожего на нас самих странствия: приобщающий круг с границами шара или пузырька. Сначала он повез меня в Голландию, где люди передвигались с места на места легко, в воздушном стрекоте велосипедов. По вечерам у них горели все лампы, сияла медь теплого уюта, открытого взглядам прохожих, утоляющих жажду золотым свечением. Мы двигались вдоль каналов, ни в одной деревушке не задерживаясь дольше чем на день. Время шло… Город ждал нас где-то далеко, за всеми этими картинками, на самом донышке осени. Город, а может быть, и больше, пространство-мираж, город-предчувствие. Месье Делькур сказал мне только одно:
– Там север севера укрыт в центре дождей.
В центре, в самой глубине того круга, который начертил месье Делькур на плоской осенней стране. Я ничего не понимал ни в границах, ни в странах. Но и там, как в первый вечер в Париже, я ощутил недвижную ласку мгновения, только упивался ею еще больше, с тем оттенком серьезности в наслаждении, который смутно рождало во мне ощущение времени. От всех этих долгих исканий у меня в памяти осталось одно-единственное имя, которое сегодня для меня что-то означает. Я собрал в него все серые волны Северного моря, все туманы над равниной, весь янтарь осенних лесов. Брюгге. Мы шли по Брюгге холодным утром начала ноября.
Это был придуманный для нас город на полпути между небом и землей. Не было ни встречи, ни враждебного столкновения; на тихих мощеных улицах прохожие проплывали мимо неспящими сомнамбулами; каждый двигался по колее своей грезы, словно в погоне за тенью, словно преследуя тайный образ. На главной площади громыхали повозки, но дымка в воздухе удерживала нас на морском дне, перезвон башенных часов опускался, словно идущая вглубь волна. Мы переходили через мосты над каналами; лебеди медленно скользили по воде среди узких желтых листьев.
За воротами открывался сад, тишина в нем казалась такой торжественной и желанной… Мы вошли. Маленькие белые домики аккуратным рядком выстроились вокруг просторной лужайки, поросшей деревьями, подернутой клочьями растрепанного тумана, усыпанной опавшими листьями. Мы долго ходили по ней, испытывая удивительное счастье, неясное ощущение покоя, легко добытой истины, и ноги у нас озябли. Время от времени открывалась какая-нибудь дверь, и кто-то проскальзывал мимо нас по дорожке: невесомый черно-белый силуэт проплывал над землей и пропадал. И долго после его исчезновения казалось, будто ветерок колышет покрывало. Монастырь бегинок. Месье Делькур назвал мне чересчур непринужденное имя этого огороженного небесного участка, где расцветал талант садовника, этой с улыбкой распахнутой двери, за которой царит строгая кротость.
После отъезда Флорентийца мы вновь погрузились в безмолвие. Мы впитали золотую и серую тишину монастыря бегинок и всех мощеных улиц, холодный туман, который так медленно рассеивался. Мы шли наугад, но где-то в этом напоенном влагой воздухе таилась сила, которая нас вела. Очень быстро стемнело, вечер застал нас на главной площади, у витрины книжной лавки. Выставленные в ней гравюры Антона Пика воскрешали в памяти суету на зимних улицах Брюгге и Голландии, с развевающимися шарфами, раскрасневшимися, насмешливыми, сияющими лицами. Но, обернувшись, мы только и увидели, что почти пустую городскую площадь; последняя повозка, крытая черной кожей, свернула за угол и растворилась в темноте.
Мы снова тронулись в путь. Повсюду, куда ни глянь, в переулках загорались окна кафе, таких укромных и уютных, что мы не решались войти, несмотря на внушающие доверие вывески: «Кафе-кондитерская», «Бочковое пиво». Наконец месье Делькур решился войти в кафе, у которого на стене был вывешен перечень блюд. Набравшись смелости, он толкнул дверь и тотчас раскаялся в дерзком поступке. Ни за одним из четырех столов темного дерева, слабо освещенных лампами под оранжевыми абажурами, никто не сидел. В камине, потрескивая, горел прирученный огонь.
– Добрый вечер, господа!
Голос звучал приветливо, но от неожиданности мы вздрогнули. Немолодая дама в кардигане из серой ангорской шерсти ничем не напоминала официантку. Выслушав без насмешки наш неуклюжий лепет, она усадила нас поближе к камину, приняла заказ и удалилась, оставив нас одних в зале-корабле. Выступающие балки, дымчатые расписанные стекла, изразцовая печка, свернувшаяся у огня кошка, кружевные салфетки; нам было неловко, мы чувствовали себя виновными в том, что, не приложив усилий, проникли в этот доступный уют. Но вскоре нам принесли два высоких пузатых стакана с белыми буквами: «Аббатство Доброй Надежды – Гёз Ламбик [2]2
Сорт бельгийского пива.
[Закрыть]». Прежде чем глотнуть темного пива, следовало распробовать цвет названия, отраженного в стекле, и эта утонченность отражения тон в тон преисполнила нас блаженством. На деревянном столе темно-красное пиво в стакане казалось матовым. Когда я поднес его поближе к огню, в нем заплясали светлые блики. В Брюгге, в ласковом одиночестве, я тянул горько-сладкое пламя вишневого пива со смолистым и фруктовым привкусом, сидя так близко от серых туманов, в глубине нашей осени.
Сколько времени просидели мы так в сладостной дремоте? Сколько времени, поскольку время теперь завладело мной, и, даже погрузившись в терпкий и сладкий поток пива, я не мог заставить себя не думать о том, что будет после, о том, что гнало нас из кафе, влекло к другой картинке, маячащей чуть подальше? Я теперь не чувствовал себя в стране без начала и конца, как в первые наши июльские вечера. Месье Делькур, мой брат в неспешности, вы превратили нас в путешественников, мимолетных гостей Брюгге, где туман так хорошо умеет расплываться по терпкой рыжине пива, смягчая ее. Мы могли бы и здесь, как везде, укрыться в спокойном волшебстве замерших картинок. Но нам надо было выйти в ноябрьскую ночь, и уже не мы решали, куда нам направиться. Наши шаги сами должны были привести нас, минуя водяные круги, к этой озаренной витрине в темном переулке между двух мостов.
«Ван де Конинк – Салон искусств – Временные выставки». Городские пейзажи, исполненные неуклюжего символизма, с чересчур яркими красками, поначалу превратили нас в самоуверенных зевак, переглядывающихся насмешливо и понимающе. Но вон те две симметрично висящие рамки с наклеенными лаконичными этикетками… Акварель. «Галактика». «Голубой шарик».
Наши улыбки пропали. Там, за стеклом, по ту сторону преграды, по ту сторону прозрачных отсветов Брюгге, были шарики. Черная галактика, через которую струились жаркие пески, голубоватый шар с серыми прожилками, внезапно прихлынуло нестерпимое переживание чьего-то детства, но почему здесь? Нам не нужны были слова. Месье Делькур внезапно так просветлел, так опечалился. Две акварели – и округлая полнота мира, заключенная в самом тайном из водяных кругов.
Странный дом-недомерок с темной деревянной обшивкой, напоминающей киль, нависает над каналом. За бутылочно-зелеными стеклышками в толстых свинцовых переплетах ничего не разглядеть. А вокруг – целый замкнутый мир: безлюдный осенний сквер с маленьким греческим храмом, суровая ограда музея, каменная арка круто выгнутого моста. Наверное, самый тихий уголок в этом городе, которому ведомы все оттенки тишины. Здесь неподвижность достигла совершенства: самый легкий ветерок не пролетит, и воздух замирает при малейшем оклике воды. Отражение дома в канале не колышется, но именно через отражение все могло бы начаться, ожить. Непроницаемый дом, состарившийся за много жизней, угасших одна за другой, только и осталось от них, что воспоминание в воде.
Элен сделала удачный выбор. Здесь, укрывшись за витражами от света дня, так хорошо пишется, здесь самое подходящее место для того, чтобы всколыхнуть волну и бесконечно долго следить за расходящимися кругами.
Ничего случайного не бывает. Месье Делькур, сам не зная, зачем он это делает, прочертил этот путь до города, отраженного в воде. Две картины с шариками Клемана ждали кого-то, кто умеет жить внутри шариков. Смогут ли они, следуя волшебной логике очевидности, превратить ушедшее время, утраченное время во время выигранное?
Поначалу господин Ван де Конинк выказал некоторое удивление:
– Купить эту акварель? Разумеется, но… Знаете, это довольно дорогая картина.
– Вы правы. Эта картина очень дорога мне, – отозвался месье Делькур, улыбнувшись мне краешком глаза.
Затем с непривычной для него настойчивостью принялся расспрашивать о том, кому принадлежит картина, и, казалось, нисколько не удивился, когда продавец сообщил:
– Дочери художника, это молодая женщина, она сейчас живет в Брюгге и, я уверен, рада будет встретить такого знатока творчества ее отца.
Ну вот. Пока Клеман-Флорентиец во всю прыть несся к ослепительному блеску Суннаншё, разгадка дней потребовала терпения, мягкости, неспешных шагов в осенних туманах месье Делькура.
И все же нам оставалось проделать самую пугающую, самую неверную часть пути: пройти те несколько метров, что отделяли нас от тяжелой деревянной двери. В гнетущем безмолвии запертого дома зажглась лампа, ореол света лег на зеленое стекло, едва приметно его согрев. Что-то замышлялось там, в зыбком центре осени; что-то такое, что мы могли застать врасплох, нарушить. В этом доме каждый день кто-то писал в круге света от лампы, у воды, склоняясь над отражениями. Месье Делькур внезапно оробел и умоляюще посмотрел на меня.
Мои неясные очертания, шаткое право на существование давали мне легкость, необходимую для переходов, превращений. В конце концов, может быть, я и сам был всего лишь чем-то промежуточным в этой странной истории? Но я обладал способностью идти прямо к сути, не делаясь посмешищем. Ничто меня не связывало, ничто не ограничивало, и потому в этом рассказе я должен был парить, лишенный желаний, лишенный стыда, сглаживая все шероховатости. Тем не менее в присутствии Элен я оробел. Я сказал, кажется, все необходимые слова, но горло у меня то и дело перехватывало. А она смотрела на меня из темноты почти золотыми глазами. Потом я увижу ее глаза серо-зелеными солнечным зимним днем, янтарными у яркого огня. Но и сегодня со мной остается этот свет первого взгляда, которого не отыскать ни в одном калейдоскопе. Черные волосы падали почти до пояса, рассыпавшись по темно-красному бархату платья. Конечно же, она разволновалась, услышав имя Клемана и название Суннаншё. Ей хотелось, чтобы мы рассказали подробно о пантомиме Флорентийца, о той части его жизни, о которой она ничего не знала и которая была до странности родственной таинственному безмолвию дома в Брюгге. Клеман и Элен были вместе, как бы это ни выглядело на поверхностный взгляд…
Оба, одевшись в бархатные наряды и отгородившись от мира, в танце, в безмолвии, в неподвижности, преследовали долгие миражи. А потом появились мы, чтобы связать распавшуюся в пространстве и времени нить… Мы мелкими глоточками пили обжигающий чай и молчали от смущения и возбуждения. В глубине души у каждого из нас троих уже пролегали синие снежные дороги к берегам озера в Суннаншё.
– Летними вечерами в Швеции вообще не темнеет. Люди выходят погулять часов в одиннадцать, даже в полночь. Небо и дорога серо-белые и почти что светятся, деревья чуть темнее, но очертания расплываются, границы между предметами исчезают. Идешь по лесу, на слух ориентируясь по плеску воды в реке. Садишься, обхватив колени руками, на гладкий камень у берега, поближе к малиннику. Прохладный лепет воды в нерушимом безмолвии ненастоящей ночи, и тебе дела нет до того, как будет называться завтрашний день и как им можно распорядиться… Впрочем, это уже и не сегодняшний день. Мгновение полностью окутывает вас бледно-сиреневой дымкой. Это всегда и везде, в туманном раю, который мог бы обернуться безумием.
Голос Элен, размеренный паузами, плыл рядом с нами. Она рассказывала нам о той Швеции, какую знала, словно для того, чтобы успокоиться самой, чтобы утвердиться на почве памяти, прежде чем на нее нахлынут перевернутые картинки. То, о чем она говорила, нисколько не походило на куски неба, вставленные в оконные рамы автобусов или поездов и виденные нами от самого Стокгольма. Негасимый летний свет сменился бесконечно долгой ночью. Над мерцающим блеском снега день занимался в десять часов, а с трех часов пополудни солнце начинало тускнеть.
Мы приближались к Далекарлии. Темно-красный цвет стен, подчеркнутый матовой белизной дверей и оконных рам, уже казался нам привычным и родным. Внутри волшебный оттенок укромного счастья, беспечно открытой взгляду строгости, которой любуешься издали. Озера и леса; темная зелень сосен, тяжело нагруженных снегом, пепельная белизна облетевших берез. Повсюду замерзшие озера, пустынные островки льда, над которыми изредка взлетает звонкий смех детей, успевающих покататься на коньках в крохотный проблеск дня. Но большую часть времени, пока мы шли вдоль почти воображаемых дорог, обрисованных лишь плавно скругленными склонами, нас обдавала головокружительная тишина, смешанная с резким холодом воздуха.
Дорога между Людвикой и Суннаншё время от времени превращалась в узкую тропинку между двумя озерами, дальние берега которых терялись в тумане. Поздним утром последний автобус высадил нас примерно в трех часах ходьбы от усадьбы. Пока мы шли, Элен постепенно утрачивала вкус к воспоминаниям. Мы снова молчали втроем, любуясь красотой пейзажа и побаиваясь встречи с Клеманом. А что, если он не захочет видеть Элен? Что, если его там не окажется? Если этот бесконечный поиск обернется бегством? Если какого-то звена в цепочке по-прежнему недостает? Столько вопросов, растворенных в тускло-серой толще льда, в белизне дороги, в зелени деревьев на опушке вдали. Ни один прохожий не нарушил холодного покоя этого дня. Элен, тонкая, в черном пальто, пряча лицо под шерстяным шлемом, легкой походкой шла в нескольких шагах впереди нас: какую печаль скрывала эта летящая тень?
Солнце уже угасало, когда месье Делькур, в свою очередь, нарушил молчание:
– Забавно, но, когда я вот так бесконечно шагаю по узкой тропинке между двумя озерами, мне кажется, будто я иду по кромке тротуара – когда воображаешь, что по обе стороны от тебя пустота, страшная пропасть, куда можно упасть.
Элен обернулась к нему:
– Да? Значит, и вы так делали ребенком?
А месье Делькур мягко ответил:
– Нет-нет. Не тогда, когда был ребенком. Я каждый день так хожу по парижским улицам.
Наступила тишина. Элен словно бы не решалась принять всерьез слова месье Делькура. Потом опомнилась, и лицо ее обрело торжественное выражение.
– Я начинаю понимать, почему Клеман смог с вами познакомиться. Для меня детство… Теперь этого уже никогда не будет. Но сегодня… Знаете, когда я была маленькой и мне надо было признаться в том, что получила плохую отметку, я очень ярко переживала мгновения перед самым признанием. Возвращение из школы благодаря этому делалось упоительно прекрасным, потому что мне хотелось остановить время, а булочка с шоколадом на полдник казалась вкусной, как никогда. Сегодня вечером все немножко так же. Я иду в усадьбу Суннаншё. Я очень боюсь туда идти. И в то же время так чудесно все в себя впитывать, так приятно на все смотреть. Я едва узнаю эту дорогу, по которой мы каждый день ездили на велосипеде.
Маленькая. Ребенок. Раньше. Все эти чужие слова скользили по пузырьку моего молчания. Они меня не задевали. Я провожал их глазами и смутно ощущал их могущество. Возможно, это были страны, а может, корабли или всего-навсего долгие странствия. Страна былого. Путешествие в прошлое. Шхуна детства. Элен и ее светлые глаза придавали этим словам пронзительную прелесть ходьбы по снегу между двумя такими чистыми и такими непроницаемыми озерами.
Уже темнело. Под ясным небом серая дорога выделялась отчетливее, она почти светилась между внезапно помрачневшими озерами и лесом. Слова давным-давно растаяли, надежда увидеть свет заледенела у нас в груди. В Тюильри вечерняя синева со всей очевидностью звала к янтарным лампам таверны на улице Риволи. А теперь я открывал для себя простор расстояния и желания, мучительное ожидание, в котором боль смешивается с наслаждением. Наверное, и это тоже Север, этот длинный ледяной плащ, освещающий мысль о доме, рождающий надежду на тепло, скрытое где-то на другом конце равнины.
Значит, надо идти, изнемогая от усталости, чувствовать, как холод сковывает тело… А потом… Этот крохотный огонек на горизонте, огонек, который постепенно растет; этот огонек свечи, который с каждым шагом становится все жарче, наливается оранжевым светом, и снег начинает казаться синим; первый дом деревни Суннаншё, охраняющий подступы к иным местам, и есть усадьба. Свет горит только в одном крыле, потому что те, у кого есть выбор, уезжают отсюда на зиму. Здесь место лишь тем, кто скользит в безмолвии или подстерегает отчаяние, лишь тем, кто пьет время, путникам, идущим к нагорьям детства.
– Помнишь этот запах?
И Клеман с трудом выговорил: да. Первые слова Элен непременно должны были смешать ощущение и воспоминание. До чего странно было стоять вот так, вчетвером между огромной печью и кухонным столом. Мы с месье Делькуром позабыли смутиться. И с тех пор…








