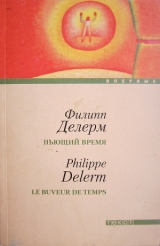
Текст книги "Пьющий время"
Автор книги: Филипп Делерм
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Филипп Делерм
Пьющий время
~~~
Жану Мишелю Фолону
посвящается эта книга
порождение встречи
в неспешности его пространства
в дружественности его молчания
Да, это я здесь, в прозрачном шарике, на глянцевой поверхности бумаги. Вы поглаживаете книгу, скользнув рукой по миражу и ничего не нарушив. На мне лежит отсвет дня, едва занявшегося, а может быть, и угасающего, идеальный тон первых страниц: зыбкий, неверный розовый оттенок всего, что лишь зарождается, и уже заранее – голубая дымка легкой печали, первое утро мира всегда бывает слишком поздним. Но вы перевернули страницу, мягко отвели в сторону скрывающую меня холодную пелену, – и вот я уже готов появиться на свет – только взгляните.
Мне удобно в моем пузырьке. Удобно? Это слово странно звучит здесь, в стенах моей планеты, оно теплыми волнами поднялось с вашей земли, вы сами его подсказали, наконец-то вы готовы заговорить со мной. Я-то уже давным-давно смотрю на вас сквозь огромный занавес. Я ждал. Я подготавливал внутри себя ваше беспредельно мягкое прикосновение. Вы отводите в сторону занавес, и я уже почти что здесь. Я знаю вас. Ваши переменчивые сны, ваши страхи, ваши надежды в колдовском и пугающем мраке захватившего вас потока, который вы зовете временем. Я смутно угадываю его могущество, но никогда он не даст мне ни жизни, ни смерти, ни неумолимой судьбы. Хотя бы краешком коснуться его счастья, его боли – вот, должно быть, в чем состоит мое тайное желание.
Мой плывущий в пространстве пузырек медленно растет, приближаясь к вам. Неспешность, безмолвие, прозрачность: думаю, вас притягивает мир, из которого я прибыл. По глазам вижу – вы мечтаете уснуть, покачиваясь в зыбке света. Но приберегаете это на потом, а сейчас, проходя мимо картины, вы только и говорите «как красиво», тянете нараспев, чтобы на мгновение окунуться в мое небо: «как красиво, ну до чего красиво», – и тут же идете дальше. Красоты вам недостаточно. У вас есть кое-что получше. Этот увлекающий вас и непонятный для меня поток, эта потребность двигаться, переходить к чему-то другому. Но ведь вы пришли в музей для того, чтобы остановить время. Все картины, не только моя, в этом прохладном, укрытом от лета зале призывали вас к забвению. Вы остановились. Вы уловили мой зов издалека, через песчаную пустыню. И отодвинули занавес. Ваша тайная жажда и мягкое движение руки перевернули страницу, и началась история непохожего на вас существа. Я в самом деле заключен в рамку, и это действительно начало романа. Но я дам вам округлость моего пузырька, медленную точку моего взгляда, неловкие движения моего неприметного тела, чтобы лучше струиться в пространстве, ничего не понимать и никуда не проникать, чтобы лучше раствориться и смотреть.
Поймите меня правильно. Несмотря на мое яйцевидное пространство, на мое неоформившееся тело, у меня нет ничего общего с зародышем. Я не прихожу во плоти и крови из другого мира, никакая наследственность не навязывает мне планов и не определяет границ. Нет, если я прихожу в мир, то отчасти так, как в стихотворении Сюпервьеля, помните?
Вот именно. Я – неведомый друг. Я прихожу на землю для того, чтобы создать между нами хрупкую, не имеющую названия связь. Пока не имеющую. Любовь, дружба, нежность – все эти слова предназначены для определенного употребления и конкретных чувств. Однако между нами все будет куда более расплывчатым.
Мне было удобно в моем пузырьке. Теперь я это чувствую по свежести здешнего чуть обжигающего воздуха; воздух моей планеты был совершенным, он не распирал грудь, не рождал желания двигаться, меняться. Это был долгий сон с открытыми глазами в солнечных водах. Это было и одиночество, но я смотрел на вас. Где вы там, на земле? Нет, не так, простите. Хорошо ли вам там, на земле?
Вместо ответа вы промолчали, чуть улыбнувшись краешками губ. Мне очень нравится такое молчание, я улавливаю в нем привкус нескольких капель чистого времени с его горьковато-сладкой печалью. Мне очень нравится такая улыбка, юмор – это стыдливость дней, до чего вы культурный человек.
Именно вы мне и встретились первым. И это не было случайностью. Вы были, вне всякого сомнения, наименее колким, наименее напряженным из всех, кто ходил по городу, – вы были самым округлым. Вы напоминали человека, который упился до такой степени, что разрушил тесный мир прямолинейного конформизма и внезапно ощутил, как давившее на него чрезмерно тяжелое тело, покачиваясь, поплыло. Нет, прежде всего, вы были округлым, словно ребенок, который еще ничего не различает, не отделяет себя от окружающего мира, смешивает цвета и запахи и сам становится всем, к чему прикоснется.
Я прибыл из очень медлительных краев, где плавное и теплое преобладают над прямым, стремительным и резким. Я смутно догадывался о том, что вас тяготит. Все в этом городе казалось вам жестким, холодным, параллельным. Земля, расчерченная на длинные проспекты, тротуары, площади, где прохожие встречаются и расходятся, никогда не соприкасаясь друг с другом. Небо, расчерченное от высотных зданий Дефанс до Монпарнасской башни бетонными кварталами, делящими пространство на части. Повсюду – анонимное соседство. Встретить другого, кого-нибудь другого, на ком мог бы держаться мир, – и все решилось бы само собой. Но вы, должно быть, перестали в это верить, вы заталкивали поглубже эту мечту, потускневшую под пеленой дней, вылинявшую на широких голубовато-серых улицах, заглушенную утешением от сознания, что мимо проходит так много других одиночеств, так же вежливо безмолвных, так же слегка отчаявшихся. Ни друга, ни любви, а только уверенность: необходимо бороться против всего большого, прямого и острого, против коридоров и стен, бесконечного перетекания в никуда. И тогда, вдали от других, очень далеко от других, вы стали сочинять крохотный мир, сплошь состоящий из округлостей, мир, где время засыпало, приютившись у вас в горсти. И вы принялись собирать шарики, калейдоскопы, стеклянные шары.
– Здравствуйте. – Кто вы? – Откуда вы? – Если вы не против, давайте немножко пройдемся вместе, чтобы получше познакомиться. – Зачем вы надели эту шляпу? – У вас есть какая-нибудь профессия? – Вы вечный? – Хотите чего-нибудь выпить?
Наверное, мы обменялись какими-то фразами в этом роде. Но сейчас я в этом уже не вполне уверен. Тогда, в гудящем от разговоров музейном зале, вы остановились перед моим пузырьком, перед моей вселенной. На все отведено свое время. Даже на то, чтобы забыться перед картиной на выставке. Вы задержались слишком надолго. Люди ворчали, злясь на вашу вызывающую неподвижность, кое-кто толкал вас.
Но вы продолжали смотреть; с тем же впечатляющим спокойствием, с каким созерцали стеклянные шары, вы сделались посредником между миром и мной. Другие до вас тоже отодвигали занавеску, погружались на несколько секунд в мою песчаную и водяную пустыню. Но на этот раз все было чуть серьезнее. Протекла пауза, и мы смерили друг друга взглядом. Я удержал в себе очень прочное ощущение этого взгляда – после такого что-то должно произойти; для вас время остановилось, для меня время началось.
Нам нечего было сообщить друг другу, нечему друг друга учить. Никаких посланий, а главное – никаких наставлений. Вы существовали в том, что именуют реальностью. У вас была профессия, был свой квартал, привычка ходить на рынок, тот, что на авеню Сент-Уан. Я же явился из других, запредельных краев, с той стороны, оттуда, отсюда, в конце концов, не все ли равно; моим глазам это пространство представлялось бескрайним, но для вас оно было ограничено прямоугольником картины, окружностью пузырька. У нас было кое-что общее, не так уж мало совпадений. Мы были вдовцами и сиротами, спокойными, свободными, покинутыми и уязвленными одиночками. Вы скользили по времени на свой лад, наподобие канатоходца, затерявшегося между старостью и детством. Я же мечтал о том, чтобы время текло, придавая смысл краскам и запахам. Мы встретились ровно на полпути. Вы заставили меня сойти с картины, потому что я был тем ненавязчивым, едва заметным спутником, который мог разогнать ваши тучки. И я последовал за вами. Мне хотелось испытать ощущение жажды, так что мы отправились выпить по стаканчику.
Чередование солнца и тени на террасе кафе поблизости от реки, между Лувром и Городским театром. Приглушенный шум автомобилей, бесконечными металлическими волнами катящихся мимо, разбрасывая блики света. Мы уселись на железные стулья. Никто на нас не смотрел; для меня это было новым и восхитительным ощущением: я мог раствориться в толпе, прикинуться, будто и сам участвую в представлении, хотя мне и дела не было ни до роли, ни до зрителей.
– Что будете пить? – спросили вы.
Слегка озадаченный и отчетливо понимая, что лишаю себя некоего величайшего наслаждения, я все же благодушно ответил:
– То же, что и вы.
Позже я научусь смаковать краткие мгновения пребывания в стране предвкушений.
– Что будете пить?
Притворяешься, будто погружен в раздумья, но на самом деле за эти несколько секунд в сознании успевают мгновенно промелькнуть все возможные жажды, все прохладные пузырьки, все согревающие вкусы. Свобода выбора призрачна. На залитой солнцем террасе вам хочется воды с гранатовым или мятным сиропом, но в последнее мгновение неведомая сила заставляет вас заказать чай с молоком… Или наоборот – сидя в зале, вы колеблетесь между шоколадом и кофе, а потом, к немалому своему удивлению, просите бочкового пива, с чего бы это? Может быть, вам с самого начала хотелось возвысить наслаждение, поднять его над желанием, проявив при этом парадоксальную утонченность, которая даст насладиться выбранным сполна? В приторной тесноте битком набитого зала пиво в запотевшем стекле отдает такой легчайшей горечью, приобретает такую терпкую прозрачность. А на террасе, среди тех, кто понапрасну старается остудиться холодным, чай с молоком дарит чисто английскую непринужденность, пышущий жаром – побеждает жару.
Контраст может и не быть таким резким, но, каким бы ни оказался выбор, расхождение сохраняется. Час аперитива. Пестрое, нестройное фруктовое изобилие сотернов и мускатов недолго удерживает взгляд, немногим дольше он залипает на черешневом ликере, только чтобы вспомнить вкус черешни. А вот сюз – почему бы и нет? После безмерной приторности всех этих мартини и дюбонне, любой из которых вызывает в памяти картину просвечивающего рубина лета, терпкая желтизна горечавки искушает подобно нежному яду, обманному пшеничному полю, где в провисшем завитке дремлет тягучая янтарная тайна.
Однако в тот вечер я еще и не подозревал о прелестях предвкушения. Вы попросили принести два сюза и лед, и следующее мгновение оказалось чуть кисловатым и желтым, в узком стакане с желобками понизу. Не делать выбора оказалось тоже очень приятно. Я растворился в звуке и цвете. Как легко нам было вместе! Говорить – и то не о чем. Позже я постепенно узнал все стадии, уловил все волны смущения, воцаряющегося в такие минуты. Да нет, я не представлял себе, что может быть неудобно оттого, что молчишь. На ваших губах медлила мечтательная улыбка. Мы и сами толком не знали, зачем сидим там. Вокруг нас люди разговаривали словно бы нехотя, стараясь оправдать светлый или темный рубин в своем стакане. Вот он, жесткий закон реальности: обладание миром между двумя скобками, которые все сближаются, стискивая вас, аперитив, разбавленный всякими как-там-ваши-что-у-вас-новенького. Понемногу теряешь себя, только и остается что скобки и многоточие посередке.
Но… Сберечь все в желтизне горечавки, испить мгновение, впитать незыблемое наслаждение, а потом долго идти по летнему Парижу вдоль набережных. Дыхание города приноравливалось к нашей бесцельной походке, ничто ничего не означало, и это было так хорошо. Никто не отдает, никто не получает. Мы вместе только для того, чтобы смотреть. Легко, никем не узнанными, плыть через площади. Груз, давящий на сердце, каждый оставит при себе, но крыльями друг с другом мы поделимся.
Я сошел с картины. У вас был свой квартал. Авеню Сент-Уан, один из самых красивых летних парижских рынков. Яркие, разноцветные прилавки, заполнившие широкие тротуары по обе стороны улицы, щедро, безоглядно дарят себя космополитичному трудовому человечеству. Мало где взаимопроникновение потоков французских пенсионеров и магрибских тружеников достигает такого равновесия, как здесь, и квартал благоразумно сберегает это достижение в тенечке. Сумка на колесиках парижской консьержки, вязаная шапочка алжирца запросто сочетаются на фоне апельсинов и киви, белоснежной рыбьей плоти и бледно-розовых креветок. Под неподвижными зелеными навесами прохладно, свежо. Свежесть красок, которые можно попробовать на ощупь, свежесть нездешних плодов, освещающих серый город, удивительная свежесть солнечных пятен, рассыпающихся на мгновение по безнадежным вековым привычкам.
Там, за тротуарами, уже угадываются угрюмые почтовые ящики, грязные лестницы, духота и теснота, назойливо лезущее в уши радио. Но на улице – пейте жизнь-солнце, впитывайте желтое, сочное, розовое трепещущее мгновение светлых черешен, кровью темных оросите все невозможности жизни, ушедшее время, поражения и разочарования будней. Упакуйте бренное настоящее в чуть шершавый пакет из коричневой бумаги. Можно брести не спеша, выбирая для себя цвет на зеленых и золотистых берегах широкой реки проспекта, которая течет, никуда не утекая, разжиться, наконец, вспышками солнца на воде текучего времени и только потом без спешки повернуть обратно. Позади остается все низовье жизни – есть чем расплатиться.
Так вот, вы чуть дольше, чем надо, бродили по рынку, точь-в-точь как ребенок, которому неохота уходить со школьного двора. А потом медленно двинулись по проспекту в обратную сторону. Пестрота прилавков блекла, расплывалась. Не дойдя какой-нибудь сотни метров до метро «Ла Фурш», вы нырнули под каменную арку, за которой начинались ваши диковинные владения.
В самом сердце Парижа, надежно укрывшись от градостроителей, вдоль пешеходной улочки, замощенной округлыми камнями, теснятся приземистые домики. Деревянные двери облупились, на высоких стеклах красуются названия вымерших профессий, белыми буквами, иногда выгнутыми дугой: шорник; или же черными, чуть закопченными, прямо по стене: белошвейка-гладильщица.
Но теперь мастерских здесь не осталось, ремесленников сменили обычные жильцы, на подоконниках низких окон появились горшки с геранями. Зеленый островок, виднеющийся на другом конце, продлевает ощущение, будто вы погрузились туда, где нет ни времени, ни пространства. Издалека можно принять его за деревенскую площадь прежних времен, обсаженную липами, такую, где собираются кто – потанцевать, кто – обстоятельно потолковать после обеда. Но вы приближаетесь к нему и понемногу начинаете различать кучу хлама: старая детская коляска, заброшенная колонка прячутся в высокой траве, чередуясь с клумбами, разбитыми там и сям кем-то из особо ретивых местных обитателей. Нарциссы, примулы и кустик пионов окружены решеткой, защищающей от кошек, – только к цветам их не подпускают, что же касается всего остального, кошки – несомненные хозяева здешних мест. Позади этого треугольничка старомодной зелени стоит четырехэтажный кирпичный дом, украшенный сохнущим на окнах бельем. К вашему проржавевшему, бесполезному почтовому ящику приделана табличка, округлыми буквами выведено: месье Делькур, 4-й этаж, слева.
Постепенно я вписался в эту обстановку, чисто парижскую по своей манере держаться в сторонке от Парижа, пообвыкся в этом убежище грез, где тихонько дремала, свернувшись клубочком, ваша жизнь. Мое тело еще хранило расплывчатую неуловимость моей первоначальной вселенной. Лишенный четких границ, желаний и планов на будущее, я наслаждался каждой тенью, каждой подробностью этого нового пузырька: в нем так приятно, когда попадаешь в него, как я, без начала и без конца, без смерти и без рождения.
У вас-то было имя, заурядное и почти прозрачное, но все же имя, и некоторым казалось, будто они вас в нем заключили. Но вы не давались в руки. Вы кем-то служили в каком-то учреждении, и всем своим существом отвергали фамильярность. Никто не посмел бы спросить: «Багет и круассан, как обычно?», или «Ну что, стаканчик пастиса?» В обращении консьержа из вашего дома сквозила та угодливость, какую приберегают для аккуратных и молчаливых жильцов, для пассажиров прозрачной жизни.
Жизнь… Порой вы с сомнением и насмешкой произносили это никоим образом не касающееся вас слово. С тех пор я возненавидел скользкий, визгливый слог: жизнь. Для других все заключалось в этом слове с его вялым началом и пронзительным криком в середине – но крик запоздал, и патетика дела не спасает, напрасно старались сбить с толку, спектакль был убогим, занавес опустился, а режиссер безразлично пожимает плечами: что поделаешь, такова жизнь.
Только теперь, с опозданием, я узнал, что к вам куда больше подошли бы, вас куда вернее определили бы другие слова: скольжение, с его беспечной мягкостью и этим ощущением спокойного приятия, и в особенности – слово канатоходец, потому что оно содержит в себе и воздушный дар, и сон наяву, и легкий привкус нелепости. Месье Делькур. Когда настал час разлуки, я сильнее почувствовал волшебство той странной связи, что возникла между нами, и слезы подступили к глазам. Мы с разных планет, и все же мы встретились, два неуклюжих канатоходца. Я в своем пузырьке, вы перед своими стеклянными шарами – мы умели смотреть. И однажды нам было даровано удивительное счастье смотреть вместе. Бесконечно долго молчать рядом с другим, рушить одиночество, сберегая пространство тишины, впитывать небо и сады – кто из нас научил этому другого? Мы бродили по Парижу.
Тюильри со стороны Лувра, бассейн, где плавают парусники. Прохладная прогалина вдали от шума… Посреди круга вод воцарилось детство. Взрослые утоляют жажду, глядя на легкий след за кормой плывущей грезы. Влюбленные устраиваются рядышком на белых стульях лицом к солнцу – или повернувшись к нему спиной, если хотят сполна насладиться представлением. Дети под растроганными, безразличными или затуманенными печалью взглядами разыгрывают свой чудесный медлительный балет. Их крики, отражаясь от поверхности воды, делают тишину совершеннее.
К тележке с парусниками подходишь, словно приступая к обряду инициации: это причудливое соединение досок и колесиков уже обещает путешествие по времени вспять. Право с беспредельной свободой управлять выбранным судном не покупают дорогой ценой, надо лишь добровольно подчиниться ритуалу дерева, ткани и воды. Это увесистые, утяжеленные свинцом парусники с глубоко уходящим килем. Растопырив руки, обнимаешь корабль, прижимаешь его к груди и торжественным шагом направляешься к воде. Потом наклоняешься, рисуя свою тень на ее глади. Деревянной палочкой резко толкаешь корму. Кораблик никогда не отплывает по прямой, а – с наполовину спущенным парусом – небрежно описывает дугу. Провожаешь его взглядом, потом бежишь встречать на другом конце дуги. Несколько неуклюжих попыток, неудачных причаливаний и столкновений – и наконец-то удается ловким движением направить парусник точно на середину, прямо под струю воды, и в солнечных лучах чисто-холодные брызги образуют встающую над парусом радугу.
В этот июльский день, такой светлый и жаркий, люди, казалось, нисколько не удивлялись тому, что я играю, словно ребенок, присев у бортика с палочкой в руках. Что за свобода, неведомое прежде блаженство! Раньше, когда я жил по ту сторону бумаги, когда помещался в центре картины, меня бесстыдно разглядывали, оценивая мое присутствие, изучая мое тело. Пока я был ирреален, я оставался пленником взгляда; здесь же, в сердце Тюильри, существование мое сделалось неоспоримым, но до меня никому не было дела, хотя я толком не знаю, считать ли эту обезличенность свойством моей собственной природы или следствием повадок парижан.
Время от времени я через плечо заговорщически оглядывался на месье Делькура. Он сидел, сложив руки на коленях, безмятежно улыбаясь, и с тайным ликованием наблюдал за игрой. К величайшему моему изумлению, он, в конце концов, поднялся с места, подошел к тележке и выбрал бледно-зеленый с розовым парусник, который послушно закачался на воде и присоединился к замедленному танцу регаты.
В тот день я понял, чтоименно я внес в жизнь месье Делькура – ах нет, простите, в его скольжение. Самую малость, и говорить-то почти не о чем, но это легчайшее согласие, этот зачаток приобщения наконец-то дали ему ключ, позволяющий проникнуть в мир. Талант месье Делькура, до тех пор стиснутый стенами его квартирки, сведенный к языку шариков, стеклянных сфер и калейдоскопов, глотнул свежего воздуха, открылся навстречу краскам дня. Взяв напрокат парусник, он провожал глазами пенный след за кормой, не позволяя себе увлечься действием, но потихоньку начиная осознавать меру участия, необходимую для того, чтобы продлить грезу.
Мы долго плескались, окунув руки в воду, а глаза – в солнечный свет. Когда мы уходили, на Тюильри опускалась синева, город зажигал огни. На воде не осталось ни единого парусника, не кружились карусельные лошадки, стихли крики, прекратились игры. Мы перешли улицу. Под аркадами дул сладкий ветерок, навевавший желание продлить этот вечер.
«Rivoli Park Tavern». Вывеска казалась чуть нарочитой, обещала всего-навсего поддельную британскую атмосферу. Но через затемненные стекла почти ничего не разглядеть было внутри, не понять, от чего ложатся на гладь цвета сепии пылающие отсветы, отчего верхняя часть окна чуть краснее, чуть сильнее отливает медью, чем нижняя. Там, внутри, наверное, подают чай и пиво, там дымно, тепло, мягко и бархатисто. Самое время перейти от синего к золотому – и мы вошли в зал. Там не было гула разговоров, никто не стремился к общению. Светильники из яблочно-зеленого матового стекла спускались очень низко, рисуя маленький кружок света в середине каждого отсека. Мы устроились поближе к окну. Нам было уютно, словно в вагоне с открытыми смежными купе: старый, деревом и бархатом отделанный вагон в безмолвном и неподвижном поезде.
Все здесь казалось словно закутанным в вату. Официант молча протянул нам меню, и мы углубились в священный текст, сообщающий пароли, при помощи которых можно проникнуть в чуждый мир. Несколько мгновений чистого времени; пусть даже обходилось оно дороговато, все равно это был подарок. Irish smile cup. Лимонное мороженое в бокале шампанского. Irish: пожалуй, соблазнительная мысль – отыскать для себя Ирландию в центре Парижа, приятно представлять себе яркую белизну лимонного мороженого посреди пузырьков, поднимающихся из моря шампанского, холод кислого айсберга и тепло алкоголя. Следующая строчка меню манила лаконичным совершенством другого пароля. Чай с полным набором (чай, тосты, варенье). Мы не успели проголодаться, но нам захотелось выплеснуть в эту суровую тишину немножко яркого беспорядка.
Мы сделали удачный выбор. Выслушав заказ, официант эхом его повторил, демонстрируя зарождающееся почтение. Он принес нам чайник, глиняный горшочек, тосты на подогретой тарелке и большую, пузатую фарфоровую вазу, внутри нее пылала темным огнем гора варенья, которую можно было долго, очень долго исследовать. Стоило погрузить туда ложку, и возникали прозрачные склоны с непрочными, мгновенно оплывающими гребнями. От лампы на смородинных ледниках плясали блики и зыбкие тени. Как только официант отошел от столика, мы принялись есть варенье прямо ложками – ради наслаждения запретным, ведь так, украдкой, получается куда слаще. А потом в наши тела пролился, умиротворяя их своей чуточку блеклой силой, крепкий чай с молоком. Взгляды прохожих по ту сторону дымчатого стекла на несколько секунд замирали, стараясь проникнуть в глубь потаенной таверны. Надежно укрывшись в своем чайно-греночно-вареньевом поезде, мы с улыбкой принимали это мимолетное любопытство. Порой чье-нибудь лицо приникало к стеклянной перегородке, и поспешно отстранялось, обнаружив сразу за ней наш спокойный, слегка снисходительный взгляд.
Укрывшись в самом сердце тайны, мы чувствовали себя посвященными, первыми обитателями иной планеты, заключенной внутри Парижа. У каждой встречи есть своя планета: у нашей планеты пока не было имени, но уже были образы, так медленно движущиеся в полном согласии с иноходью наших взглядов-близнецов сквозь стеклянные стенки и отражения парусов на голубой воде.
Мне вспоминаются долгие летние послеобеденные часы в доме месье Делькура, в его квартире, где от смешанных запахов кошек и натертого воском дерева во мне рождалось предощущение прошлого. Июльское солнце пускало золотую стрелу в щель между ставнями, на старомодной мебели плясали светлые зайчики. Часы с позолоченными ангелочками тонким перезвоном отмеряли безвременье.
Месье Делькур приносил на маленьком, потускневшем серебряном подносе с желтыми потеками бутылку портвейна и две хрупких рюмки на высоких ножках. И вскоре я держал в руке, заставлял играть в солнечных лучах это прогретое солнцем, теплое, медлительное вино того же рыжеватого оттенка, что и сам этот послеполуденный час, что и течение непроницаемого, чуть горьковатого времени; я подносил к губам обманчивую сладость непостижимого воспоминания.
Я смотрел, как месье Делькур на целые дни с головой уходит в тайные глубины калейдоскопов. Он ничего мне не объяснял, но мне захотелось последовать за ним. И однажды я, в свою очередь, заглянул в японскую комнатку с зеркальными стенами, обнаружил потайные перегородки и распробовал свет, заключенный в тесной картонной трубке. Теневой театр тайны, голые кулисы игры света, темные зеркальные стенки. Именно там, в двусмысленной жестокости умноженных картинок, и готовится чудо. На обоих концах трубки ничего особенного нет: с одной стороны – глуповато очевидный глазок смотрящего, с другой, между двумя матовыми кружками, – цветные кристаллы, яркие стеклышки, чьи оттенки приглушены туманом отдаленности и неуловимым налетом пыли. Внизу – банальное зрелище, вверху – холодный взгляд. Но что-то совершается между ними, в тайном темном укрытии, в этой гладкой трубке, обклеенной листом тонкой глянцевой бумаги, такой безликой и часто безвкусной, с узором из переплетенных арабесок.
У месье Делькура было больше сотни калейдоскопов, и я перебирал их, один за другим. Я смотрел. Внутри ярко-синие, блекло-сиреневые, рубиновые драгоценности дробились в водяной зыбкости. Восточный зеркальный дворец, льдистый гарем, снежинка султана. Единственное, всякий раз начинающееся сызнова странствие. Бирюзовое странствие к драгоценным каменным россыпям Севера, гранатовое странствие к благоуханным просторам теплых заливов. Страны создавались сами по себе, безымянные страны, которых не отыщешь ни на одной карте. Едва уловимо поворачиваешь картонную трубку и оказываешься еще дальше, в других краях; жаркая и холодная страна, оставшаяся позади, уже распадается с легким мучительным шорохом. Какое нам дело до того, что нами покинуто. Несколько осколков цветного стекла снова выстраиваются и создают для вас новую страну, ту, о которой вы мечтали. Вы ожидали увидеть ту или другую картинку, и появилась почти такая же, но никогда в точности не совпадающая. В этом мелком отличии и состоит вся ценность путешествия и его упоительность, доходящая порой почти до отчаяния: обладание страной движущихся кристалликов невозможно.
Заглядывать в будущее я не любил, а вспоминать о том, что со мной было раньше, не умел. И потому я путешествовал в настоящем времени. Эта небесная мозаика никогда больше так не сложится: бесплотно-зеленые и бархатно-красные, словно театральный занавес, кристаллы выстраивались с геометрической строгостью садов Лувра в гнетущей тесноте китайского домика. Потолок, стена или пол – вполне земная картинка, но парящая в невесомости разлетевшегося осколками пространства. Надо было застыть в неподвижности, надолго погружаясь в созерцание, потому что стоило мне на время отложить трубку – и, каким бы осторожным движением я потом ее ни брал, континент разрушался; легчайшее дуновение оборачивалось ураганом, дворец улетал.
Камера-обскура заключала в себе дробившуюся на отражения тайну. Все теряется, все смешивается, все невесомо, все хрупко. Ты ничем не обладаешь. Всего лишь несколько мгновений красоты, если высидишь, не шелохнувшись, круглый пасьянс, на который ничего не загадываешь. Летучее мгновение мудрого счастья: удерживаешь его между большими и средними пальцами обеих рук. Прикосновение должно быть легким.
Я научился касаться легко, едва заметно. Раньше я был совершенно недвижим, и такие жесты были мне с руки. Держать в пальцах калейдоскоп, медленно пересыпать картинки. Создавать пейзаж – и самому же в нем растворяться. Брать в руки стеклянный шар и вызывать между собственными ладонями снежную бурю, но повиноваться вызванным тобой вихрям. Легчайшим движением порождать образы, чтобы они вышли из повиновения.
В краю калейдоскопов месье Делькур оказывался по эту сторону жизни, назойливого мельтешения снующих судеб. В самой глубине его одиночества открывался мир текучего движения. Я без усилий и без слов присоединился к нему в этом пространстве зыбкой, неверной действительности, наполовину из воздуха, наполовину из воды.
Вечер выманивал нас из дома, и мы наугад бродили по Парижу: Пале-Рояль, Латинский квартал, площадь Вогезов… Мы были уверены, что у нас есть все, и, тем не менее сами того не сознавая, чего-то, кого-то ждали. Что верно – то верно: достаточно одного-единственного взгляда, и все переменится. Однажды мы встретили Флорентийца.
В тот вечер на Монмартре дул несильный ветер, какой поднимается задолго до грозы, чуть теплый, чуть влажный. А его поначалу мы и не замечали. Вокруг царил веселый художественный беспорядок, сновали туристы, щелкая фотоаппаратами. Выбирали сюжеты: ну, конечно же, художники, по большей части японцы, неизменно рисующие все ту же серебристо-серую улицу, в конце которой встает Сакре-Кер, грязную, скользкую, небрежно замощенную улицу. Приставучие карикатуристы, назойливые портретисты. Уличные певицы, усиленно разевая рот, подбоченясь, все, как положено, выпевают жалостную историю бездомных любовников, а дружок стоит рядом, лихо заломив шляпу, крутит ручку шарманки, и перфорированная лента вылетает сбоку рывками плоской картонной музыки. Поднимаясь от площади Тертр к паперти, мы медленно перемещались от художников к певице, от певицы – к торговцам африканскими украшениями.








