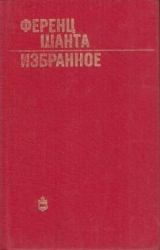
Текст книги "Пятая печать"
Автор книги: Ференц Шанта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Налейте ему сто грамм! Этого хватит? – спросил он у грузчика.
Тот вытер рукой губы:
– Что ж, попробуем!.. – И расхохотался. Но, тотчас спохватившись, вытянулся по стойке смирно: – Покорно благодарю! – Потом, глядя на хозяина кабачка, бросил: – Давай!
Хозяин кабачка, отмеряя порцию палинки, спросил:
– А вам? Вам тоже можно чего-нибудь предложить?..
Улыбка сползла с лица нилашиста, он холодно посмотрел на хозяина. Потом вдруг рассмеялся:
– Нет… Вы очень любезны, но я не хочу…
Второй поднял стопку:
– За победу!
Нилашист кивнул и переложил перчатки в другую руку.
– Ах, в бога душу… – крякнул грузчик. – Где достал?..
– Еще стопку? – спросил второй.
– Чистый огонь!.. – продолжал восхищаться грузчик.
– Налейте ему еще стопку!
Хозяин кабачка, передавая палинку, спросил:
– Не угодно вина?
– Нет… благодарю! Вы очень и очень любезны… – Он оглядел комнату: – Уютное у вас помещеньице… – потом повернулся к стойке: – Вы владелец?
– Да, – подтвердил трактирщик.
– Славно! Это – славно! – одобрил нилашист и посмотрел на часы. – Все очень славно…
– Вот это палинка так палинка! – объявил грузчик, ставя стопку обратно. – Ты, однако, ловкач, коли умеешь достать такую!
Нилашист оторвал взгляд от часовщика и взглянул на своего спутника. Лицо его было холодно. Спросил:
– Простите, что вы сказали?..
– Я говорил, что… – начал было грузчик, но осекся и, крякнув, снова вытянулся, смущенно моргая.
Нилашист повернулся к хозяину:
– Прошу извинить! Сколько Я вам должен?
– Одиннадцать! – ответил тот.
Грузчик полез в карман. Вытащил большой коричневого цвета бумажник. Бумажник был набит сотенными, обе половинки раздувались от толстых пачек банкнот.
– Позвольте мне…
Высокий нилашист вынул из кармана мелочь и положил на стойку:
– Благодарю!
Грузчик подержал бумажник в руках, потом сунул обратно в карман.
Нилашист принялся натягивать вторую перчатку. И как бы между делом спросил:
– Отсюда налево следующий дом – семнадцать «Б», правильно?
– Да, – ответил хозяин кабачка. – Мой дом семнадцать…
Перчатки были надеты. Грузчик стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Потом, спохватившись, сдвинул револьвер на живот.
– С вашей стороны, – сказал нилашист, – было большой любезностью угостить нас отличной палинкой!
– Пожалуйста! – ответил хозяин кабачка.
– Доброй ночи!
Грузчик вскинул руку:
– Смирно! Да здравствует Салаши!
– Доброй ночи! – ответил хозяин кабачка.
Нилашист кивнул головой в сторону компании. Потом сделал знак своему спутнику:
– Прошу! – И показал на дверь.
Когда они ушли, трактирщик еще раз вытер стойку, потом вернулся к столу. Сел, закурил сигарету. Посмотрел поверх спички на Дюрицу, потом На книготорговца. Бросив спичку, повернулся к фотографу:
– Угодно чего-нибудь еще?
– Мерзавцы! – произнес Дюрица.
Коллега Бела повторил вопрос:
– Выпьете еще чего-нибудь?
– Нет, нет… спасибо! – ответил Кесеи.
Ковач тихо осведомился:
– Он спрашивал про дом семнадцать «Б»?
– Да, – подтвердил хозяин кабачка.
Ковач посмотрел на книготорговца, потом перевел взгляд на фотографа:
– Ну, в таком случае… пора бы и нам по домам!
– Будем здоровы! – сказал хозяин.
– До завтра! – сказал Кирай, поднимая стакан.
Фотограф обратился к Дюрице:
– Если позволите… мы ведь еще не кончили начатый разговор…
– Трали-вали… – отозвался книготорговец. – Вы все про то же?
– Я, видите ли, хотел бы ответить на его вопрос, – сказал фотограф.
– В самом деле?! – удивился часовщик, тяжело поднявшись со стула и ища на вешалке пальто.
– Да! К тому же, как вы могли заметить по сегодняшнему разговору, у меня имеется вполне определенное мнение о том, что творится в мире.
– Неужели? – спросил часовщик. – Это замечательное приобретение!
– Да! И поэтому, я думаю, не будет неожиданностью, если я отвечу «да»!
– Что «да»? – переспросил Дюрица, сняв наконец с вешалки пальто и шляпу.
– Да, я выбрал Дюдю! То есть раба! – отвечал фотограф и вспыхнул так, как еще не краснел ни разу. Он сидел за столом один. Остальные уже поднялись и одевались у вешалки.
– Дюдю! – повторил фотограф.
Часовщик посмотрел на него. Лотом, сняв с вешалки пальто книготорговца, сказал:
– Вот ваше пальто, господин Кирай!
– Спасибо, сударь, – поблагодарил Кирай.
Ковач стоял, засунув руки в карманы, и молча смотрел на фотографа.
– Да ну ее к чертям, эту чушь! – вскипел хозяин кабачка.
Ковач заговорил:
– Вы действительно решились сделать такой выбор?
Кесеи, не сводя глаз с Дюрицы, ответил:
– Это мое мнение.
Дюрица повесил зонтик на руку.
– Врете! – сказал он.
Лицо Кесеи покрылось бледностью.
– Что? Простите, как вы сказали?..
– Врете! – повторил Дюрица и тут же отвернулся к хозяину кабачка.
– Так, значит, мы разбегаемся, коллега Бела!
И, прижимая пальто к животу, протиснулся между столом и стенкой.
Фотограф поднялся со стула.
– Как же вы так, мастер Дюрица… – пробормотал Кирай.
– Это я-то вру?! – побледнев, охрипшим голосом проговорил фотограф.
– Да! – еще раз повторил Дюрица.
– Чтоб я – и соврал? – дрожащими от возмущения руками цепляясь за край стола, повторял фотограф.
– Не обращайте на него внимания!.. – сказал книготорговец и, поспешно пройдя к вешалке, отнес фотографу его пальто. – Вечно вы ляпнете не подумав, господи прости! – бросил он взгляд в сторону часовщика и неодобрительно покачал головой.
Дюрица не обратил на него никакого внимания. Поправил на шее кашне, надел шляпу.
– Выходим, господа?
Коллега Бела уже собрал стаканы и направлялся с ними к стойке. По-видимому, он ничего не слышал из того, что происходило у стола. Остановившись в двух шагах от стойки, он посмотрел на дверь:
– Ну и тертый был калач, – пробормотал он, качая головой. – Ну и мерзавец!
Кесеи вышел из-за стола:
– Такого мне еще никто не говорил!
– А я говорю! – произнес Дюрица. – Только не раздувайте из этого истории. Со всяким может случиться!
– Вот что… – заговорил Ковач. – Господин Дюрица, возможно, хватил через край, но на это нельзя сердиться. Он неплохой человек, хотя и с причудами. Можете нам поверить, уж мы-то его знаем! А все же, как бы это выразиться? Откровенно говоря, вы сделали очень смелое заявление, господин Кесеи…
Он посмотрел на остальных.
– Но это правда! – топнул деревянной ногой фотограф. – Это голос моей совести, веленье сердца, вывод из моих размышлений!
– Разумеется, мы вам верим… – успокоил его Кирай. – Отчего бы нам сомневаться в правдивости ваших слов? Вы, несомненно, так и думаете… это вполне естественно!
Он собирался подать фотографу его пальто, но тот, вдруг повернувшись, обратился к Дюрице:
– Возьмите ваши слова назад!
Дюрица перевесил свой зонтик на другую руку:
– Вы идете, мастер Ковач?..
Кесеи перевел взгляд на Ковача:
– Вы тоже сомневаетесь в правдивости моих слов?
Ковач, смущенно глядя на него, проговорил:
– Ну… в общем… как я уже сказал, это трудно… трудно так скоро прийти к определенному мнению. Возможно, вы поторопились с ответом. Ведь сами посудите – дело нешуточное!
– Короче говоря, вы сомневаетесь в том, что я сказал правду?
– Ну, нет… этого я не говорил…
– Так, – сказал фотограф. – Понятно, все понятно…
У стола снова появился коллега Бела.
– И вы тоже сомневаетесь в моих словах? – обратился к нему Кесеи. – И вы тоже не верите тому, что я выбрал порядочность?
– А вы уже выбрали?
– Да! И выбрал порядочность! Хочу стать Дюдю!
Хозяин кабачка поскреб в затылке:
– М-да! Трудное это дело, сударь, и очень громкие слова!
– Вы верите или не верите?
Хозяин окинул говорившего взглядом:
– Не все ли вам равно, верю я или нет? Вам это важно или то, что вы выбрали? Чего вы еще хотите?
– Верите или не верите? – топнул ногой Кесеи. Он был бледен, кровь отхлынула от его лица.
– Послушайте, – сказал, помедлив, хозяин кабачка. – Во-первых, успокойтесь и не мельтешите! Во-вторых, я не берусь никого судить, я трактирщик, а не епископ!
– Одним словом, не хотите отвечать без обиняков, как положено мужчине?!
Хозяин кабачка склонил голову набок. И тихо сказал:
– Я вас не обижал, уважаемый гость! Так что и вы меня не задевайте! А в-третьих, ежели человек прав, он не кричит! Заодно уж и вот что скажу: такому настырному и нервному, как вы теперь, трудно стать настоящим Дюдю! Для этого надо быть таким, как…
Не зная, чем кончить, хозяин кабачка замолк. Подошел к фотографу, взял из рук Кирая пальто:
– Не стоит, сударь, спорить из-за такой глупой игры, уж поверьте моему слову! – сказал он и, расправив пальто, протянул его фотографу.
Кесеи стоял не двигаясь. Потом закрыл глаза.
– Я понял… я все до конца понял!
– Прошу одеваться! – вежливо напомнил коллега Бела. – Уж и не знаю, господин Дюрица, какого черта вы вечно носитесь с такими глупостями?
Кесеи надел пальто:
– Спасибо, – произнес он еле слышно. И, не открывая глаз, добавил: – И простите меня!
– Да что вы! Это я прошу извинения… – сказал хозяин кабачка и убрал стул, освобождая фотографу дорогу.
– Выпито вино до дна, доброй ночи, господа! – продекламировал Кирай, подкинув вверх портфель. – Вот где истина, господа! То, что внутри, – это самая великая из истин!
– Только не забудьте нашпиговать ее чесноком! – подхватил хозяин кабачка.
– Хотите, скажу, сколько вы смыслите в приготовлении грудинки, коллега Бела? Вот, смотрите!.. – И Кирай показал кончик пальца. – Ни на столько!
– Правда ваша, – отвечал хозяин кабачка. – Где уж нам вас переговорить…
Фотограф надел шляпу:
– Спасибо за доброе вино, господин хозяин!
– Да полно… Не стоит, мне было очень приятно!
Кесеи обвел взглядом всю компанию. Под его черными глазами на бледном лице проступала синева.
– Я бы только вот что хотел вам сказать… – Кесеи поднял вверх палец. – Значит, мы действительно такие, что не верим в добро?
– Стало быть, так, – отозвался, топоча вокруг стола, хозяин, – уж мы такие…
– Который час, мастер Дюрица? – спросил Кирай.
Дюрица посмотрел на часы:
– Через шесть минут будет без четверти десять!
Некоторое время Кесеи молча смотрел на них. Затем направился к двери.
Странной походкой, прихрамывая и глухо стуча протезом, он прошел по комнате, потом ступил на лестницу, что вела к выходу. Уже взявшись за ручку двери, обернулся:
– Вот что я думаю, – он поочередно обвел глазами всех членов компании. – Я думаю, что мы не достойны самих себя, потому что не в силах принять самих себя такими, какие мы на самом деле!
Он и не заметил, как распахнул дверь.
– Дверь!.. – Вскрикнув, хозяин подбежал к лестнице. – Ради бога, закройте дверь, только пэвэошника нам не хватало!
– Спокойной ночи! – сказал фотограф и, выходя, притворил за собой дверь.
Хозяин еще раз захлопнул дверь за ушедшим. Затем обернулся и, подбоченившись, объявил:
– Между нами говоря, господин Дюрица, вы – выдающаяся скотина!
– Присоединяюсь! – сказал Кирай, злорадно глядя на часовщика.
Дюрица пожал плечами:
– Пусть так! Ну, а теперь с богом и спокойной всем ночи! Завтра я принесу вам ваши часы, коллега Бела!
– Вот это вы хорошо сделаете, – сказал хозяин кабачка. – Значит, до завтрашнего видерзенья, господа!
Ковач вышел последним и, уже оказавшись за дверьми на улице, обратился к Дюрице:
– Я бы еще хотел спросить у вас кое-что… если позволите?
– Да?
– Если я воскресну… в общем, если бы случилось так, как мы говорили, и если бы я воскрес в том или другом обличье, мог бы я вспомнить, что мы здесь говорили и что это я сам выбрал, кем из двоих мне стать?
– Нет! – ответил Дюрица. – Вы уже ни о чем не будете помнить!
– Гм… – пробормотал Ковач. Потом протянул руку: – Что ж… спокойной ночи!
– Целую ручки вашим дамам… – сказал книготорговец.
– Я тоже! – отозвался Дюрица.
– До завтра? – спросил у них столяр.
– В обычное время… – ответил Кирай. – Не так ли, господин часовщик?
– Как же. Приду… – сказал Дюрица.
Кирай и Дюрица пошли налево, Ковач – направо.
3
На кухне у Ковачей все блистало чистотой. Жена его, маленькая, хрупкая женщина, была почти незаметна рядом со своим мужем. Одевалась она тщательно и красиво – на голове косынка в горошек, воротничок белой блузки выпущен наружу, поверх юбки ситцевый передничек, на ногах суконные домашние туфли со шнуровкой. Поистине: картинка, да и только! На столе белоснежная скатерть, возле каждой тарелки бумажная салфетка, на углу стола расписанный цветами сервиз для воды – кувшин со стаканами на небольшом подносе, посредине – разрисованная фруктами нарядная фарфоровая супница с ручками, чуть в стороне хлебница, накрытая камчатым полотенцем.
– Ну как – вкусно?
– Да! Очень… – сказал Ковач.
Женщина ела опрятно, неслышно. Проглотив несколько ложек, посмотрела на мужа, пододвинула к нему хлеб и соль, налила воды. Снова принялась за еду. Когда она ела, взгляд ее на миг становился задумчивым, неподвижным. Ложка замирала в воздухе. На лоб набегали тонкие, легкие морщинки. Потом она снова начинала есть, едва зачерпывая ложкой, и снова смотрела на мужа, не надо ли ему чего.
Ковач молча сопел над своей тарелкой.
– Совсем подкосило старика? – спросил он, отламывая себе хлеба.
– Можешь себе представить… – Женщина опустила ложку в тарелку. – Серьезно говорю, я еле его узнала. Все стояла и смотрела! И даже не нашлась, что сказать… Щеки ввалились, круги под глазами, да и не только в этом дело, бог его знает, сам человек стал другой – и походка, взгляд, и манера держать голову… Я так и не смогла подыскать слов.
– Бедняга, – вздохнул Ковач.
– Ты только подумай! Еще летом была у него жена, дом, а теперь единственный сын, и тот… Не знаю, что сталось бы со мной, если бы привелось испытать такое? Наверное, я бы этого не пережила…
– Как он письма от сына ждал! Помнишь, в тот раз, когда здесь был?
– Помню! А сына уже тогда в живых не было… Разве не ужасно?
– Что же он говорил?
– Господи… Что он мог сказать? Да и не давала я ему касаться этой темы. Он тебя хотел дождаться, я сказала – лучше не надо, дядя Киш, никакой в этом надобности нет, он непременно зайдет к вам… и вообще, не беспокойтесь ни о чем, пожалуйста!
– Правильно сказала! – одобрил Ковач.
Женщина помолчала. Потом спросила:
– Не могли бы мы что-нибудь для него сделать?..
Ковач пожал плечами. Вздохнул:
– Как-никак целых шестьдесят пенгё…
– Да, – сказала женщина. – А если бы не так много, если бы речь шла о десяти-пятнадцати пенгё?..
– Сорок пенгё за один материал…
– Так-то оно так, и все же ты на всякий случай зайди к нему завтра, поговори.
– Утром зайду…
– Вот ведь как бывает! Человек целую жизнь прожил, сам работал, не зная отдыха, и жена тоже трудилась, лишь бы вырастить ребенка. А только и дожила до той поры, как сына на фронт забрали. Схоронил старик жену, а теперь у него и сына нет, и вообще ничего в жизни не осталось. За один год исчезло все, чем он жил. А почему? Ты мог бы объяснять почему?
– Нет! – сказал Ковач. – У меня никто не спрашивал, хочу ли я войны, как и у старого Киша… Ничего у пас не спрашивают, только забирают наших сыновей да бомбы на наши дома бросают, в общем – делают с нами, что хотят…
Дальше они ели суп молча. Потом Ковач отодвинул от себя тарелку:
– Все оттого, что потом человек все забывает…
– Больше не хочешь? – спросила жена.
– Нет, спасибо. Забывает, что сам выбрал, кем из двоих ему стать, а от этого так много зависит. Ты не согласна?
Женщина, собирая тарелки, тряхнула головой:
– Нет! Можешь мне поверить, это ничего не меняет. Потому как не в том трудность, что произойдет потом и что ты тогда будешь делать, а в том, что ты говоришь теперь.
Ковач, помедлив, согласился:
– Пожалуй, да – это ничего не меняет…
Он отщипнул немного мякиша и, помяв между пальцами, скатал в шарик:
– Странное создание – человек!
Женщина отнесла тарелки к печке и поставила рядом с кастрюлей, в которой уже была подогрета вода для мытья посуды. Вернувшись, убрала со стола. Воду оставила на клеенке – скатерть она уже сняла раньше и, стряхнув, спрятала в ящик комода, – взяла с подоконника высокую стройную стеклянную вазу с дешевыми раскрашенными бумажными цветами и поставила в центре стола. Тихо сказала:
– Конечно, если бы человек был один, сам по себе…
– Как?.. – переспросил Ковач, наблюдая за тем, какую форму принимает под его пальцами хлебный мякиш.
– Ну, если бы у человека не было мужа, жены, детей, одним словом – близких, тогда другое дело.
– Почему другое?
– Ну, если б он решал только за себя!
Ковач пожал плечами:
– Какая разница…
– А то ведь он тянет за собой и мужа, и детей…
– Это все едино! Я уж пробовал себе представить, будто я один. Ни жены, ни детей, один как перст… – все равно ничего не выходит!
Госпожа. Ковач вынула миску для ополаскивания. Достала другой передник и расстегнула на запястье рукава. Помедлив, спросила:
– А что, нашелся такой, кто смог выбрать?
– Не знаю! Этот фотограф или кто он там, ну этот инвалид, сказал, что он может, и выбрал судьбу того несчастного. Ты бы ему поверила?
– Не знаю! Не смею судить… Вот если бы познакомиться поближе, узнать, что за человек, что у него за жизнь, есть ли семья, что он вообще думает…
– Стало быть, он мог сказать и правду?
– Не знаю. Как бы там ни было, Дюрице не надо бы на него набрасываться и грубить ни с того ни с сего… К чему это?
– Он не набрасывался, а спокойно говорил. Как обычно.
– И все равно, – возразила женщина. – Не важно, как говорил. Представь, что человек сказал правду, не солгал! Каково ему было в такую минуту? Когда в глаза говорят, что он лжет!
Ковач кинул хлебный шарик. И следил, как он катится по столу.
– Коллега Бела был того мнения, что, если бы этот человек и вправду сделал такой выбор, он не стал бы обижаться на Дюрицу за его слова, будь они и впрямь обидны. И еще прибавил: ежели кто так возмущается и из себя выходит из-за того, что усомнились в его словах, то и я уже тому человеку не поверю!
– Доля правды в этом есть. Но ведь люди такие разные! Поди узнай, что у кого на душе?
– Я, во всяком случае, не такой, каким всегда себя считал, каким хотел бы… и каким мне следовало стать.
Женщина подошла к столу и присела на краешек стула рядом с Ковачем:
– Откуда тебе это знать?
– А вот оттуда… Только и твержу, что про честность – то честно, другое честно, а стоит меня завести, и я как баран у новых ворот – стою и не могу из себя слова выдавить, просто не знаю, что сказать.
– Ну к чему ты сейчас это все говоришь? Ты ведь знаешь Дюрицу – человек он странный, с причудами, любит подразнить своих друзей, раззадорить их, вот и эту историю придумал, чтоб вам досадить… Не придавай этому большого значения…
Ковач поднялся, снял с вешалки пальто. Вынул сигарету, закурил и, набросив пальто на плечи, пошел к двери.
– Загляну в мастерскую…
Когда он открыл дверь, в лицо ему ударил колючий туман. Остановившись у порога, он выпустил вверх струйку дыма. Потом зашагал в глубь двора, к мастерской.
«Надо будет завтра попробовать где-нибудь политурой разжиться, – подумал он. – Только сможет ли кто одолжить и сколько. Ежели не получится, придется на Телеки топать, хотя там за нее сдерут, не дай бог… Вот ведь странное дело! Бывает, наш брат столяр собственной политурой делится, самому мало, а делится – почему? А бывает, какой-нибудь торгаш на Телеки за политуру, которую черт знает где достал, огромные деньги дерет, – это как? Конечно, люди бывают всякие. У одного политура есть, а ремеслом не занимается, значит, не больно-то она ему и нужна, и все равно хранит ее дома в кладовке, сам не зная зачем. А другой, которому она тоже не нужна, продает за нормальную цепу, не собираясь на этом наживаться, хотя, привези он эту политуру на рынок, мог бы огрести за нее немалые деньги. И ведь сам это знает и не гребет! А все потому, что люди бывают всякие! Как любит говорить жена. Одно дело – мастер Дюрица, другое – Кирай, и совсем иное – коллега Бела. А тогда почему бы мне не поверить, что фотограф сказал правду? Я ведь о нем ничего не знаю, и справедливо ли с моей стороны сомневаться, раз он так решительно заявляет? Хорош бы я был, если бы не поверил ему только из-за обиды – он-де может сделать выбор, а я нет… Вот и получается: странная это букашка – человек!»
Он взглянул на замок, висевший на двери мастерской, обошел стороной окно и возвратился к двери; прислонившись к косяку, плотнее запахнул на себе пальто.
«Все в этом мире вверх тормашками! И это одно – истинная правда, в чем можно убедиться с полной достоверностью. Ежели бы все было так, как должно быть среди людей, в мире и во всех государствах, разве пришло бы Дюрице на ум задавать подобные вопросы? Ежели человек задает такие вопросы, значит, он над ними размышляет. А ежели кто над такими вопросами размышляет, значит, не без причины. И раз люди о подобных вещах спрашивают и думают, то такое потому и возможно, что на свете и впрямь должны быть и Томоцеусы, и Дюдю! Неладное на земле творится, и это лучше всего доказывают такие вот вопросы, которые мы задаем друг другу. И человек готов над ними размышлять! Ежели бы все в порядке было, разве взбрело бы это хоть кому в голову? Нет! Никому! Все плохо, все… И самое печальное то, что всякий говорит – да, так жить нехорошо. Сам черт не разберет, печально это или скорее смешно? Сами плохо живем, и сами постоянно твердим, что так жить плохо. Плохо живем и не умеем сделать жизнь хорошей. А из-за кого жизнь становится плохой? Ведь ее люди сами делают. Стоит разговориться за стаканом вина или в компании, и тотчас выясняется, что всякий знает, как все плохо, и всякий знает, как надо вести себя друг с другом. И я тоже знаю! Вот, к примеру, старый Киш. Летом его дом бомбой разрушило, под развалинами жена погибла, а теперь вот и сына на фронте убили. Ничего у него не осталось, от мебели одни обломки; слепил я по его просьбе какой-никакой стол, шкаф, кровать. Хорошо бы теперь деньги с него получить, ведь и мне жить надо! При таких обстоятельствах мне бы рукой махнуть, не надо, мол, твоих денег, потом как-нибудь сочтемся! Только ведь и я лишь на то живу, что за работу заплатят! И добрым не могу быть, а то самому зубы на полку положить придется, ни хлеба не будет, ничего. Как тогда быть? Что это за мир, где человек не может стать добрым, потому что жить хочет? Вот уж поистине дьявольских рук дело! Хороших качеств у всякого хоть отбавляй, а жить согласно с ними не можем, потому как из-за невыносимого устройства жизни изо дня в день забывать о своих хороших свойствах приходится, то есть о том, какими мы можем и на самом деле хотели бы быть…»
Он направился обратно в дом.
«И что из всего этого следует? Получается так, будто по отдельности все мы люди добрые или можем быть добрыми, и только когда вместе – злые или по крайности не умеем быть добрыми! А что это значит в свой черед? А то, что всякий раз, когда мы злимся и срываем злость на своих ближних, после чего все у нас идет прахом, в нас говорит нечистая совесть, беспрестанно грызущая нас! Из-за того нечистая, что мы с каждым днем и каждым часом что-то в себе теряем. А на что способно множество людей с нечистой совестью? Чего от них ждать, если они не сочувствуют друг другу? Ведь если мы хоть что-то можем – это поверить друг другу, что каждый из нас сам по себе хотел бы стать добрым!»
Не докурив и до половины, он бросил сигарету и затоптал ее.
Жена на кухне мыла посуду. Ковач не стал ее ждать, как делал обычно, прямо прошел в комнату, зажег ночничок и начал раздеваться.
Уже сев на край постели, чтобы стянуть подштанники, он задумчиво покачал головой:
«Разве мы так уж привязаны к жизни? Или так сильно боимся страданий? Я бы вовсе не сомневался насчет того, что выбрать, ежели бы не был убежден, что родился для счастья. Только правда ли это? Пожалуй, я просто боюсь страданий! Но ведь как раз об этом и речь… Из-за этого, конечно, и нельзя жить, как Дюдю, как бы это ни было честно и порядочно. Вот до чего боязнь страданий сильнее честности…»
Он влез в ночную рубаху.
«И все же не такие уж мы, видать, безнадежные подонки. Разумеется, мы знаем, чего остерегаться и чему радоваться! Но все-таки правильна лишь та прежняя мысль: мы на земле для того, чтобы быть счастливыми! Это цель всего живого на земле! Главное веление жизни! Это же ясно как день! Ежели так повелел Творец, то этому нужно следовать прежде всего прочего. А ежели так велит не Творец, а природа, то и тогда все справедливо. С какой стати противиться, когда мне велят жить счастливо? Я согрешил бы перед лицом всяческих законов, если бы сам выбрал для себя горе и страдание».
Он положил сигарету на тумбочку, лег и натянул на себя одеяло.
«Как бы там ни было, первое требование порядочности я выполнил. Я не пропустил мимо ушей вопрос мастера Дюрицы, а размышляю над ним, не могу успокоиться, терзаюсь, ищу объяснения, но мимо ушей не пропустил… Стало быть, в общем, я не подонок!»
Помедлив немного, он добавил: «Разве что чуть-чуть… самую капельку, я все же – один из мелких негодяев!»
Когда вошла жена, он притворился спящим.
Госпожа Ковач легла рядом.
– Спишь? – спросила она.
– Нет, – ответил он. – Только стыдно самого себя, вот и делаю вид, будто это и не я вовсе…
– Ты все про то же?
– Да! Вернее сказать – уже нет… теперь столяр Ковач уже не думает, теперь он слушает…
Женщина тихо произнесла:
– Знаешь…
– Что?
– Я смогла бы сделать выбор…
Ковач в темноте повернулся к ней:
– Ты это серьезно?
– Да!
Они помолчали, потом жена Ковача сказала:
– Наверное, потому смогла бы, что слишком уж много несчастий выпало на мою долю – на три жизни хватило бы…
– В этом все дело?..
Конечно… – Женщина приподнялась на локте. Помолчала, потом снова опустила голову на подушку. – Я знаю, у вас дома тоже трудно жилось, но, когда вспоминаю нашу жизнь, уже и сама не понимаю, как мы вообще выдержали? Мне еще только двенадцать было, а я зимой ли, летом ли – уже с рассветом бежала в отдел доставки, и, когда другие дети, мои сверстники, еще только отправлялись в школу, я, полузамерзшая, уже кончала разносить газеты. Вниз по лестнице, вверх по лестнице… Понять не могу, как я это вытерпела? Один наш родственник на скотобойне работал. Так я каждое утро к половине восьмого к нему бегала, и он выносил для нас три литра сыворотки, они там ею свиней и телят кормили. Это и был наш завтрак. На девятерых-то детей! Боже мой, какая нищета! Сыворотку я носила в кастрюле, дужку к ней мы из шпагата связали, с этой кастрюлей, бывало, и таскаюсь, пока все газеты не разнесу, а на обратном пути смотрю, как другие дети в школу идут. На этом – одно зимнее пальто, на том – другое зимнее пальто, иной и в шубе шагает, а у меня рваные калоши на ногах и какой-то старый-престарый мужской пиджак, в хорошем платке и то теплее. В витринах выставлялись куклы с прическами, они всегда распродавались, покупатель всегда находился, только и они больше стоили, чем отец получал не знаю уж за какое время, пока у него была работа и не нужно было бродить в поисках случайного заработка – чтобы прокормить нас. У кого бы я ни работала, на меня лишь кричали, ругали мою мать, потому что я вечно ходила сонная, хотелось лечь и уснуть… И чтобы теперь самой стать одной из тех, кто кричит на обездоленных? Я-то помню, что тогда чувствовала!.. И что переживала, глядя на тех, кто меня бранил, хотя у них-то всего было вдосталь!
Помолчав, она заговорила снова: – Вот почему я смогу выбрать. Лучше уж любые лишения… в этом я, увы, разбираюсь! Но выбрать твоего Тиктаку или как его там – нет, лучше умереть!
Ковач не проронил ни звука. Оба долго молчали. Потом женщина вдруг сказала:
– Нет, все-таки я не смогу выбрать!
– Но ты ведь только что говорила, что уже выбрала?
– Да. Уже и выбрала… И все-таки не смогу! Я уже ясно чувствовала, вот как теперь, что предпочитаю участь Дюдю и никакую другую, – но тут вспомнила про вас! Ты не прав, будто не важно, одни мы или нет. Будь я сама по себе, я бы выбрала Дюдю, это так же верно, как то, что я вас люблю… А вот хватит ли у меня сил вынести, чтоб и вы страдали, как я? Разве моя мать не мучилась еще больше, глядя на мои муки? Разве не ей было хуже всех? И разве бы она не отдала все, что могла, лишь бы не видеть, как мы бедствуем?
Они опять помолчали, и лишь через некоторое время женщина заговорила снова:
– Все мы связаны с жизнью других людей и не можем решать, как подсказывает сердце! Иногда ради них мы способны быть сильными, а иногда из-за них же бываем совсем слабыми!
И прибавила:
– Очень, очень сильными… и совсем-совсем слабыми!
Она не сказала, что окончательно выбрала Тиктаку.
Хотела сказать, но не повернулся язык.
Ковач лежал неподвижно, вглядываясь в окружающую тьму.
«Счастливый человек! – мелькнула мысль. – А я только о себе думал…»
Позднее, уже далеко за полночь, услышав ровное дыхание жены, он осторожно слез с кровати и прямо тут же опустился на колени. Уткнувшись головой в кровать, сложил вместе руки. И стал молиться, как привык с детских лет, но на этот раз исповедуясь в своей слабости; чувствуя, как комок подкатывает к горлу и как пылает лоб, молил бога простить его за то, что он окончательно выбрал Томоцеускакатити, – увы, слаб человек, и никому это не известно лучше, чем богу!








