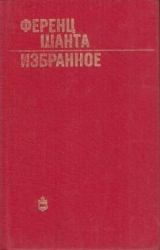
Текст книги "Пятая печать"
Автор книги: Ференц Шанта
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Да и не только это… – поднял голову хозяин кабачка. – В наших учебниках по истории рассказывается, как короля в его собственном шатре убили…
– А Пишта Тиса! {4} – вспомнил Ковач.
– Вот то-то и оно! Никто из них не мог быть спокоен за свою жизнь! Может, у них только тем голова и занята – как бы их кто не убил! А теперь скажите, зачем людям большая власть? Или несметное богатство? Какой им прок от того, что они могут приказывать, распоряжаться деньгами и всем прочим, если вечно приходится опасаться, как бы кто – о господи – не заколол, не застрелил или еще чего не сделал?..
– Вот видите! – удовлетворенно произнес книготорговец. – От этих людей всегда одно несчастье! От всех тех, что носятся с мыслью как-то изменить мир и все вокруг… Представьте себе те бесконечные проклятья, только успевай карман подставлять, которыми поминают их люди! Матери бранят их за отнятых детей, жены – за мужей и так далее! Такая жизнь, уж поверьте, не сахар!
– Судите сами, – заговорил Ковач, – я ведь и правда не богач, прислуги не держу, работаю сам и живу – по одежке протягиваю ножки! Я не жалуюсь, на хлеб хватает… Особо не преуспел, сколько ни старался, забот много, просто хоть отбавляй, и все-таки…
Он помолчал, откинулся на спинку стула и, положив обе руки на стол, продолжал:
– Короче, я вот что хочу сказать, – в голосе его послышалось умиление, – я хочу сказать, что – только не смейтесь – мне с самого раннего детства очень хотелось иметь фонограф. Поговоришь в него, а потом слушаешь, что сам сказал. Ребячество, конечно, да ведь несколько десятков лет мечтал, и теперь еще случается… И вот – нет у меня фонографа! Так и не смог купить, хотя уже и голова седая! А ведь работаю честно, можно сказать – от зари до зари; жизнь прожил, а так и не осуществил своей великой мечты, которая на самом-то деле – пустяк!
– Тоже верно! – заметил хозяин кабачка. – В сущности, пустяк и есть…
– Да, – кивнул столяр. – Только и есть, что проволока, какая-то пластинка, катушка и еще бог знает что, всего килограмм на десять, и эти-то десять килограммов невесть чего я так и не смог приобрести за всю жизнь. То обувь детишкам, то одно, то другое, то для домика что потребуется, а ну как умру? Семью без гроша не оставишь, пусть хоть детям легче будет начинать… Короче – не получилось!
– Так! – сказал книготорговец, задержав на говорившем взгляд.
А Ковач продолжал:
– И все же скажу вам… Моя маленькая жизнь, несмотря на постоянные неудачи и вечные заботы, стоит больше, чем жизнь какого-нибудь высокопоставленного лица! Имени моего никто не вспомнит, а если кто и вспомнит, то добром помянет. Нет у меня ни богатства, ни власти, даже ерундового фонографа нет, зато совесть моя спокойна. Лучше уж я другим предоставлю и право распоряжаться, и несметное богатство, зато сам буду спокойно спать по ночам, а когда случится пройтись по улице, люди скажут: вот идет столяр Ковач, порядочный и работящий человек. С меня и довольно. Верно ли я говорю, коллега Бела, старый друг?
– Все верно, старина, именно так… Зато на именах наших грязи не будет. Ничего великого мы не совершили, в учебники по истории имена наши не попадут – черт побери! – но и злым словом нас не помянут. И то хорошо. А там и уйдем однажды… потому как… никто не вечен. Ведь так, мастер Дюрица?
– Разумеется! – ответил, зевая, часовщик и взялся за стакан.
Подняли стаканы и остальные.
– Вот какие мы люди, дорогой гость! – воскликнул коллега Бела, обращаясь к фотографу. – Дай вам бог долгих лет жизни! Ваше здоровье, дорогой… э-э, как вас?..
Фотограф, часто моргая, поднял на трактирщика глаза.
– Кесеи, – напомнил он, – Карой Кесеи…
– Очень приятно, – отозвался хозяин.
Все, пожав друг другу руки, залпом осушили стаканы. Фотограф откашлялся, вытер губы и заговорил, то и дело моргая и от постоянного смущения барабаня пальцами по столу:
– Все же… с вашего позволения… Вы понимаете, тут тоже что-то есть, если человек озабочен не только тем, как набить себе брюхо, иметь свой домик. Там, в глубине сердца, у него живет мечта, чтобы не только ему, но и всем людям на земле было хорошо, и он начинает ломать голову, как бы этого достичь… Ходит он взад-вперед по улице, гуляет, возвращается домой… но и перед сном продолжает думать, как бы все устроить получше, что бы такое людям следовало предпринять. Потом, когда ему покажется, что способ найден… у него рождается желание, чтобы его слова были услышаны и все, до чего он додумался, сбылось…
Фотограф опустил голову и принялся теребить кромку скатерти:
– В общем, я хочу сказать, что… человек даже жизнь свою мог бы отдать за то, чтоб не только ему было хорошо, во в чтоб сбылись его думы о человечестве!
Часовщик вскинул брови и произнес:
– Гоп!
Фотограф поднял на него глаза:
– Что вы хотели сказать?
– Ничего! – ответил Дюрица, откидываясь на спинку стула. И снова принялся внимательно рассматривать потолок.
– А у меня, знаете ли, – заговорил хозяин кабачка, – всегда было желание развести где-нибудь такой же сад, как во Франции возле одного великолепного замка! Его называют Версалем, там еще проходили мирные переговоры. Подростком я как-то работал у барина, при садовнике состоял. Какой это был мастер! Целых два года работал я у него подручным, и, должен признаться, мне повезло. Он рассказал мне про этот замок и про сад. Показывал снимки. Там всегда выращивалось девяносто тысяч розовых кустов. Это был не просто сад, а композиция, то есть такое искусственное насаждение: от замка во все стороны расходятся клумбы, ряды деревьев и кустарников, подстриженных на один манер, там же пруды, фонтаны и все такое, а только потом идет уже настоящая роща, роскошный английский парк с беседками, мостиками прямо из необработанных бревен, в общем такой, как у наших Эстерхази. Так вот я, чтоб вы знали, решил: ни за что не умру, пока такую же работу не сделаю и пока не увижу тот сад в Версале! Что же из этого вышло? Ничего… А ведь это было мое единственное настоящее желание. Теперь уж я об этом и не мечтаю… – Черт с ним! Куда уж мне теперь? И все-таки я так думаю – если за то, чтоб на этот сад посмотреть и у себя дома насадить такой же, пришлось бы совестью поступиться, то лучше уж не надо. Для какого-нибудь барина такое желание исполнить – все равно как мне до стойки шаг сделать, во пусть уж лучше все остается, как есть, лишь бы меня потом не проклинали и не пришлось бы за свою жизнь опасаться – а ну как многие начнут на мое место зариться, так что и головы спокойно не преклонить… Да провались все это к черту, если покоя не будет…
– Стало быть, так, как есть, всего лучше! – подхватил столяр. – Хорош бы я был, если бы глядел из окна на людей, как они туда-сюда снуют, а сам бы сидел себе за стеклом, и не было бы мне до них никакого дела… Неладно это! Ваша правда, господин Кирай!
– Бедность бедностью, а я, хотите смейтесь, хотите нет, выскажу все, как есть, – сказал коллега Бела, – у меня тогда хорошо на душе, когда я такой, как все, и делаю то же, что и другие! По мне, это все равно как в теплой воде плескаться. Однажды случилось мне с женой отправиться в кино «Форум», сами знаете, какое это приличное заведение, там всегда только премьеры показывают. Не помню уж, какой шел фильм, только подходящих билетов нам не досталось, оставались какие-то совсем уж дорогие места. Что ж, говорю, пошли! Оказались мы на лучших местах, кругом одни шикарные господа. Ну, доложу вам, никогда еще мне так скверно не было! Уж и не пойму, что за чудаки вокруг? Хотите верьте, хотите нет, только они совсем не тогда смеялись, когда следовало бы. Там, где вас с женой смех разбирал, они тотчас шикать начинали, а во время перерыва так на нас смотрели, что после этого мы даже и дышать боялись. Так и просидели всю картину, не смея дохнуть, потому не знали, как им угодить. У меня аж воротник от пота мокрый стал… Сам черт их не разберет!
Швунг поднял вверх палец:
– Вот я и говорю, друзья, не надо обращать на них внимания…
– Да ведь не в том беда, что мы на них внимание обращаем, – возразил коллега Бела. – Пусть на них чертова бабушка внимание обращает. А в том, что они на нас обращают! Когда нужно и не нужно! То одно делай, то другое, столько-то государству заплати, за то, за сё, встань сюда, вставь туда, а теперь отправляйся в солдаты, потому что мы задумали одно великое дело, которого тебе и не понять, ты ведь даже не знаешь, когда в кино смеяться нужно; а теперь иди с крестным ходом или вывешивай на доме флаг, потом снимай, получай по одному талону хлеб, а по другому жир, верь тому, что говорю я, а теперь тому, что говорит главарь другой партии, метящий в премьеры… словно ты паяц! Чтоб тебя за веревочку дергать!..
Ковач улыбнулся:
– К этому, коллега Бела, надо относиться так же, как к граду! Он повалит в свой черед, и с этим ничего не поделаешь! С тех пор как стоит мир, так было и так будет. Польет тебя дождичком, а ты отряхнись, как собака, и все. Что тут поделаешь?
Ну, вообще-то можно и головой о стену биться! – заметил книготорговец. – Но сколько ни бейся – конец один: мир – это большая казарма! Миллионы рядовых, сотни тысяч сержантов и взводных – короче, несколько сотен тысяч мелкой сошки довольно серой породы. Потом несколько десятков тысяч офицеров, объясняющих мелкой сошке, что и как надо делать; затем несколько сотен генералов, над которыми несколько маршалов, и, наконец, главнокомандующий, или фельдмаршал, или как там еще – званий они себе напридумывали – что ни государство, то новое звание. Так вот и устроен мир! Ну, а раз так, то что можете сделать, например, вот вы. – Он повернулся к фотографу. – Что вы, как рядовой, можете предпринять в такой армии? Вам не остается ничего другого, как заткнуться и делать все, как велит такой вот сержант или взводный. Не забудьте, разговаривать вам придется не с генералом – еще чего! – а с сержантом или капралом. Ничего вам предпринять не удастся! Но устроим передышку: вы думаете, что раз уж сержант вами командует и на правах унтер-офицера может украсть на кухне для себя мозговую косточку, так ему уже лучше, чем вам? Глубоко заблуждаетесь! Ведь я ему дозволено лишь то, что прикажут офицеры. А кто такие офицеры, что им командуют, позвольте спросить? Если они едят на белой скатерти и не там, где жрут рядовые, если на них там-сям галуны навешаны, то они уже в лучшем положении, чем вы? Да ничего подобного! Ведь и они лишь то делают, что генерал прикажет. Ничем они от вас не отличаются. Только и разницы, что вами капрал командует, а ими генерал. Вот какая штука получается! В чем, стало быть, разница? Каждый делает лишь то, что ему приказано! Благодарю покорно за такую разницу!
– Но кое-какая разница все-таки есть, – не согласился Ковач, – когда приказывает генерал, у него все-таки по-другому получается.
– В чем же, помилуйте, в чем?
– Все именно так, как говорит господин Кирай! – одобрил коллега Бела. – Я бы даже добавил, что рядовой оказывается еще и умнее, он ведь как рассуждает: я шишка небольшая, мне лишь то и дозволяется, что прикажет сержант или другой начальничек! А этот несчастный офицер или генерал еще думает мудрой своей головой, будто он на особом положении. К нему ведь порой и на «ты» обращаются, когда командуют «направо», «налево» и прочее!.. {5} Блеск, ничего не скажешь! Словно от этого хоть что-нибудь меняется в существе дела, когда он и пикнуть не смеет, разве что с разрешения, да и то шепотом. Думает, если нижестоящими командует, то сверху уже не выглядит таким же ничтожеством, какими сам считает рядовых или сержантов?
Швунг кивнул:
– Именно так, коллега Бела! Я вижу, вы поняли, о чем речь… А теперь представьте себе генералов и маршалов. Может, они в ином положении? Такие щеголи – и спереди, и с боков, и везде разными бляшками да побрякушками сверху донизу заляпаны, словно сургучом! А если шутки в сторону? Они тоже без приказа не пикнут. И все же каждый из них о себе такого мнения, будто он голова и гений! Вашему старшему советнику тоже лишь то позволено, что скажет министр, статскому советнику лишь то, что велит тайный, а тайному лишь то, что прикажет премьер. Красивая картинка получается! Тогда пусть уж лучше у меня достанет ума и чести повторить разумный довод рядового солдата: мне слов не положено, не я пуп земли…
Ковач задумчиво кивнул:
– Все истинно так! Правда, как просто? – обратился он к Дюрице.
– И того проще! – заявил часовщик и, опершись спиной о спинку стула, приподнялся на одной ягодице и звучно выпустил ветры.
Кирай, поднявший было руку, чтобы продолжить разговор, застыл в неподвижности. Фотограф отшатнулся и настороженно посмотрел на часовщика.
– Господин Дюрица, – краснея, произнес книготорговец.
– Чего изволите? – спросил часовщик.
– Господин Дюрица! – повторил Кирай.
Хозяин кабачка опустил голову и улыбнулся. Ковач, моргая, посмотрел сначала на Дюрицу, потом перевел взгляд на Карая.
– Я не намерен больше этого терпеть! – выкрикнул книготорговец. – Никто не заставит меня сидеть за одним столом с таким человеком!
– Да почему? Что, у вас на этот случай другой способ есть? – невозмутимо посмотрел на него Дюрица. – Через особую петлю? Или в карман?
– Хоть теперь помолчали бы! – стукнул по столу Кирай.
– А вы, пока тут сидите, ни разу так не делали? Вы это хотите сказать? – спросил часовщик.
– Я запрещаю вам раз и навсегда!
Ковач, потупив взгляд, сказал:
– Вы очень хорошо знаете, господин Дюрица… как я вас уважаю… но от подобных вещей будьте добры нас избавить!
Хозяин кабачка тихо заметил:
– Могли бы уж, кажется, и привыкнуть…
– К эт-тому невозможно п-привыкнуть! – от волнения книготорговец начал заикаться. Потом обратился к фотографу: – Пожалуйста, забудьте об этом… э-э-э… неописуемом происшествии!..
И замолчал, теребя воротничок сорочки. Поправил галстук и, выпятив подбородок, высвободил шею. Затем, несколько понизив голос, снова обратился к часовщику:
– Я серьезно заявляю, вы хуже испорченного мальчишки. Надо же иметь хоть каплю такта, раз уж нет ничего другого! Мы только одного хотим, чтоб вы стали наконец чуть повнимательнее к людям! Неужели трудно понять?
– Продолжайте ваше выступление, господин Кирай! – попросил коллега Бела.
– Человек не затем садится побеседовать с друзьями, – заключил Швунг, передернув плечами, – чтоб позволять себе подобное свинство… Так-то!
Он тряхнул головой и обернулся к хозяину кабачка:
– Как вы сказали, коллега Бела?
– Что у вас еще про казарму?
– Больше ничего! Я все сказал!
– Все именно так, как вы тут изобразили!
– Из всего этого я хотел бы сделать такое заключение: если мир устроен так же, как казарма, где только ограниченные тупицы верят, будто могут поступать по собственному разумению, то о таком мире нечего и жалеть… Много ли толку в том, когда рядовой идет против приказа? Вы знаете, что такое внутренний распорядок? Как-то раз за четверть часа до увольнения сержант приказал мне вымыть клозет, кем-то загаженный. Я ему говорю – не я, мол, его загадил и вообще эта уборная не нашего отделения. За что он заставил меня вымыть все уборные на двух этажах – и это в воскресенье после обеда, когда у меня увольнительная в кармане! А вдобавок составил рапорт, будто мое лицо, когда я докладывал об окончании уборки, выражало угрозу. Вызвавшему меня офицеру я объяснил, что со мной обошлись несправедливо, но тот заявил, что не позволит критиковать армию, и велел посадить меня в карцер. С этого дня я стал козлом отпущения для всей роты, и не было такого свинства, которого бы надо мной не учиняли! Ну вот, разве в мире не так же дела обстоят? Открыл рот… и ты уже набитый болван. Всякий может к тебе придраться – и конец! Стоило один раз открыть рот, как ты уже для всех бельмо в глазу и, образно говоря, обречен отныне чистить все наличные клозеты!
– Помните, как я в прошлом году на рождество ездил? – спросил столяр. – На той машине и с той женщиной?
Хозяин поднял бутыль и взглянул на фотографа:
– Про это, сударь, стоит послушать!
– В этой истории много поучительного! – добавил книготорговец.
Ковач вместе со стулом подсел ближе.
– В канун сочельника был я у своей старшей сестры, в Векерле. Крестничку подарок привез. На обратном пути заскочил к одному знакомому столяру на улице Барош за какой-то мелочью. Подхожу к Большому Кольцу и вижу, как на одной из улочек двое верзил пристают к женщине. Светло еще было, то есть, во всяком случае, все видно – насильничают они над ней, притиснули к стене, бедняжка хотела бы закричать, да они зажали ей рот и уже юбку разодрали под коротенькой шубкой. Подбегаю я к ним и спрашиваю, что, дескать, происходит? Один из верзил отвечает, проваливай, мол, пока цел! Тогда я подступаю вплотную и начинаю несчастную женщину у них из рук вырывать. Меня бьют, но и им достается. «Хулиганье, – кричу, – я вам покажу, как с женщиной обращаться!» И луплю изо всех сил. Тут вдруг останавливается возле тротуара роскошная машина, выскакивает из нее еще один хмырь – и бац меня в машину вместе с женщиной! «Заткнешься ты наконец, дурак?» – спрашивает один из них, а другой как хряснет меня по зубам, я после этого еле-еле отдышался…
– Вот как надо клозеты чистить! – заметил книготорговец.
– Короче говоря, – продолжал Ковач, – привезли меня в полицию, потому как женщина оказалась не то карманной воровкой, не то взломщицей, не то еще кем, а эти верзилы – сыщиками, на той улочке ее как раз и зацапали! «И какого черта вам во все обязательно влезть надо, олух вы этакий? – спрашивает меня потом тот сыщик, что по зубам съездил. – Чего вы суете нос в дела, которые вас не касаются?» Ну, вот и вся история… А ведь меня всегда учили – и в бойскаутах, и в конгрегации, и везде: если можешь, помоги! Хорошо же мы выглядим, доложу я вам… И что после этого делать прикажете?
– Очень просто! – объяснил книготорговец. – Как в армии! Раз не твое дело, помалкивай!
– Очень правильно вы только что сказали, коллега Бела: ежели мир велит вылизать пол, значит, нужно вылизать – и дело с концом! Рядовой – цыц! Зажмурь глаза, заткни уши. Командуют здесь они, люди их круга! А вот что мы думаем – уже наше дело, в мысли не заглянешь. Хотя бы это нам остается! Разве не так?
Фотограф разгладил перед собой скатерть и, водя по узору указательным пальцем, заговорил:
– А я… я вот что скажу, – и он снова покраснел, как краснел всякий раз, начиная говорить, – я скажу: даже если и в десятый раз с таким делом столкнешься, надо и в десятый раз вмешаться! Это, если угодно, человеческий долг. И если мы уклонимся – то как же нам себя уважать?
– О-хо-хо!.. – вздохнул Кирай. – Да вы, как видно, из неисправимых.
Ковач повернулся к Дюрице:
– А вы что на все это скажете, господин Дюрица?
– А я только удивлюсь, – ответил Дюрица, – как это у вас животы от скуки не подводит!
Книготорговец поднял стакан:
– Ну, конечно… Если бы разговор шел о несовершеннолетних девочках, господин мастер не строил бы такую кислую мину!
– Вы так полагаете? – взглянул на него Дюрица.
– Да, полагаю, дорогой друг!
Дюрица перевел взгляд на Ковача и погрозил указательным пальцем:
– Остерегайтесь людей, которые любят говорить «дорогой друг»! Это у них не от искренности, а от двоедушия!
– Да, я так полагаю! – повторил книготорговец. – И если вы еще не потеряли обоняния, то выкиньте, немедленно выкиньте гадость, которую держите, иначе я уйду!..
Дюрица, пока шел разговор, вынул из нагрудного кармашка старенький картонный мундштук и, два-три раза дунув в него, принялся старательно заправлять внутрь кончик сигареты. Такого рода мундштуки продавались в киосках за три-четыре филлера и вполне себя оправдывали – после нескольких сигарет, пока карман или бумажник не успел провонять, их в отличие от других мундштуков не жалко было выбросить. И когда Дюрица продул свой мундштучок, вокруг распространился запах табачного пепла, зловонный до неприличия. Мундштук был явно старый, хотя внимательный взгляд мог заметить на нем следы тщательной чистки.
– Вам и это не нравится? – поднял сонный взгляд Дюрица, и тут же, слегка скрутив сигарету, вставил ее в мундштук.
– И как вообще человек с приличным заработком может так долго таскать с собой подобную мерзость? Объясните мне это наконец!
– Могу одно сказать: не нравится, не смотрите. Какое вам, собственно, до этого дело?
Подняв взгляд на книготорговца, Дюрица спросил:
– Вы, кажется, что-то сказали?
– Поступайте, как хотите, – махнув рукой, Кирай повернулся на стуле. Взял из хозяйской пачки «Дарлинг».
– Позволите, коллега Бела?
– Само собой… Угощайтесь! Все угощайтесь, – пригласил хозяин кабачка, пуская пачку по кругу. – А что касается мундштука господина Дюрицы, то… короче – как с ним быть?
– Если бы он хоть из вишневого дерева был или там из янтаря! Но целую жизнь протаскать такую дешевку?!
Ну и вкус у вас, ничего не скажешь! Да разорвите вы его или выбросьте, и воздастся вам: я завтра же принесу вместо него мундштук из янтаря, клянусь богом, принесу, только выбросьте это к черту!
– Не убивайте своего лучшего друга, господин Кирай! – заметил хозяин кабачка. – Может, господин Дюрица и впрямь хочет пользоваться им всю жизнь?
Дюрица вскинул брови, бросил на говорившего насмешливый, но доброжелательный взгляд и, с поразительной точностью подражая голосу книготорговца, сказал:
– А что, если и в самом деле хочу? Но все-таки, чтобы доставить радость вашему дорогому эйропейскому другу, я обещаю в свой смертный час разломить эту штуку пополам! – При этих словах он указал на мундштук и, все так же подражая голосу книготорговца, продолжал: – Вы довольны, дорогой друг?
Все, кроме книготорговца, расхохотались. И только фотограф сидел, погруженный в свои думы, и на его худом, бледном лице по-прежнему проступал багрянец.
Дюрица закурил. Сонливости на его лице как не бывало, хотя взгляд оставался все еще ленивым, как и движения, когда он нагнулся вперед. Не приглашая остальных, залпом выпил свой стакан, не спеша поставил его на стол и обратился к столяру:
– Итак… что я на все это могу сказать? Вы об этом хотели узнать, сударь?
– Да, да, – с готовностью подтвердил Ковач.
– Так вот, я хотел сказать, что было бы неплохо, если бы коллега Бела предложил нам еще немного вина! Со своей стороны я хочу кончить обычной шипучкой, если вы, коллега Бела, ничего не имеете против…
Коллега Бела поднялся. Составил вместе пустые стаканы, выжидающе посмотрел на фотографа, у которого оставалось вина всего на палец.
– Стало быть, славный ужин будет у вас сегодня, господин Кирай! – сказал столяр, отгоняя ладонью дым «Дарлинга». – Однако вы не кончили про грудинку. Вы сами готовите или жена?
– Разумеется, готовлю я, как уже было сказано… Стало быть, когда шпиговка закончена, вы берете определенное количество начинки, вернее, прежде вы должны ее приготовить…
Фотограф накрыл свой стакан ладонью:
– Благодарствую, нет… Вы так любезно пригласили меня к своему столу, но мне уже нора, только вот докурю сигарету. Право, это было очень любезно с вашей стороны…
– Пожалуйста! – сказал коллега Бела и, распрямляя затекшие ноги, направился к стойке за традиционной порцией шипучки – газированного вина для всей компании.
Читатель уже, конечно, в курсе того, что, несмотря на обращения вроде «господин Ковач», «сударь», «дорогой друг», на частые и разнообразные выражения учтивости вроде «с вашего позволения», «разрешите обратить ваше внимание» и им подобные, – несмотря, стало быть, на все это, перед нами компания, где все давно уже знают друг друга. Учитывая психологию людей того склада, о которых рассказывается в нашей истории, познакомившись с их привычками и повадками, вы сможете уяснить себе, что за такими манерами на самом деле скрывается глубокая взаимная привязанность, любовь и уважение. Подобные выражения, для постороннего наблюдателя звучащие столь забавно, внутри определенного общественного слоя представляют собой своеобразный стиль общения. Если бы нам случайно довелось сопровождать Кирая во время дружеского визита, например, к столяру, мы могли бы услышать, как он здоровается с хозяйкой дома: «О-о, целую ручки, милостивая государыня, не лишайте меня удовольствия еще раз облобызать вашу лапку!»… На что женщина в ответ: «О господин Кирай. Человек вечно лучшего жаждет, как я погляжу». И самое необычное – что разговор идет в шутливых полутонах. Отсюда можно сделать вывод, что мы имеем дело не с чем иным, как со стыдливым и в то же время ироническим подражанием культурным ценностям, заимствованным у элиты. И это поведение настолько обязательно, что пренебрегать им или просто не владеть его формами – значит носить на лбу неизгладимое клеймо чужака. Все это мы сочли нужным отметить, чтобы укрепить читателя в его мнении, уже сложившемся в ходе предшествующего рассказа: речь действительно идет о гражданах, исполненных взаимного уважения и готовых поделиться друг с другом своими радостями и горестями, о людях, которых читатель уже имел счастье знать но бесчисленным творениям литературы. Но можно ли сказать, что они знакомы нам до конца? И раз к слову пришлось, давайте сразу же добавим: не существует людей менее свободных и более связанных, чем писатель. Он не может идти на уступки в вопросах верности, не рискуя изменить самому себе. И если мы будем и дальше следить за беседой нескольких человек, то это совершенно сознательно – и как выяснится в конце, абсолютно необходимо – делается во имя верности.
– Приготовление начинки так же важно, как и шпиговка! – продолжал книготорговец. – Не знаю, как другие – ведь сколько семей, столько и обычаев! – а я готовлю так: прежде всего беру яйцо, круглую булочку, жир, петрушку, зелень и все остальное, но самое главное дальше… Попробуйте как-нибудь, господин Ковач! Дальше берем салями зимнюю, нарезанную мелкими, я бы сказал мельчайшими, кусочками, почти фарш! Вы поняли? Зимнюю салями! Именно так, как я сказал! Это вам небось и в голову не приходило, а?
Тем временем вновь появился хозяин кабачка, неся «шипучку»; усаживаясь, он слегка подтолкнул столяра локтем. И, сделав книготорговцу знак головой, спросил:
– А чеснок вы уже положили, уважаемый?
– Положил, коллега, положил! Даже больше, чем вы думаете…
– Но ведь класть следует ровно столько, сколько нужно. Не так ли, господин Ковач?
– Столько и положил, лишь бы вам угодить, господин умник!
Ковач обратился к коллеге Беле:
– Вы кладете в начинку салями?
– Да вы что, шутите?
– А я кладу! Что вы на это скажете? – сказал книготорговец. – Вам такое не по вкусу?
– А лошадиной колбасы не кладете? А может, зельц или ливер?
– Нет. А вот тонко нарезанную, нарубленную салями кладу. Знаете, что это такое? Пробовали когда-нибудь? Если не доводилось, дорогой друг, то не возражать надо, а ценить мудрый совет!
– Короче, как вы поступаете с ливером?
Ковач перебил:
– Он говорил о салями…
– Верно… тогда что вы делаете с салями?
– Нарезав мелкими кусочками, кладу в начинку. Вроде как бы крошу вместе с булочкой и вареным яйцом… вы понимаете…
– Может, оно не так уж и плохо, – заметил Ковач.
Швунг потянулся за стаканом, и в это время взгляд его упал на Дюрицу. Поставив стакан обратно на стол Швунг воскликнул:
– Нет, вы посмотрите! Вы только посмотрите на этого… на этого…
Часовщик, откинувшись на спинку, покачивался на стуле и смеялся, сощурив глаза и осклабившись.
– Чему вы радуетесь? – спросил книготорговец. – Ангел явился или другое что нашло? Сам сатана мог бы поучиться, если бы видел теперь вашу физиономию! Что вы ухмыляетесь, господи прости!
Дюрица качнулся на стуле, спросил:
– А что, нельзя?
– Почему же нельзя! Даже четвероногие могут радоваться, я сам видел… Повисли на решетке и радовались собственным ушам!
– А вы стояли рядом и наслаждались зрелищем, потому что на более серьезное дело у вас ума недостает…
Подавшись со стулом вперед, он продолжал:
– Впрочем, если вам очень интересно, могу сказать, что мне пришло кое-что на ум, вот я и обрадовался. Вы к этому тоже имеете отношение! Ответьте-ка, что вам больше нравится – чичока или фаршированная телятина?
Фотограф собирался было встать, он уже положил ладонь на край стола, но Дюрица окликнул его:
– Останьтесь еще ненадолго, пожалуйста! – И помахал рукой, после чего удивленный человечек снова опустился на свое место.
– Я вас долго не задержу! – еще раз повторил часовщик.
И снова обратился к книготорговцу:
– Я сказал «чичока». Вы знаете, что это такое?
Кирай недоверчиво посмотрел на него, потом на остальных, пожал плечами и развел руки.
Заговорил столяр:
– Чичока? Это что-то вроде картофеля. Вы не знали, господин Кирай?
– Ну и что из того, что не знал?.. Ну, не знал… Может, вы один и знаете?
– Я спросил, – уточнил Дюрица, – что вы любите больше? Чичоку или телячью грудинку?
Книготорговец осклабился:
– Развлекайтесь со своими несовершеннолетними…
– Я спросил, что вы любите больше?
– А знаете? – Кирай пожал плечами. – Чичоку я оставляю вам!
– Значит, грудинку?
– Именно! Телячью грудинку! Вы удовлетворены?
Дюрица строго посмотрел на него и произнес:
– Я, простите, не шучу!
– Скажите ему: больше, мол, люблю телячью грудинку… – подсказал трактирщик.
– Телячью грудинку! – на этот раз искренне ответил книготорговец и растерянно посмотрел на серьезное лицо часовщика.
– Правильно! Благодарю вас… – произнес Дюрица и, откинувшись на спинку, стал смотреть на потолок.
Кирай, ничего не понимая, обвел взглядом остальных. Потом поднял руку и поднес ко лбу.
– Тук-тук?..
– Ай-яй-яй! – покачал головой коллега Бела и ухмыльнулся.
– Ну, а теперь над чем вы размышляете, уставившись в потолок? – обратился Кирай к часовщику.
– Над тем, – отвечал тот, прищурившись, – кем мне стать: Томоцеускакатити или Дюдю?
Книготорговец так и остался стоять с открытым ртом. Потом сказал:
– Ах, ну да! Гм! Да… Видите, какой ясный наконец пошел разговор! Впрочем, я всегда говорил, что вы умеете и понятно выражаться, только с вами надо иметь терпение и вас нельзя раздражать. Ну, а что думают об этом остальные?








