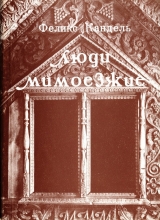
Текст книги "Люди мимоезжие. Книга путешествий"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
– Ладно, – говорю. – И без него хорошо.
– Ты что! – всколыхнулся. – Ты кто?! Вы завтра умотаете отсюдова, – с кем пить-то буду? Полтора мужика на деревне: помрет ненароком – осиротею, облапошить некого...
И покатил из избы.
Я за ним.
Догнал на улице, попридержал у калитки.
– Эй, – говорю, – а со мной как? Покупать избу или не надо?
– Которую?
– Да хоть эту.
Поглядел на меня прямо, неотрывно, сказал без утайки:
– Я тебе честно скажу, чуж-человек... Тухлое это дело. Тебя домовик не примет. Он тут капризнай! – не приведи Господь.
– А в другом доме?
– И в другом не примет. Станет прокудить – сам из избы уйдешь.
И попылил следом за Петей.
Одна нога целая, другая – колесом.
А я на месте остался.
6
Гнали по домам стадо.
Пастух кнутом щелкал.
Коровы пыхтели, отдувались, пахли травою.
Женщины стояли у ворот, окликали певуче, по имени, а те мычали в ответ, густо, напоённо, важно кивали головой, как соглашались милостиво.
Одна прошла рядом, боком меня огладила, глазом осмотрела в упор.
Я и пошел за нею.
Мальчонки на лавке уже не было.
Миска стояла с водою, без картошки на дне.
Уж не всплыла ли часом?..
Сунулся лицом в щель заборную, дом оглядел заколоченный, свой почти что, заблажил вдруг в голос – душа на ладони, сердце на языке:
– Дедушка! Дедушка-домовик, прими! Я к тебе с почтением, я к тебе с пониманием. Станем вдвоем вековать: ты хозяин, я квартирант. Чердак – тебе, амбар – тебе, хлев с подполом – тоже тебе. Дозволь в сторонке, дозволь с краешка: у окна сидеть, печь топить, картошку варить, в огонь глядеть. Дедушка, не гони! Может, и я пригожусь. В лес пойду, сухостою нарублю, стану приносить домой по лесине. В поле пойду, трав наберу духовитых, насушу, разложу по лавкам. К речке схожу, песку нагребу, чистого, крупного, полы ототру до чистоты дерева. Дедушка-домовик, пусти! Вот он я, дедушка! Весь тут!!
Поддуло фырчливо понизу.
Дослепу запорошило глаза.
Без жалости отворотило от забора.
– Ах, дедушка, дедушка...
Позакрывались ворота по деревне.
Позажигались огни.
Затенькало проворно по подойникам.
Запахло варевом.
Потянуло ветерком.
Я шел обратно в закатных смерканиях, задавленный и порушенный, ноги волочил за собой.
Пришел в избу, зажег свет, без сил привалился к двери.
Запахи кислые. Объедки скользкие. Канистра боком. Разор на столе.
Мой ублаженный друг стоял на коленях посреди избы, качался, лбом стукался об пол:
– Дедушка-соседушка! Батюшка-хозяюшка! Прости дурака…
– Надо же, – говорю. – Что пиво с человеком делает.
Поглядел на меня кротко да отвечает:
– Рубаха у него красная. Борода у него серая. Ладони у него мохнатые. Брови густые. Ноги кривые. Голос глухой. Рукавицы на веревочке, через шею, чтобы не потерять. Домовик – тот же леший, только что обрусел.
– Ты почем знаешь?
– Беседовали, – говорит. – Как с тобою.
– И что?
– Лютовал. Ногой топал. Синяков мне наставил. Не чванься. Не строй из себя. Не пакости в доброй избе. Угощенье оставляй дедушке. Купил дом – так с домовым.
Обошел вокруг, оглядел его с пристрастием.
Не плывет, не парит, не бурлит и не взмывает, не взыгрывает чувствами, не воркует из забытья, не взвивается от восторгов из глубин опьянения.
Холодный и рассудительный.
– Уходить тебе, – сказал буднично. – До ночи чтоб не было. Так и припечатал.
– А тебе?
– Мне – оставаться. На испытательный срок. Умолил еле. Зарок дал. Кару наложил. Дедушка-соседушка, не гневись!
Сел на лавку. Канистру отодвинул. На друга поглядел.
– Тебе, – говорю, – не прижиться. Не подладиться. Не срастись по сколу.
А он:
– Приноровлюсь. Прикиплю. Проживу и с трещиной.
– А я?
– Ты для них – с души тёмен.
Помолчали.
– Машину дашь?
– Зачем тебе машина?
– До дома доехать.
– Она же не заводится.
– Подтолкнете – заведусь.
– Не дам тебе машину, – сказал твердо. – Я из нее конуру сделаю. Кобеля посажу. Посторонних отваживать.
Посидели. Друг на друга поглядели. Расходимся – навсегда, может, а сказать нечего.
– Имей, – говорю, – в виду. Нынче – повышенный спрос на покой. На это нас и берут. На это покупают. Душа, – говорю, – при тебе?
– Тебе на что?
– Интересуюсь.
Затемнился:
– Какая нынче душа?.. Нет никакой души. Позакрывали вместе с церквами.
Говорить не о чем.
– Проводишь?
– Куда?
– До околицы.
Помолчал.
– Не велел он.
Я вышел на улицу, потоптался, оглянулся на дом.
Мой единственный друг глядел на меня с чердака в последних закатных отблесках, слабо белел лицом.
Тут, внизу, была уже ночь, залитая поверх голов, – не вынырнешь, там, наверху, у заговоренного окна, можно еще было на что-то рассчитывать.
– Привет, – говорю.
Молчит.
Присвистываю.
Не отвечает.
Кидаю затравку.
– Мне не спится, не лежится, всё по милому грустится...
На игру не идет.
Беру на интерес:
– Буду в Италии, буду и далее. Буду в Париже, буду и ближе...
Беру на жалость:
– Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест...
Беру на обиду:
– Сумел меня взять, сумей удержать...
Молчит. Глядит. Не откликается.
Его игра кончилась.
Пошел по деревне. В обратную дорогу. По сторонам не гляжу.
Уныл я пред Богом своим...
Топот сзади.
Дыхание запаленное.
Бренчание странное.
– Стой! – кричит.
Набежал.
Руку тянет.
На ладони – ботало.
Листовое, с окалиной, размером с яблоко, в кузне сработанное, с лепестками понизу и железякой внутри.
Качнешь – брякает.
– Это тебе, – сказал грустно мой единственный друг. – Брякнешь – услышу. Знать буду, где ты.
И назад пошел.
Разошлись – руки не подали.
Постеснялись, что ли?..
Двое приникли на лавочке. Рядком. В темноте. Забиженными сиротками. Перед избой без крыши. Тянули густо, тягуче, как звездам жалились. Сергей начинал, Петя подхватывал.
Я уж куда отшагал, за край поля, во тьму-тьмучую. а их всё слышно.
Гудение нутряное.
…бывалыча гости, бывалыча гости...
…были совестнаи, были совестнаи...
...а теперича гости, а теперича гости...
...всё бессовестнаи, всё бессовестнаи...
7
На станции густела толпа.
Ждали поезда.
Опытные люди уверяли, что откроют один лишь вагон, а какой – знать этого не дано.
Волновались.
Строили предположения.
Перебирали от нетерпения ногами.
Самые хитрые – по одним им известным признакам – держались сторонкой у заветного места.
Набежал тепловоз.
Покатили запертые вагоны.
Проплыл поверху важный проводник с фонарем в единственной раскрытой двери.
– Вон! Эвон!..
Все рванули наперегонки.
Лезли. Давились. Тискались. Пихались локтями и коленками. Наступали без пощады на ноги. Какой-то мужик перекрутил над головой кошелку с бидонами, и оттуда текла на головы густая, тягучая жижа.
Нюхнул – варенье.
Вишневое.
С косточками.
С боем пробились в вагон, похватали места, огляделись затравленно.
Кресла мягкие. Подлокотники удобные. Подголовники чистые. Мест свободных полно. Кати – не хочу.
И мы покатили.
Липкие. Засахаренные. В вишневом варенье.
Вагон был состыкован с тепловозом задом наперед, и нас уносило в ночь, на сумасшедшей скорости, с посвистом разбойничьим: лицами в прошлое, затылками в будущее.
Сидели через проход двое доходяг, разламывали на колене плавленый сырок «Дружба», разливали по стопочкам одеколон «Цветочный».
Увидели мои глаза. Перешепнулись. Поколебались самую малость.
– Отлить?
– Отлейте.
Зажал нос.
Попридержал дыхание.
Залпом снял напряжение прожитой жизни...
ЭПИЛОГ
Осталось досказать немного.
Веня-каженник, мечтатель владимирский, нежный лирик, загульная, тоскующая душа, – это он сказал как-то ночью, в избе у дьякона, на исходе ведерной канистры с пивом: «Сталин-то... Слыхали, как помирал? Надел форму генералиссимуса, приколол ордена-знаки до пояса, лег на кушетку, руки сложил на груди и помер». А дьякон, человек крестьянский, затяжной в работе, истовый в вере, ласковый с детьми, подтвердил со знанием: «Всё так. Верно говоришь. Только позвал прежде священника и причастился перед смертью». Это Веня-каженник сказал мне ночью, возле избы дьякона, глядя на мелкие звезды и облегчаясь после пива: «У него хоть вера есть. А у нас чего?..»
Веня-каженник умер с перепою, сорока еще не было.
Сергей Михалыч – пулеметчик, облапоха переяславский, водил нас в порушенную церковь посреди деревни, откуда он самолично уволок когда-то мебель из алтаря. Провел на колокольню, бухнул в одинокий колокол, – изо всех изб посыпались на двор старухи, клюшками загрозили в небо, заругались на непутевого. В колокол бьют нынче, когда умирают, других причин нет. Руки имел золотые, прикладистые, но работать уже не хотел, потому как нагорбатился в колхозе забесплатно, вкус к работе потерял. Закатывался с нами по своякам, на полный день, из деревни в деревню: везде ставили угощение. Непомерную сковороду с яичницей. Картошки жареной. Грибков соленых. Огурцов с помидорами – по сезону. Хлеба магазинного. Непременную бутыль. Мяса нигде не было. Колбасы и не нюхали. Колбасу мы привозили с собой, по батону на избу: царский дарили подарок. Друг мой упивался тут же, я не пил – за рулем нельзя, а Сергей Михалыч за долгую гостьбу принимал самогона под два литра, да пару бутылок магазинной, да напоследок еще останавливал нас у сельпо, брал деньги, шустро бежал за красненьким, чтобы было чем закончить вечер.
Сергей Михалыч слег в параличе, может, и не жив теперь.
Баба Настя, красавица суздальская, нас не дождалась. Висел портрет в избе, с довоенных еще времен: лик чистый, овал нежный, благородство с пригожеством, и взгляд изнутри такой, как душа наружу просится. Таких глаз я нигде больше не встречал, да и не встречу, наверно, уже никогда. «Как умерла, – сказал дед, – я ее к стенке отворотил. Чтоб не глядела...» И заплакал текучей слезой. Дед жил один. В просевшей избе. В бедности и запустении. Дочь у него маялась в городе, уборщицей при больнице, с детьми, с мужем-выпивохой, помочь отцу не могла, Да он, верно, и не просил. Дед кончал на заре века приходскую школу, малярничал с отцом в Москве, вкалывал в колхозе, потом в совхозе, сорок почти что лет, пенсию получал по старости – четырнадцать рублей. Были у него зато две курицы. Яйцами кормился да еще огородом. Картошку сажал – ползком по гряде. Ползком ее и собирал. Рад был нам, яиц наварил к столу, водочки нашей хлебнул: «Вроде опять жить захотелось...» Деду мы оставили на прощание весь свой мясной запас. Развздыхался, брать не хотел, перекрестил напоследок с порога. Дом его помню. Деревню. Лужу на дороге. А имя позабыл. Так и оставаться ему – безымянным. Дед суздальский, муж бабы Насти.
Коля-пенек, механизатор калязинский, так и работает, должно быть, на комбайне, добивает всё то же поле, если уж не добил. Это у него в хлеву валялись дохлые, окаменелые с мороза бараны, списанные в колхозе, собака на цепи грызла лениво ближнего из них да отплевывалась шерстью, а в углу стояла доска со шпонкой, привораживала глаз. Отвернули ее от стены – праздники, клейма, Четьи-Минеи. Календарь живописный. Обилие подробностей. Густота фигур. Монахи. Цари. Воины и юродивые. Тонкие письмо. Чудное разноцветье. Жар изнутри. И только края скисли в сырости, заершились уже шелушинками. «Последняя, – сказал Коля. – Забирайте, пока не пожег». И ухмыльнулся снисходительно на двух дураков. А трактор стучал без передыха под окнами: он его и не глушил вовсе. Не уверен даже, глушил ли его на ночь.
Степа-позорник, дребезга рязанская, подался в зятья к утешенной вдовушке, терпеть покорно тычки-попреки. Это он водил нас в сельсовет, к председателю, отхлопотать пенсию побольше. «Я людей из Москвы вызвал, – говорил важно. – От службы оторвал...» А председатель глядел тускло на двух столичных штучек, мятых, драных, трепаных, с ружьями за спиной, соображал туго: то ли милицию звать, то ли шапку ломать.
Старшины-сверхсрочники, души смазные, попались нам в плоскодонке, ночью, на разливе Оки. Лодочник пьяный. Мотор скис. Борта вровень с водой. Народу в лодке битком. Куда ехать – неизвестно. Ноги мокрые. Вещи отсырелые. Ветер пронзительный. Судорога по воде. Потонем – и знать не будут. Помню еще, наварили мы с ними ведро картошки, истолкли с тушенкой, хозяин принес с погреба мятые соленые огурцы, авоську с бутылками пододвинули. Старшинам мы не показались: мало пили, много закусывали.
Бабка с хлебами жила под Угличем. Лампа висела посреди избы, с потолка до пола, медная, керосиновая, надраенная до яркости, невозможных размеров и красоты. Словно Жар-птица хвост свесила. Попросили продать – внуку обещано. Попросили хлебушка – накормила досыта. Подарила зато иконку – деньги грех брать. Подарила стекло ламповое, старинное, с вензелями поверху. Так и шли потом по деревне: у одного икона в руках, у другого стекло от лампы. «Блаженные», – умилялись из окон старухи. А может, это было не под Угличем? Может, это была Колокша? Теперь не припомнить.
Сеня-обмылок, каличь борисоглебская, проскакал мимо нас на кожаной подушке, ухоженный, умытый, обстиранный, и даже подушка была надраена до блеска, должно быть, кремом для обуви. Шла возле него нестарая еще женщина, строго глядела перед собой, голову не воротила на липучие взгляды, руку держала на его голове. Поворотили за угол, сгинули, зацепились в памяти.
Кто еще?
Терешечка, гулящий детинка с озера Мстино, год получил за бродяжничество.
Вася-биток, производитель вышневолочский, работал шофером в доме отдыха, не оскудевал силой.
Петя, дур-человек калужский, позабылся в подробностях, как и не существовал вовсе. Это он сказал вроде: «У нас тут две церкви: Георгия на Верху да Клары Цеткин». А может, не он.
Избу мою, облюбованную, из села Покровского, продали кому-то: я еще там был, ждал разрешение на выезд, – застонал, как сказали.
Друга не увидеть.
В деревню не съездить.
Хлеба не поесть.
Остался складень, медный, литой, лики на нем затертые кирпичом толченым: их умывали под праздники.
Складень не выпустила таможня.
Остался казак на коне, из крашеного дерева: нелепый, длиннолицый, долгоносый и густобровый, с ружьем за плечом, с кожаной уздечкой, прибитой гвоздиком к лошадиной морде.
Казака провез обманом.
Осталась Библия с чердака, мышами изгрызанная. Библию отреставрировали за мой счет, листы подклеили папиросной бумагой, одели в переплет.
При выезде оценили ее в двадцать пять рублей.
– За что? – говорю. – Она же моя.
– Вашего тут ничего нет, – ответили сурово.
– Да она бы сгинула на чердаке! Это я ее спас.
– Гражданин, не нарушайте естественный процесс.
Пошел. Заплатил. Вывез.
На таможне их было пятеро.
Кожедёр, Сучий Потрох, Худой, Драный и Пастьпорванский.
– Это зачем? – и брякнули боталом.
– Корове, – говорю, – привешивать.
– У вас там будет корова?
– Как знать...
Посомневались. Посовещались. Кликнули начальника. Зыристого мужичка с пузатым портфелем.
– Так, так, – сказал укоризненно. – Лежал, лежал, сорвался да побежал. Попрошу отгадку на выезд.
– Не знаю, – говорю. – Я, что ли?
– Снег, – хохотнул. – После зимы. А ботало мы вам не выпустим. Железяку прежде вынем. Не положено по правилам, чтобы в багаже брякало.
Отогнули лепесток, вынули железяку, и ботало замолчало.
Лежит у меня на полке, не бренчит больше, сколько его ни качай.
Будто голос потеряло при переезде.
И друг мой уже не узнает, где же теперь я...








