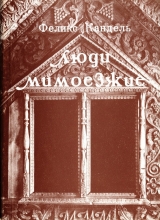
Текст книги "Люди мимоезжие. Книга путешествий"
Автор книги: Феликс Кандель
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
– Я знаю! – закричал. – К вам этот ходит! Чёрт вертячий!
Она и не удивилась:
– Берите выше...
Осталась последняя картошка.
– Кому? – спросил мой друг.
– Ему, – сказала. – Тебе хватит.
Тут я, должно быть, заснул. С картошкой во рту. Выпал из разговора. На время потерял слух. Обоняние с осязанием.
Очнулся, как укололся: минуты не спал.
Тени пристыли у стены. Рядком. Голова к голове. И голос глухой, неспешный, через вату.
– ...сколько мне было тогда? Семнадцать было, да еще месяц. Он у нас во дворе – самый был светлый. Ванечка... Пошла с ним на отдачу.
И опять помолчала: или это я заснул?
– ...привел он меня в подвал, под самым домом: пыль, паутина, стул колченогий, кушетка – не иначе – с помойки. «Тут?» – говорю. «Тут», – говорит. «Ванечка, – говорю. – Не о том я мечтала, Ванечка, чтобы честь свою отдавать в чулане. Она у меня одна, Ванечка... Или тебе без разницы?» – «Не, – говорит, – и мне с разницей...» Не состоялось на тот раз.
Помолчала.
– Друг твой не спит. Слушает.
– Пускай, – отмахнулся. – Я бы ему и так рассказал.
– Ты-то?
– Я-то.
– Это у тебя со всяким?
– Всяких у меня – обчелся.
Чего-то они там пошуршали, потерлись, приладились поудобнее.
Долгие разговоры...
– ...зима. Снег завалами. Мороз трескучий. Ночью, в третьем часу, влетели в форточку красные тюльпаны, огромные и замерзшие, легли без звука на пол. Я побежала к окну, в одной рубахе: он уходил по улице, рукой махал на прощанье, Ванечка мой светлый... Потом была комната – общая, огромная, метров под сорок, поделенная ситцевыми занавесками. Угол деда, угол бабки, угол брата, наш угол. Да посередке сестра с детьми, ни от кого прижитыми. Дед пил горькую, валялся у помоек, носом в собачью мочу, в злом протрезвлении орал на бабку: «Кланька, Кланька, Кланька... Гнида, гнида, гнида...» Бабка работала на мясокомбинате, волокла домой требуху ворованную, обмирала в проходной от страха, отлеживалась потом на кровати до самого утра, а утром – снова на казнь. Этой требухой и кормились, да еще покрикивали: «Мать, принесла бы колбаски!» А она в ответ: «За требуху-то, может, скостят»... Брат что ни ночь приводил другую бабу, пил, пел, хрустел кроватью за занавеской. Лют был: бабы от него верещали по-страшному, спать не давали. Ванечка мой светлый бил меня кулаком в лоб, как быка на бойне, запихивал в шкаф, замыкал на ключ. Я его молила тихонько, не один час: «Выпусти, Ванечка, выпусти. Задыхаюсь, Ванечка...» Открывал шкаф, валилась замертво на кровать: тогда он меня брал. «Мне без разницы, – говорил. – Тебе с разницей, мне – без»... Он не работал тогда, а я зато бегала на фабрику, получала шестьдесят рублей. Несу получку, стоит – ждет, руку тянет мой Ванечка. Копейки не было. Вечно голодная. Хоть на побор иди. Девки на работе бегали от меня, чтобы взаймы не просила. Он всё пропивал. Вечером приду с работы: сидит с гитарой, ждет. Шляпа на голове, воротник поднят, усы подрисованы: сажает меня на кровать и песни поет. Есть охота, спать охота, а он не дает. Он меня весь день ждал, Ванечка мой светлый, он у меня артист. А задремлю – кулаком в лоб, и в шкаф... Была у меня подружка, мать ее на молокозаводе. Жалели меня, кормили: придешь – сразу тарелку ставят. Даже не спрашивают. Чего спрашивать? Я всегда голодная. Раз привела Ванечку: он всем понравился. Он у меня светлый был, обходительный когда надо: разговоры, гитара, музыка... Пришла к ним в другой раз, а они тарелку не ставят. «Всё ты врала, – говорят. – Такой парень хороший!» И кормить перестали... Раз бегу с работы, голодная, промерзшая, а он в шашлычной сидит, за стеклом, барин-барином: получку мою проедает. Баба с ним, шашлыки на тарелках: тут меня и вырвало от голода... «Ванечка„ – говорю, – а Ванечка! Нет моей мочи. Шел бы ты работать». А он: «Мне без разницы». Пошел в дворники – не ужился. Шибко гордый. Пошел на мясокомбинат, к матери, я ему подкладку у пиджака распорола, чтобы колбасу выносил. И опять запил, не работал: дома сидел, меня ждал. Как приду – сразу за гитару... Ходили с ним на рынок, в очереди стояла в бедняцкой, – тухлятина одна в ларьке, хвосты с ушами, – а он в сторонке ожидал, воротник поднят, очки черные: ему стыдно. Трескал зато потом – за милую душу... Начну его ругать, а он меня дернет за ногу – головой об пол. «Вот, – говорит. – Пару часов можно попеть». И сидит, струны перебирает, Ванечка мой светлый, артист... Вынул меня из петли, ноги целовал, прощения просил: «Чудо мое...» Пять лет отжила с ним. Ушла – он вены перерезал. Звонил из больницы на работу, шелестел без сил: «Приди». – «Нет». – «Ты такая чуткая была...» – «А теперь – без разницы». – «Тебе без разницы, мне – с разницей...» Бабка письмо мне прислала: «Ни о чем давно не мечтала. Мечтаю чайку с тобой попить на кухне»...
Помолчала. Сказала жестко:
– Всё теперь хорошо. Живу тут. Стоит изба, в избе доска, под доской тоска. Только цветов никто не кидает.
– Я кинул.
– Ты кинул. Будет тебе за это нечаянная радость...
Тут я опять отпал.
Как в самого себя провалился.
Выкарабкался – лепились они друг к другу, шептали, вздыхали, клонились заметно к полу.
Тут друг мой взвился от восторгов, его переполнявших, воспарил и взмыл в цветистом словословии, – откуда что взялось:
– Не любодеец я, и ты не любодеица, не любопохотные, но неистово любосластные, и люболюбным огнем палимые, желаем мы нынче иметь любление, ибо любивый я, а ты моя любленица, и любство свое мы теперь учиним, – да не иссякнут любы наши. Аминь!
Упал вниз коршуном...
– Э-ге-гееееее...
Звук прошел от озера.
Как позвали кого-то.
На долгом-предолгом выдохе.
И еще:
– Э-геге-еееее...
Она отстранилась от друга моего невозможного, замерла в чуткой настороженности, а оттуда, с озера, яснее уже и нетерпеливее:
– Шоно, шоно, шоно... Пинцо, пинцо, пинцо...
Она уходила к дверям: от протянутых рук, от прилипчивых глаз, от пробужденных чувств – глина пудами на ногах.
Она уходила из дома, лицом оборотившись назад, сослепу шагая за порог, в пустоту, в глухоту, в холод луны сентябрьской.
Она шла по высоким травам, руки опустив понизу, и лицо становилось бледнее, и глядела жгуче, смаргивала чаще, и узел развязался сам собою, волосы уронив до земли, а от озера уже покрикивало, как подхлестывало:
– Шоно! Шоно! Шоно! Пинцо! Пинцо! Пинцо!..
И ждал кто-то в кустах, на краю воды, – или это ветви так переплелись? блики разложились? – глазами красный, телом в прозелени, носом с хороший сапог,
Мокрота разливалась понизу.
Мой невозможный друг издал вопль пронзительный, кинулся следом, не разбирая дороги, я помчался за ним, но дорогу загородило чудище, зверюга невозможная, клыки обнажила лениво. Известная порода – московская сторожевая: не собака – тигр лютый, лошадь кусучая. Шла на нас молча, грудью пихала небрежно, а друг мой несчастный, голову потерявший от горя, пятился перед ней обратно к домику, себя уговаривал на храбрость:
– Ну и что же, что собака... И что же, что собака... И что же...
Но храбрости не прибавлялось.
8
Мы лежали, скорчившись, на детских кроватках, униженные и несчастные, и собака сидела снаружи, задом придавила дверь – не откроешь. А там, внизу, озеро ходуном расходилось: крики, всплески, стоны, восторги пронзительные до неба, бой волны о берег, вскипание бурунов, обвалы хохота сатанинского, урчание-бурчание утробное, всасывание взахлеб воронкой до дна, чмоканье-щелканье-шлепанье, – даже я разобиделся.
Тут с ним и приключилась истерика.
– Пусть! – закричал. – Пусть будет неладно! Пусть уже, пусть! Радость – не нам! Счастье – не нам! Нам с тобой кожура с объедками! Пусть будет так, пусть!
Грудью кинулся на дверь, бил ее, кусал и царапал, ругал, молил и унижался:
– Выпусти хоть в туалет, зверь бесчувственный... Выы-пусти!..
А собака к нему – без внимания.
Рухнул на пол, катался от стены к стене, потом затих, зажав уши.
Светало, когда успокоилось внизу, замерло и поутихло.
Собака ушла.
Дверь сама отворилась.
Зарозовело над кустами, и пошла снизу женщина, на ногу тяжела. Сарафан мокрый: облепил – пропечатал. Лицо белое: от ночи бессонной. Волосы распущены: капли самоцветами. Грудь пышная, стан гибкий, талия тонкая: красоты и соблазна невозможного.
Мой невозможный друг оскорбился до слез.
– Ты изменная изменщица, – сказал гневно. – Ты такая лицемерщица! Сладострастница. Гостиница бесовская. Где она, моя нечаянная радость? Отвечай!
А она на это горько и туманно:
– На вдовий двор...
И пошла себе...
Мы уходили прочь от поганого места, спешно и безоглядно, и друг мой бурчал на ходу, отыгрывался, обижал кого-то запоздало:
– Да деревенцы-то дикие, да кулаки-то немытые...
А я задремывал на ходу. Сны прихватывал мимолетные...
Барак стоял на прежнем месте.
Машина с выбитым стеклом.
Дед однорукий разжигал костерок.
Трактор с прицепом: девками полон кузов.
Мотор стучал гулко и редко.
– Девочки, вы чего тут?
– Очереди дожидаемся, – дружно ответили девочки. – Срок в дом отдыхе кончается. За каждой не находишься.
– Дед, – говорю, – поспать бы... Пусти в барак.
Дед глянул с пониманием.
– Там Вася-биток, – сказал. – Ему – только поспеть.
– Упаду, дед.
– Уезжайте, – посоветовал. – Чужим бы не надо... Минута нынче благая.
Вышел из барака Вася-биток, вывел за руку девочку, румяную от ощущений, подтолкнул легонько, она и пошагала по тропке, в дом отдыха, ублаженная и бездыханная, на подламывающихся коленках. Другая полезла с прицепа, деловито и озабоченно.
– Хватит уже! – раскричался мой друг. – Освободи помещение! Тебе всё, а другим ничего, так, да?
– Так, – сказал Вася. – Да.
– А ну пойдем. отойдем!
– Чего отходить? – рассудительно сказал Вася. – Время еще терять. Я тебя тут жикну.
И жикнул.
Мы ехали назад.
Ветер поддувал в лицо.
Синяк расплывался под глазом.
Дорога лучшела заметно.
Зыбкие дали. Редкие версты. Полотенцем путь.
Отселе и до Угор, от Угор и до Ляхов, от Ляхов до Чахов, от Чахов до Ятвази, и от Ятвази до Литвы, от Литвы до Немец, от Немец до Корелы, от Корелы до Устьюга, от моря и до Болгар, от Болгар до Вуртас, от Буртас и до Черемис, от Черемис до Мордвы...
– Хочешь? – сказал мой невозможный друг и развязал рюкзак. – Снять деревенское напряжение.
Но я уже спал.
ГЛАВА ВТОРАЯ
А КТО ЛЮДЕЙ ВЕСЕЛИТ, ЗА ТОГО СВЕТ СТОИТ
1
Дело начатое, да не будет брошено.
И в голод, и в холод, и в скорби, и в радости, и в принуждении, и в понукании, и в лихолетье разбойничье.
Дабы не мучило потом сожаление едкой отрыжкой.
Дабы не ел себя поедом за упущенные годы.
Дабы не клял других, глупея от отчаяния.
Пошел – иди, живешь – живи, умираешь – умирай.
Вольному воля, ходячему – путь.
– Пошли, – сказал мой надоедливый друг. – Я ружье купил. Заодно и поохотимся.
Я поднимал голову от руля тяжело и замедленно и увидел перед собой буйство красных ягод вперемежку с острыми иглами. Они забрались в машину через переднее окно, где не было стекла; иглы торчали у самых моих глаз, ягоды у самого рта, и капли росы еще блестели на их глянцевитых боках.
– Ха... – сказал я заторможено. – Шиповник. Это мы где?
– В кустах, – пояснил мой друг. – По твоей милости.
– Я спал?
– Ты спал.
– Долго?
– Минут пять. А я пока что ружье купил. Тульское. Двустволочка. Шестнадцатого калибра.
– Когда это ты успел?
– Успел, – сказал он. – Я проворный. Но деньги я еще не отдал. Не успел.
Мы продрались через колючки, обрывая в клочья одежду, и машина тут же исчезла, целиком утонув в кустах. Дороги не было и в помине, плотной стеной стояли вокруг деревья, и оставалось только гадать, как же нас сюда занесло.
– Машину тут оставим, – сказал мой надоедливый друг. – Тут ее не украдут. Только уговор: кто стреляет первым, тот чистит ружье. Идет?
– Идет. А патроны у тебя есть?
– Зачем тебе патроны? Ты что, собираешься чистить ружье?
И мы пошли на охоту.
Мой надоедливый друг шагал впереди, ружье наизготовку, прищуренным глазом оглядывал пересеченные местности, будто держал уже под прицелом. Лесами дремучими, болотами зыбучими, мхами-крапивами, пеньем-кореньем, но дичи нигде не было.
– Что такое? – говорил мой друг. – Где бекасы, дупельшнепы, гаршнепы, дрофы-журавли-перепелки? Где глухари, рябчики, куропатки, вальдшнепы-кроншнепы? Где хоть кто-нибудь?.. Хочешь понести ружье?
– Нет, – сказал я. – Ружье, жену и собаку на подержанье не дают. Закон леса.
Он даже остановился от изумления:
– Ты-то откуда знаешь?
– Знаем, – ответил я скромно. – Не всё вы, кой-чего и мы. Через наши гены тоже кое-кто прошел.
И посвистел независимо.
Тогда и он посвистел, погромче моего.
Стоял посреди поля одинокий мужик в ватнике, глядел на нас из-под руки.
– Вот, – сказал мой надоедливый друг. – Микула Селянинович собственной персоной. Бог в помощь, дядя!
– Благодарствуйте, – ответил тот картаво и нараспев. – И вас также.
В руке у него была картофелина, на голове соломенная шляпа, на ногах боты, на носу пенсне. Мы изумились, конечно, но вида не подали.
– Как урожай? – спросили дипломатично. – Сам-треть? Сам-четверть? Сам-сколько?
– Урожай, – ответил, – отменный. Земля наша родит, не переставая, только оттаскивай. Но оттаскивать некому. Вот оно, вот оно, что я наработала: сто носилок отнесла, пятак заработала.
Очистил клубень от земли, пошел на другой конец поля, положил в мешок, воротился не спеша назад.
– Как работается? – спросили мы.
– Работается хорошо, – ответил. – Мешок уже полный. Не прошло и недели. Черный ворон-вороненок улетел за темный лес. Нам колхозная работа никогда не надоест.
Пошел со следующей картошкой.
– Вы, наверно, из города? – спросили мы вслед.
– Наверно, – ответил. – Но уже не уверен.
– А тут что есть: колхоз или совхоз?
– А есть тут, – ответил степенно, – головной институт теоретической физики. Я по тропке шла, размечталася, хорошо, что в колхоз записалася.
Лихо отсморкнулся на сторону.
Вернулся он не скоро. Порылся в кармане, протянул визитную карточку. «Профессор, доктор наук, член лондонской королевской академии».
– Это вы?
– Это мы. Мы их в мешок кладем. Чтобы знали, кто собирал. – И похвастался: – У нас тут без обмана. Картошечки – одна в одну. Столицу кормим. Не пойду за Федю замуж, сколько бы ни сватали. Как прогульщика в газете его пропечатали.
И дернул плечиком.
– Пожелания есть? – спросили мы на прощание.
– Поля бы заасфальтировали, – сказал академик. – Грязи невпроворот.
А мы пошли дальше.
– Чертовщина какая-то, – сказал мой друг. – Колдовство. Обаюн с пролазом. Господи! – завопил. – Защити эту землю от мужика-колдуна, от ворона-каркуна, от бабы-ведуньи, от девки-колдуньи, от чужого домового, от злого водяного, от ведьмы киевской, от сестры ее муромской, от семи старцев с полустарцем, от семи духов с полудухами, – чтоб у них, у окаянных, глаза выворотило на затылок!
Тут он и появился невдалеке, зыристый мужичок с пузатым портфелем, бодро зашагал навстречу.
– Ну уж это вы бросьте, – говорил обидчиво. – Чуть что, сразу на нас. Сами наворотят безумия поверх голов, а ты за них отвечай. – И быстро: – Рогоуша недотыка брякоушечкой прикрыта. Попрошу отгадку.
– Чего?..
– Ничего. Я вами недоволен. Вас же просили не вмешиваться в естественный процесс.
– Мы и не вмешивались.
– Да? А кто водку лил в заповедное озеро? Бутылками кидался? Женщин соблазнял?
Лучше бы он про женщин не напоминал. Мой надоедливый друг тут же надулся, сказал обидчиво и свысока:
– Да кто ты такой? Что ты за нами ходишь? Душу еще не купил, а уже командует.
Зыристый мужичок как подобрался:
– А продадите?
– Вот тебе!
Тогда он обиделся:
– Да без меня кто же вас пропустит! Отгадок простых не знаете. Всё в своем городе перезабыли. Ты хочешь попасть туда, где нет еще напряжения?
– Хочу.
– И я хочу, – сказал я.
Вынул из портфеля желтенький детский телефон-игрушку, набрал номер, дзынькнул звонком, сказал коротко:
– Со мной двое.
И мы пошли дальше.
Теперь уже он шел впереди, споро и ходко, а мы следом – нашалившими детьми.
– Вот я его из ружья, – бурчал мой надоедливый друг. – Вот я его навскидку. Вот я его влет.
Впереди была засека. На обе стороны. До левого и правого горизонта. Деревья подрублены умело, на большой высоте, завалены крест-накрест, верхушками к неприятелю, то есть к нам. Не пройдешь – не пролезешь. Как от татар отгородились.
Сунулись оттуда рожи неумытые, рты разинули радостно:
– Рогоуша недотыка брякоушечкой прикрыта. Чего на это скажете?
– Печь и заслонка, – ответил зыристый мужичок. – А вы кто есть?
– Бес Потанька да бес Луканька.
– Отворяйте.
А они мнутся:
– Смеяться не будете?
– Будем, – мстительно сказал мой друг. – И еще как.
Полезли оттуда два мужичка-опенка, драные, заплатанные, худородные, в шапках-ушанках не по погоде, спины подставили под лесину, поднатужились, закряхтели жалобно, чуть приподняли макушку.
– Про-ля-зайтя...
Мой друг колыхнулся от жалости:
– Помочь?
– Неа... – пыхтят. – Не надо. Служба у нас такая.
– Сколько же вам платят за эту натугу?
– Нисколько не платят. Хоть кричмя кричи, хоть лежмя лежи. Оживеть не с чего.
– Чего ж вы тогда стараетесь?
– А чего не стараться? Нам за это, может, тринадцатую зарплату дадут. Обещались. Хлебца не кинете?
И стали уминать с двух концов подаренную краюху:
– То ли любо!
Мы шли дальше.
– Чего ж народ не кормите? – спросили с пристрастием.
– А чего их кормить? – ответил. – И так ладно.
– Да кто ты такой? – напустился мой друг. – Ты кто есть в этой жизни?
– Анчутка. Черт вертячий. Освобожденный секретарь.
– Господи! – застонал. – И у них так же…
А тот на это:
– Церквей-то нету... Вот мы и расшалились.
Закряхтел от смущения.
Стоял впереди лес–красавец. Высокорослый. Голенастый. Прозрачный. Золотом прохваченный. Ствол к стволу ратью победной. Такой лес, что в небо дыра.
– Место заказное, – сказал мужичок на прощанье. – Попрошу не шалить. Глядеть можно, трогать нельзя. – И быстро: – Патрон дать?
– Какой патрон?
– Неразменный. Бьет без промаха. Сколько хошь. Перезаряжать не надо.
– А мы тебе чего?
Промолчал.
– Не надо, – сказал мой надоедливый друг. – Еще ружье чистить..
И мы вошли в лес.
2
Всего есть исполнена земля Русская...
Курение смолистое.
Гудение органное.
Свечение теплое.
Дыхание легкое.
От ствола к стволу, как от столпа к столпу.
– Ах! – сказал мой надоедливый друг, голову потеряв от ощущений. – Под темными лесами, под ходячими облаками, под частыми звездами, под красным солнышком, среди лугов привольных, среди полей раздольных, от немецкой земли и до китайской стены...
Прилипал к стволам, обнимал, увязал в смоле, скусывал ее натеки, жевал, мычал, наслаждался: в волосах иглы с паутиной.
Пружинила хвоя.
Качались макушки в облаках.
Уплывала земля из-под сомлевших ног.
– Ох, – сказали рядом, – ну и малинка! Мелка да сладка.
Глядел мужчина из глубины куста, с лица молод, размерами велик, голова копной трепаной, клал в рот ягодку за ягодкой, чмокал-соблазнял-приваживал.
– У нас тут малины, – говорил, – какая хошь. Белая, черная, усатая. Коси малину, руби смородину.
– Не, – сказали мы и пододвинулись на шажок. – На охоту идем.
– Какая теперь охота, – говорил. – Не сезон. Зайца драного не поднимешь.
– Не, – сказали мы и пододвинулись еще. – Отстрел разрешен. На пролет уток.
И положили в рот по ягоде.
– Какие тут утки, – говорил печально. – Тут и воды нет. И корму. И место непролетное. Давайте уж малинку щипать. Края наши – малинистые.
Потом было тихо. Малое время. Чего говорить попусту? Руки работают, рты заняты – в момент куст обобрали.
– Пошли со мною, – сказал. – Ложок знаю – земляника поспевает. Наберете – и по домам. То-то деткам радости.
– Какая такая земляника? – сощурился мой друг. – В сентябре, что ли? Плутуешь, дядя.
Пошли дальше.
Мой надоедливый друг снова шагал впереди, ружье держал наизготовку.
– Дурной глаз, – говорил, – пустая телега, баба со старухой, крик ворона – плохие приметы, лучше на охоту не иди. Да еще если встретят и скажут: «Принеси крылышко».
– Люди добрые, – сказали со стороны. – Принесли бы крылышко.
Мы так и подпрыгнули.
Стоял на полянке этот, с лица молод, телом нескладен, голова копной трепаной, руки – рогулины кривые, брюхом такой, что хороводы вокруг водить, а на поляне красным-красно, зеленым-зелено: грибы тучами.
– Ох и грибок! – говорил. – Ох и хорош! Хоть в жарку, хоть в варку, в засол-маринад. Сиди дома, принимай гостей, под водочку сглатывай.
И мы сглотнули дружно.
– Не, – сказал мой друг. – Не до грибов. На дичь идем.
– Какая дичь, – заблажил. – Какая теперь дичь! Пролетная птица несется без памяти. Станет она вам садиться, время терять. А грибок раскусишь: хрустит, стервец, сердце радует.
– Да у нас и времени нет, – сказали мы нерешительно. – И корзины…
– А мы мигом, мигом! Вот вам и корзина, и грибов – прорва. Тут тебе и белый, и боровик, и моховик с козленком, и свинуха с волнухой...
Потом было тихо. Недолгое время. Он шустро полз на четвереньках, волоча за собой корзину, уводил нас в нужную ему сторону, а мы – дурак-дураком – ползли следом, собирали наперегонки. В момент набрали с верхом.
– Эй, – сказал мой друг, – а где ружье? Ружье обронили.
– Зачем вам оно! – закричал. – У вас грибов корзина, пуд целый. Ешь – не хочу.
– Да не ем я их, – сказал мой друг. – У меня сыпь с грибов. Колики. Несварение. Нутро не принимает.
– И не надо, – зачастил. – И не ешь. Делов-то! Собрал – и на рынок. Озолотишься с корзины. Еще наберешь – еще озолотишься.
Мой надоедливый друг поглядел на него с прищуром:
– Уводишь, дядя?
И мы пошли дальше.
Он шел рядом, враскачку, косолапый, нескладный, сапоги невозможного размера, шел – оставлял ямины на пути, косился неодобрительно на ружье, подпугивал ненароком:
– Места наши – где Богова полоса, где бесова. Народ наш – урви-ухо, с бору да с сосенки, убить да уехать. Ходить в лесу, видеть смерть на носу...
– Тебя как звать? – спросили мы поперек.
– Терешечка.
– Терешечка?
– Терешечка. Гулящий детинка.
– Чего ты нас пугаешь, Терешечка?
Шмыгнул стеснительно:
– Утицу жалко... Вот и отваживаю кого ни есть.
– Да что ты! – закричал мы. – Тоже удумал! У нас и патронов нет.
Аж просиял! Подобрел. Расположился сразу. Губы пухлые. Глаза светлые. Улыбка ясная. Голова набок, как у дурашливого пса.
– Я бедокур, – сказал. – Я шебутной. Меду за это дам. Лесного.
– Ты кто? – спросили мы прямо. – Лесничий?
– Никакой не лесничий.
– Тебе кто платит?
– Никто не платит.
– А кто кормит?
Промолчал.
– Не надо нам меду, – сказал мой надоедливый друг. – Перебьемся...
Сунулось солнце над самыми макушками, лес залило доверху золотом дрожащим, столбы понаставило посреди стволов. Ровные, рослые, поднебесные: не разберешь, какой где.
Глаза заслепило – колеса огневые.
Лица ожгло – жар огнепламенный.
Сердца прихватило – благодать нездешняя.
Терешечка окунулся с ходу в золото натекшее, вспыхнул, просветился, сам задрожал в мареве.
– И мы! – закричали хором. – И мы!
– И вы.
Мы тоже просветились.
– Ах! – заблажил мой друг. – Ах, ах! Это и не лес вовсе – храм многостолпный. – Осел книзу на ослабевших ногах. – Всё. Остаюсь тут навечно. Растворяюсь. Растекаюсь. Распыляюсь на атомы.
А Терешечка – туманно:
– Вы тут пришей-пристебай...
Чего сказал – хоть в словарь лезь.
Проявилось впереди очертание – размерами не мало, перетекло, как поманило, от ствола к стволу, от столба к столбу. Ясно, что женщина, видно, что пышная, понятно, чего желает, – остального не разобрать. Намерения у ней несомненные, интересы у ней нескрываемые, готовность у ней нулевая: то ли не надето ничего, то ли материи златотканые, зарево-марево, парение-пламенение, игра зрения, обман чувств.
Мой надоедливый друг уже стоял в стойке, одна нога на весу, носом дрожал в предвкушении.
– Это чего?..
А Терешечка, глаз не отрывая, глухо и невпопад:
– Которая бессисяя – я не уважаю...
Дрогнул, брыкнул, гоготнул, землю ковырнул каблуком, да и рванул следом: дым из ноздрей.
– Эй, – кричим, – а мы-то?..
А ему не до нас. Он вон уже где. Их уж и нету.
– Вот, – говорит мой надоедливый друг. – Рекомендую. Это и есть их благодарность. Как грибы, так вместе, а клубничку на одного.
Загудела земля. Задрожали стволы. Просыпалась хвоя. Завалились тонконогие поганки. Побежали на нас двое: он за ней, да она от него. Огромные, корявые, нескладные, золотом пропеченные, радостью упоенные, дыханием запаренные, желанием переполненные, и груди у нее – чтобы бежать прикладнее – закинуты за плечи, крест-накрест.
– Лешуха, – проорал Терешечка на бегу – рот варежкой, рубаху скидывая за ненадобностью. – Лешачиха. Лисуха-присуха. Я с ею шалю!..
– Подумаешь, – сказал мой друг, белея от обиды. – Не больно и хотелось. Которые сисястые – я не уважаю... Эй! – взвизгнул. – У нее подруга есть?
И рванул следом.
Я за ним.
Меж столбов света. Меж стволов леса. В одни окунаемся, на другие натыкаемся: нам не разобрать. Огнь чувств. Пламень желаний. Вихрь побуждений. Мы еще – ого-го!
На отшибе дерево – толщины неохватной. В корневище дупло – пастью разинутой. Заскочили туда – и нету, и сгинули, и с глаз долой, а мы забоялись, затыркались, на пенек сели: чего делать, не знаем.
А оттуда, из дупла, курлыканье-мурлыканье, гульканье-бульканье, зудение-гудение любовное:
– Дроля – матаня – залетка – приятка – любушка – любава... – И напоследок: – Ах, – оттуда, – пригревочек... Тепла, – оттуда, – норушка...
И затихли.
– Пошли, – говорю. – Мы тут лишние. Пробежались, и за то спасибо.
– Пошли, – говорит. – А куда?
Стоял муравейник – конусом хвойным. Шебуршились муравьишки – числом несчитанным. Курился поверху парок – просыхали в тепле.
– Вот, – сказал мой друг. – Наступлю и нету. Им год строить, мне – момент рушить. Но я-то случайный в лесу, а они свои. Я уйду, а они останутся. – Всхлипнул: – Пусть уж лучше другие уйдут, а я останусь... Хоть где!
Тут голос из дупла, мягкий да медовый:
– Ты меня ждала?
– Жда-аа-ала...
Сунулся наружу копной трепаной:
– Слыхали? Жда-ала...
И нет его.
– Ты меня звала?
– Зва-аа-ала...
Сунулся еще:
– Зва-ала...
И назад.
– Дразнится, – сказал мой друг. – Было бы из-за кого. Да я у батюшки да у матушки принцессами требовал.
– Я тоже, – говорю.
Но вышло неубедительно.
А оттуда:
– Ты меня любишь?
– Люу-блю...
– Не врешь?
– Не врууу...
– А докажи.
– Докажуу... Стала бы я стирать тебе без любви? Рубаху с портками: заскорузнут – не ототрешь. Да штопать, да убирать, да мыть, да подметать, да огороды копать, да картошку сажать, да печь разжигать, да воду таскать, да пуп надрывать, – что я вам, каторжная, что ли? Пшел вон отсюдова!
И Терешечка выпал из дупла.
Сел, покрутил головой, губы распустил от обиды:
– С бабой – оно непросто.
– Ой, непросто, – почему-то сказал я.
Мой надоедливый друг застонал в ответ, шустро полез в дупло:
– Ой-ей-еюшки... Любви хочу! Тепла! Угревочка! Чтобы задастая. Чтобы сисястая. Чтобы портки мне стирала, рубахи с портянками...
Тоже выпал наружу.
– Пошли, – сказал Терешечка.
– Куда?
– Куда шли.
– А она?
– Отойдет, – сказал знатоком. – Остынет к вечеру.
– Куда она денется, – знатоком сказал я.
Но друг не торопился.
Оглядел Терешечку с пристрастием, глаз сощурил – примерился.
– Разувайся.
– Чего?
– Чего сказано.
Тот снял сапоги, размотал портянки. Ноги босые, обыкновенные, человеческие, нечеловеческого только размера. Пошевелил пальцами, остудил на ветерке.
– Одевайся. Пошли дальше.
Терешечка ухмыльнулся понимающе, дальше потопал босиком.
– Отвечай, – приказал мой друг. – Это что за место?
– Место наше, – ответил обстоятельно, – за далью далей. С любого края три года ехать. И то не доедешь.
– Врешь, поди?
– Не без этого.
Дорога пошла под уклон.
Сырела земля и мокрела, мрачнело кругом и скучнело.
Лес забивался мхом, хвощом, поганым грибом, тощей, недоразвитой порослью, что росла густо и кучно, без жалости давила друг друга.
Туман находил вялыми волнами, глушил звук, подъедал цвет, но оттуда, из его нутра, уже слышались спешные шаги, звяканье, разудалые вскрики.
Это охотник шел косяком на разрешенный отстрел.
Терешечка запечалился:
– Опять! Толпы несметные! На развод не оставят...
И побежал. По хвощам. По кустам. По поганым грибам. Махал руками. Взбрыкивал ногами. Валил деревца чахлые. Прогал оставлял широкий. Мы, конечно, за ним. Только поспеть!
Открылась вода под ногой.
Лодка-плоскодонка у берега.
Сиденья по борту.
Терешечка прыгнул туда, мы заскочили следом, и он заорал тут же:
– Эгеге! Наро-оды! А вот перевоз, перевоз! Кому на утку-селезня, на нырка-чирка, вали сюда!
И повалили.
3
Первыми вышли из тумана, в ногу, два молодца-удальца в ладных зеленых куртках с маскировочными пятнами, в блестящих болотных сапогах, с портупеями-патронташами, с новенькими, в масле, ружьями, с рюкзаками за плечом.
– Вы кто есть?
– Старшины-сверхсрочники особых десантных войск.
– Чего пришли?
– Утку бить.
– Лезь к нам.
Залезли. Сели. Ружья приставили к ноге. Глаз сощурили привычно.
– На сколько намылились? – спросили их осторожно.
– Да десятка на три.
Терешечка так и задрожал:
– А не жалко?
А они:
– Мясца, парень, охота. Прокол у нас с мясцом. Полный обвал. А мы мужики в силе, нам мясца надо. Настреляем – утятинки поедим всласть.
– Вы еще попадите, – сказал мой друг.
– Мы попадем, – пообещали. – Нам не впервой. В десятку. С закрытыми глазами. Из положения «стрельба стоя». Кого ждем?
И проверили, как сидят фуражки: три пальца под околышем.
Пришли еще трое, пьянь-теребень ларьковая, дружно взбулькивали на каждый шаг. Один в шубейке, другой в кацавейке, третий в плаще брезентовом до самых пят, какие носят сторожа. На ногах галоши, сандалеты, кеды драные, да одно ружье на троих – вместо ремня шпагатик.
– Вы чьи будете?
– Мы-то? – сказали. – Мы мамкины.
– Куда идете?
– А куда все.
– Лезь в лодку.
Залезли. Расселись. Ружье бросили на дно, в воду. Бережно уложили авоську с бутылками да неподъемную канистру.
– Шесть литров, – похвастались. – Да спирту канистра.
– Не, – заволновался мой друг, раздираясь противоречиями. – Я не пью.
– И не надо, – сказали. – Глотнешь пару стаканов, и будет с тебя.
Принялись разливать.
– А вы стрелять станете? – спросил Терешечка.
– Мы, друг, всё станем. Стрелки отменные. Охотнички до жареного. Кончится выпивка – сам увидишь.
И улыбнулись нехорошо.
Встал из травы малый – глаза запухшие, без ружья вовсе, сказал, как поздоровался:
– Выкусь закусь сикось накось... По рублику скинемся?
Эти, у канистры, оживились:
– А где купишь?
– Моя забота.
– Да тут лес кругом. На сто верст.
А он – знатоком:
– Лес лесом да бес бесом.
– Старики, – сказал мой друг. – У вас и так хоть залейся.
– По рублику, – пояснили, – святое дело.
И тот побежал на полусогнутых.
– Он тут с весны, – сказал Терешечка. – С прошлого отстрела. Всё пропил, никак домой не дойдет.
– Наш человек, – сказали от канистры и разлили по новой.








