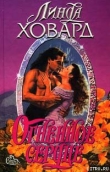Текст книги "Сердце Льва"
Автор книги: Феликс Разумовский
Соавторы: Дмитрий Вересов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Тим (1977)
Новый учебный год начался. И потянулось все одно и то же – лекции, обязательный факультатив, нескончаемые комсомольские собрания под лозунгами «Нет империализму!», Ленинские зачеты, субботники, овощебазы, народные дружины, поборы в Фонд мира, ОСВОД и ДОСААФ – словом, всепобеждающее торжество марксистско-ленинского учения. Кто это там сказал, что все течет и меняется? Брехня. Болото, оно и есть болото. Замшелое.
Кое-какие изменения все же были. Тощий, сколиозно-рахитичный Юрка Ефименков вдруг переменился: приосанился, убрал живот и стал держаться с невозмутимым спокойствием много чего видевшего мужчины. В глазах его появился орлиный блеск, насмешливо, с холодным сарказмом, посматривал он на воспитанников секции бокса. Что за чудесная метаморфоза!
– Слушай, Юрка, может, посидим, хлебнем пивка, поговорим за жизнь? Приятно пообщаться с хорошим человеком. Пошли, я угощаю.
Тим, понуждаемый любопытством, как-то пригласил Ефименкова в «Очки», что на канале Грибоедова, и тот, невзирая на репутацию язвенника, а стало быть, и трезвенника, от общения не увильнул, согласился сразу:
– А что, это можно. Если за жизнь. Сказано – сделано, забурились в пивняк, приложились к кружкам. Пиво было теплым, безвкусным, как моча, разбодяженным внаглую, без соды, закусь – плохонькой, убогой: сушки, черемша, за-ветрившаяся сельдь. Зато вот разговорец вышел интересным, такой, от которого захватывает дух.
Оказывается, Юрка Ефименков тайно занимался карате, древним, смертоносным боевым искусством, название которого знающие люди переводят к «пустая рука». Длинная и пустая той самой наистейшей пустотой, которая по самой сути своей ерх меры переполнена своей же самодостаточностью. И вот этим древним искусством Ефименков занимался в засекреченной подпольной школе, возглавляемой прямым приемником любимого ученика легендарного сенсея Барионова, другом и сподвижником другого знаменитого мастера, доктора народной медицины Мафусаила Хрупкина, Александром Яковлевичем Смородинским, человеком незаурядной судьбы, прошедшим огонь, воду, медные трубы и «коридор смерти» в южном Шаолине. Уже четверть века практикующим «тигриный стиль» Сето-кан – стремительный, динамичный, преисполненный изящества и духовной энергии. Такому палец в рот не клади, глаза не мозоль, поперек дороги не стой. Будет плохо.
За разговорцем допили пиво, кликнули официанта и в ожидании заказа отправились в туалетную, по малой по нужде, слить отстой. Слив, Юрка показал Тиму технику цуки, сюто-учи и гедан мае-гири, выкрикнул задиристо, не по-нашему, на весь сортир и начал делать что-то наподобие пионерского салюта – верхний концентрированный блок аге-уки, проверенную защиту предплечьем от вражеских поползновений в голову. Потом хотел еще задвинуть хейан содан, но не смог, писсуары помешали.
Однако и в таком урезанном виде зрелище впечатляло и завораживало. Ах, Сето-кан, Сето-кан, Сето-кан! Сенсей ни рей, маваси гири, мороте пуки, миги и хидари дзенкуцу-дачи. Загадочная Азия с ароматом цветущей сакуры, с заснеженным бамбуком, склоняющимся до земли под тяжестью холодного савана, с отважными самураями, горловым сэппуку и грубыми, необузданными отношениями полов. С колоритнейшим Хокусаи и непревзойдённым в сложении танки Басе. В сиянии луны на полу на циновке тени от сосен…
«Хо-хо!» – глаза Тима заблестели, как у дурко-ватой барышни из «Двенадцати стульев» при виде ситечка, и он почтительно, не скрывая уважения, умоляюще посмотрел на Ефименкова.
– Юра, ты меня уважаешь? Ах, йоко гири! Гедан-барай! Маваси-цуки! Ефименков, успокаивая дыхание, выдержал паузу и с заговорщицким видом перешел на шепот.
– А то! Иначе я не открылся бы тебе, друг. Ладно, не здесь, а то посторонние… Вернулись в зал к пиву, дернули еще.
– Так, значит, хочешь к нам? – икнув, спросил Ефименков, разломил соленую сушку и внимательно воззрился на Тима. – Ну давай. Но учти, прибился к нам – не пяться. У нас длинные руки. И смотри, никому ни слова, сам знаешь, какие времена.
Тиму было приказано явиться завтра на угол Московского и Черниговской к девятнадцати тридцати и иметь с собой тренировочный костюм плюс двадцать пять рублей в конверте с разборчиво написанным домашним адресом.
– Как будто сам себе алименты шлешь, – доходчиво объяснил Ефименков и обнадеживающе, в несколько фамильярной манере, похлопал Тима по плечу. – Я, друг, дам тебе самые лестные рекомендации. Возьмут, возьмут, и даже без испытательного срока.
Назавтра в точно означенный час Тим был на уловленном месте.
– Физкультпривет! – прибыв с пятиминутным опозданием, Ефименков протянул тощую руку с Минными, как у скрипача, пальцами, посмотрел на часы. – Ну что, пошли в до-дзе. Пора.
Конопатое лицо его было торжественно и одухотворенно.
Ладно, пошли. До-дзе находился на Черниговской улице, в здании ветеринарного института. В спортзале пол был застелен борцовскими матами, лампы под потолком горели через одну. Пахло ногами, потом и кожаными, в рост человека, куклами, предназначенными для отработки бросков. На стене висел бодрый транспарант белым по красному: «Сегодня ты олимпийская надежда, а завтра гордость страны!» Не очень-то все это напоминало до-дзе, место истины самозабвенной медитации и интуитивно-чувственного погружения в сакральные глубины мироздания. Сенсей, крепенький, носатый, смахивал на комиссара, подготовленного к расстрелу.
– Значит, ты Тимофей Метельский? – Сенсей небрежно принял конверт и, прищурившись, испытующе уставился на неофита. – И хочешь заниматься в нашей школе?
Тим, сглотнув слюну, кивнул, купюра в конверте хрустнула, Юрка Ефименков ободряюще моргнул – хочешь, хочешь.
– Ну так и занимайся, пойдешь в младшую группу. А сегодня можешь посмотреть, шо це такс за карате и с чем его едят.
Який гарный дытына, даром что сенсей! Зрелище завораживало. В начале, сидя на пятках и истово кланяясь, все блюли древний ритуал, священную традицию. Затем настало время медитации, самоотрешенной, углубленной, направленной на единение с пятью стихиями, космосом и энергией «ки». Соединившись, приступили к разминке, интенсивной и по-восточному изощренной – стоя, лежа, у стены, в одиночку, в парах. Мелькали пятки, шуршали кимоно, струился пот, трещали связки. Потом по сенсеевой команде все построились и стали махать руками, ногами, заходили в раскорячку и так, и этак, закричали громко и пронзительно: «Кияй!».
Не просто так, кату делали.
Наделавшись, разбились по двое и принялись по новой махать конечностями, пинать, тузить, лягать друг друга кричать опять-таки пронзительно и громко «Кияй». Не шутка это, парная работа. И вот на середину вышел сам сенсей и принялся показывать класс – мастерски лупить сэмпаев. Те тоже не промах, уворачивались, ставили блоки, уходили вбок и все с криками, надрывными, пронзительными, как и положено, из середины живота. Кияй! Кияй! Кияй!
Зрелище это и крики боевые пробрали Тима до глубины души. Он начал делать по утрам зарядку, вечерами бегал трусцой, повесил вместо «Битлз» плакат с оскалом Брюса Ли и повергал в шок Лену тем, что мог смотреть часами какой-нибудь там «Войти в дракона», «Игру со смертью» или «Зеленого шершня». А еще он впитывал запоем размноженное на ротапринте и купленное втридорога всевозможное переводное чтиво.
Сердце его замирало от восторга, когда читал он о прошлом боевых искусств, о подвигах знаменитых мастеров, которые жили по принципу «Иккэн-хиссацу» – с одного удара наповал. Это были не просто слова – ударом «железный молот» дробили череп тигру, приемом «рука-копье» пронзали бычий бок и вырывали внутренности… Да что там прошлое! Великий мастер наших дней Ояма Масатацу, живое воплощение титанов древности, выступает безоружным на корриде, ребром ладони отшибает горлышки бутылок, колет как орехи огромные булыжники. Трехдюймовые ледяные плиты разлетаются от его ударов на мелкие осколки. Вот к чему ведет тесное слияние физических и медитативных лрактик, верное преобразование духа-разума в Пусту посредством дзена…
Братья (1958)
«Товарищ, товарищ, болят мои раны, – напевая себе под нос, Захария Боршевич снял с плитки закипевший чайник, привычно повернул рукав белого халата и принялся с чувством намазывать булку маслом. – Болят мои раны в глыбоке…»
Вот так, сливочное на ситник, толстым слоем по всему срезу. Это вам не мешалду из кобмижира с сахаром на черняшку вонючую мазать… Теперь поверх масла – прослойку ливерной за восемнадцать рэ килограмм, в палец толщиной, и горчички, горчички, но не перебарщивая, не нарушая гармонии. Знать бы еще, из кого эту ливерную делают, небось из трефного, из раздвоеннокопытных… Впрочем, наорать – законы писаны для дураков. Сразу вспомнился отец, старый, пейсатый, в треснувших очках, монотонно бубнящий законы Моисея. Палец его, исколотый иглой, назидательно буравящий спертый воздух мастерской… Хорошо ему было говорить о заветах Господних – умер в блаженном неведении, не хлебнувши Советской власти. Не застал ни ГУЛАГа, ни индустриализации, ни «построенного в общих чертах» социализма. Не ходил по этапам, не получал похоронку на единственного сына…
«Эх, Лева, Лева, бедный мальчик мой. Погибнуть в девятнадцать, изжариться в танке… Живьем… Эх!» – Захария Боршевич перестал жевать, сгорбился, на бутерброд упала мутная старческая слеза. Какие тут заповеди, какой Моисей! Трижды прав старший брат Хайм – отсидел, плюнул на все и уехал в Израиль. Что социалистическая родина, что историческая – один хрен. А закон Божий тут ни при чем.
Есть от горьких мыслей расхотелось, чай начал отдавать веником, колбаса показалась пресной, безвкусной, цветом напоминающей дерьмо. Как и сама жизнь…
«Эх, вэй!» – Захария Боршевич поставил кружку, окурил, ломая спички, и тут в кабинет ворвалась Зоечка, коллега, тоже врач, без пяти минут неделя.
– Захар Борисович, женщина! Тяжелая! Черепно-мозговая, внутреннее кровоизлияние, сбита машиной. Покровы синюшные, зрачок не реагирует. Беременная, месяцев семь.
– Без сознания небось? И пульс на сонной отсутствует? – Захария Боршевич кивнул с мрачным видом, сунул папиросу в пепельницу. – Погибнут и она, и ребенок. Успокойтесь, коллега, сядьте, выпейте чайку. Наука здесь бессильна.
Знал, что говорил, – в сказки не верил, а за тридцать лет практики насмотрелся всякого.
– Не буду я с вами чаи распивать! Вы бы только видели, какая она красивая! – Зоечка вдруг приложилась кулачком о стол и громко разрыдалась. – Ну да, клиническая смерть, ну да, хрестоматийный случай, как в учебнике… А шли бы вы с вашей наукой к чертовой матери! Захар Борисович, миленький, ну не сидите так, ну сделайте что-нибудь, вы же маг, волшебник! Ну хоть ребеночка спасите!
Эх, молодость, молодость, дурная голова ногам покоя не дает. И не только своим, недурным, между прочим.
– Ладно, пойдемте уж, полюбуемся на вашу красотку. – Вздохнув, Захария Боршевич поднялся, мощно высморкался в платок, успокаивающе тро-иул Зоечку за плечо. – Ну-ну, ну-ну… Камфару, феин, адреналин, ничего не забыли?
Спросил так, для порядка, чтобы не молчать. В ответ – яростные кивки, обиженные всхлипывания, испепеляющие взгляды. Что поделаешь, молодость, молодость. Ну ничего, это быстро пройдет…
Спустились в приемный покой, открыли дверь бокса.
– Ну-с… – Захария Боршевич кинул взгляд на распростертое, отмеченное беременностью тело на гипсовую маску лица, на белокурые, удивитель но красивые волосы, нахмурился, скомандовал отрывисто, по-ефрейторски: – На стол! Попробуем спасти плод!
Дальнейшее происходило в молчании, только дробно позвякивал инструментарий да порывисто дышала Зоечка из-под марлевой маски. Потом Захария Боршевич вдруг замер, и в голосе его послышалось изумление:
– Двойня, едрена мать!
И тут же тишину операционной прорезали крики, громкие, торжествующие, в унисон. Кто это сказал, что чудес не бывает?
А праздничным тортом с яблоками и лимоном побаловала себя тетя Паша, тайно, в одиночку, под вишневую наливочку и несущиеся из репродуктора песни о победе. Да, да, играй наш баян и скажи всем врагам, что раскудрявый клен зеленый – лист резной, парнишка на тальяночке играет про любовь, а в пирожке никак не меньше фунта сливочного масла. Главное, чтобы не было войны…
Часть вторая. Преступление и наказание
Хорст (1958)
Первое, что Хорст почувствовал, когда пришел в себя, были запахи резины и бензина. Он лежал, скорчившись, как недоносок в банке, в замкнутом, абсолютно темном пространстве, судя по всему, багажнике автомобиля. Было дискомфортно и ужасно холодно, однако не настолько, чтобы замерзнуть насмерть, – кто-то позаботился накрыть его плотной, отдающей керосином дерюгой.
«Вот сволочи, никак на расправу везут», – обдирая локти об обжигающий металл, Хорст перевернулся на бок и принялся тереть больную, гудящую после наркотика голову.
Скоро он пришел в себя, глянул на часы со светящимися стрелками – его везли со скоростью примерно сорока миль в час, судя по поведению подвески, машина двигалась по загородному шляху. Напружинив тело, Хорст тут же расслабился, сделал глубокий вдох и принялся бороться за жизнь по проверенной методике, отработанной до автоматизма еще в центре, – постарался ассоциировать себя с водителем. Уловить биение его сердца, ощутить движение его крови, слиться с ним в желаниях, чувстве франки, крепко зажатой в прокуренных пальцах. Называлась эта метода мудрено, «саймин-дзюцу», то есть ментальная петля. Наконец, вспотев от усилий, Хорст почувствовал себя рослым, грузным де, тиной. Нога его в хромаче сорок пятого размера надавила всей тяжестью на газ…
– Химмельдоннерветтер! Ты что, сдурел, сраная задница? – услышал он визгливый голос Юргена Хатгля, но еще сильнее придавил педаль и резко крутанул сразу сделавшийся бесполезным руль.
Страшная сила навалилась на него, вдавила в жалобно скрипящий, мнущийся как бумага металл и, покувыркав, вышвырнула из темноты багажника в мрачную темноту зимней ночи. Впрочем, не такую уж и мрачную – на небе висела луна, а у подножья огромной изувеченной сосны весело горела перевернутая «Волга», правое переднее колесо ее все еще вращалось с мерзким, похоронным каким-то звуком. В тон ему стонал, пуская розовые пузыри, задыхающийся в сторонке Юрген Хатгль. Потом машина оглушительно взорвалась, к лапчатым вершинам сосен взвилось ослепительное пламя, и Хаттль, когда все стихло, прошипел:
– А баба-то твоя, также как и мамаша, слаба на передок. Не устояла перед бампером.
На его бледном, белее савана, лице застыла пакостная, злорадная усмешка, рот в багровых отсветах пожарища казался узкой безобразной щелью.
– Что? – Хорст кое-как выбрался из сугроба, пумой метнулся к Хаттлю, с яростью взял за горло. – Что ты сказал?
– Повторяю еще раз, для идиотов. – Хаттль судорожно дернулся, схватился за грудь, и по подбородку его потянулась жижа. – Бабу твою мы поимели бампером… Предатель, сука, коммунист ну давай, давай, убей меня, иуда!
Хорст медленно сомкнул стальные пальцы, Хатгль, дернувшись, обмяк, и в воздухе, зловонном от пожарища, запахло человеческим дерьмом.
Хорст истошно закричал и, не силах сдерживаться потеряв все человеческое, бешено лягнул недвижимое тело Хаттля.
– Не верю, ты, сволочь, не верю!
Потом, уже справившись с собой, он снял все, чтo можно было снять с убитого, взял бумажник, парабеллум, набор ножей и пошел, проваливаясь по колени в снег, к дороге. Не важно куда, лишь бы отсюда подальше. Мутно светила луна, шептались стрельчатые ели, Хорст Лёвенхерц, он же Епифан Дзюба, брел вдоль дорожной колеи. И тут в голове его вдруг послышался шепот, невнятный, завораживающий, похожий на шелест осенних листьев. Звуки, казалось, доносились не извне, а рождались в нем самом. Голоса, голоса, голоса. Хор, море, океан голосов. Чужих, на незнакомом языке, мгновенно уносимых эхом, однако смысл сказанного был понятен – иди, иди на север, поклонись звезде…
«Что за черт!» – Хорст оступился, упал, но тут же неведомая сила подняла его на ноги и погнала в лес. А голоса в голове становились все громче, ревели как гром: «Иди, иди на север, иди к звезде!» Потом перед глазами Хорста разлился яркий свет, и он увидел могучего гиганта, бородатого, в кольчуге, потрясающего копьем. Бога-аса Одина, совсем такого, как на иллюстрациях к Старшей Эдде. Мудрого, всезнающего, зрящего в судьбы мира.
– Иди к звезде, – строго приказал он Хорсту, сделал величавый жест и указал на север копьем. – Иди с миром.
Глубоко запавший единственный глаз его свелся пониманием. Затем, подмигнув, Один воспарил в свой Асгард, и Хорст увидел мать, баронессу Фон Кнульп – бледную, небрежно причесанную, без привычных бриллиантовых серег.
– Будь стоек, маленький солдат, путь твой на север, – сказала она чуть слышно дрожащими губами и медленно двинулась прочь…
– Мама, подожди, мама, – закричал было Хорст но тут все окутало пламя, и из смрадного, воняющего серой облака чертом из табакерки выскочил Хаттль, на нем были только генеральская папаха и лиловые, обгаженные подштанники.
– А ну, шагом марш на север! – грозно, по-ефрейторски раздувая щеки, заорал Хаттль. – Зиг хайль!
Хорст поскользнулся и, провалившись в бездонную щель, все быстрее полетел в мерцающем свете, нет, не вниз, а на север, на север, на север… Потом что-то липкое и невыразимо мерзкое окутало его, все цвета и звуки погасли. Время для него остановилось.
Пробудил Хорста негромкий взволнованный голос:
– Андрей Ильич, иди сюда! Вроде отпускает его, порозовел, ворочается. Ну да, веко дрогнуло…
Послышались тяжелые шаги, и другой голос, низкий и раскатистый, подтвердил:
– Верно, Куприяныч, легчает ему. Теперь оклемается, Бог даст.
– Пить, пить, – трудно сглотнув слюну, Хорст медленно открыл глаза и мутно уперся взглядом в лицо улыбающемуся человеку. – Пить…
Человечек этот был бородат, низкоросл и плюгав, в отличие от второго – огромного, широкоплечего, звавшегося Андреем Ильичом. Оба они смотрели добро, без хитринки. По-человечески. Однако пить Хорсту не дали, ни глотка.
– Нельзя прямо сейчас, загнуться можно, – веско произнес Андрей Ильич и, подсев поближе на дощатую лавку, протянул широкую, как лопата, руку. – Ну-с, давайте знакомиться. Трифонов, художник, бывший член их союза. А также космополит и американский шпион.
– Куприянов, Куприян Куприянович, – с живостью включился в разговор бородатый человечек и оскалился широко, но невесело. – Тоже шпион, правда, английский. Вдобавок медик-недоучка и член семьи изменника родины. А вы что, и вправду генерал?
Рябоватое скуластое лицо его было некрасиво, но притягивало искренностью, энергичным блеском умных глаз. Чувствовалось, что и с юмором у него все в порядке.
«А я, коллеги, шпион немецкий», – хотел было покаяться еще не пришедший в себя Хорст, но удержался, ответил уклончиво:
– Да нет, генерал я свадебный, понарошечный. А так комбайнер-орденоносец, хлебороб-целинник Епифан Дзюба. Здоровы будем.
– Значит, не генерал, а комбайнер, – едко в тон ему хмыкнул Андрей Ильич и, вытащив огромный, лосиной кожи кисет, принялся вертеть козью ногу. – Ну и ладно. А то обстановка-то у нас спартанская. Не бояре, враги народа. Куприяныч, ставь-ка чайник, надо потчевать гостя дорогого!
Похоже, его очень радовал тот факт, что Хорст ухлопал генерала КГБ с физиономией Юргена Хаттля. Ясное дело, живые генералы КГБ свою папаху и удостоверение не отдают.
– А где я? – Хорст, приподнявшись на кровати, еле справился с внезапной дурнотой, опустился на подушку и крепко обхватил пылающую голову ладонями, – Ничего не помню, все как с похмелья…
Щеки его покрывала густая щетина, а в голове, пустой и гудящей, словно колокол, ползала по кругу единственная мысль: идти на север, идти на север…
– Добро пожаловать в Лапландию, товарищ комбаинер, – с ухмылочкой Трифонов поднялся, ловко шкурил и широко повел рукой с дымящейся цигаркой. – Страну озер, медведей и советских заключенных. А что касаемо бедственного состояния вашего так это меричка, если по-простому. Сиречь арктическая истерия.
– Эмерик, точно эмерик, – сказал Куприяныч и обнадеживающе глянул на Хорста. – Ничего, ничего, прогноз благоприятный. Шаман у нас хороший вылечит. Очень, очень сильный нойда.
На полном серьезе сказал, без тени улыбки, с полнейшим профессиональным уважением.
– Шаман? – Хорст прищурился, и в голове его, гудящей и больной, стало одной мыслью больше – про дурдом. Вот только очень-очень сильных нойд ему не хватало. Для полного счастья.
– Наука здесь бессильна, – Куприяныч, как истый представитель этой самой науки, изобразил раскаяние и сделался похожим на нашкодившего гнома, – Нет даже единого мнения о причинах болезни. Объяснение одно – психоз. Впрочем, неудивительно, симптоматика изумляет – кто поет на незнакомых языках, кто кликушествует, кто идет на север, кто предсказывает будущее, причем с поражающей воображение достоверностью. Внешность больных во время приступа кардинально изменяется, многие становятся похожими на мертвецов или восковые куклы, а если человека в этом состоянии ударить, скажем, ножом, то вреда это ему не нанесет – раны затягиваются прямо на глазах. Вот вы, товарищ комбайнер, сколько времени шатались по лесам? С неделю наверное, не меньше. И тем не менее как огурчик – ни обморожений, ни истощений. А все потому, что когда душа заснула, в тело ваше вселились духи – так по крайней мере трактуют эмерик шаманы-нойды. Сейчас же наоборот, душа проснулась, а духи почивают – отсюда и тошнота, и ломота в конечностях, и головная боль. Ну да ничего, это пройдет. Давайте-ка теши лососевой да печени лосиной. С брусничным чайком. Теперь уже можно.
Хорсту между тем действительно полегчало, в голове, все еще гудящей, но терпимо, появилась третья мысль – о еде.
Хорст спустил с лежанки ноги, поднялся, осмотрелся.
Бревенчатая, рубленая в лапу изба, проконопаченная для тепла мхом. Дышала жаром низенькая печь, тускло изливала свет керосиновая лампа, обстановка – стол, лавки, полки – незатейлива. Пахло дымом, табаком и автомобильным выхлопом – в лампе, видимо, горел бензин, смешанный, чтоб не полыхнуло, с солью. Впрочем, трогательная тяга к прекрасному ощущалась и здесь – одна из стен была завешана натюрмортами, портретами, ландшафтами, выполненными в различных манерах, от классической до кубизма. Правда, на бересте, скобленом дереве, жуткими малярными красками.
– Что, интересуетесь возвышенным, товарищ комбайнер? – обрадовался Трифонов, поймав взгляд Хорста, и тут же в голосе его послышалась печаль. – Только строго прошу не судить. Беличьих хвостов в округе предостаточно. А вот с холстами и красками бедствую… Э, да у вас слезы на глазах, вы дрожите. Куприяныч, надо что-то делать, меричка возвращается…
– Нет, нет, мне уже лучше, – вытерев глаза, Хорст справился со спазмом и указал на небольшой, углем по бересте, портрет. – Кто это?
С портрета на него смотрела Маша, необыкновенно красивая, серьезная до жути, делающая отчаянные попытки, чтоб не расхохотаться. Сочные губы ее предательски кривились, глаза лучились озорством, знакомо билась на щеке густая непокорная прядь.
– Девушка жила по соседству. – Трифонов вздохнув, оценивающе глянул на портрет, поцокал языком, нахмурился. – Да, слабовата композиционно. А девица ладная, хотя как натурщица ноль. Как же ее звали-то? С ней еще история приключилась пакостная. Вот чертова память…
– Машей, Машенькой звали. – Куприяныч улыбнулся, и тут же бородатое лицо его сделалось злым. – Я бы всех этих цириков гэбэшных… Всех, всех… К стенке. И длинной очередью.
В тихом омуте черти водятся – маленький неказистый Куприяныч сделался страшен.
– Ага, к кремлевской, – сразу оторвавшись от портрета, Трофимов кивнул ему, перевел глаза на Хорста, засопел и снова посмотрел на Куприяныча, уже без одобрения, озабоченно. – Ну вот что, пулеметчик молодой. Давай-ка ты за шаманом. Надо принимать меры, на товарище комбайнере лица нету. Эдак не дотянет до посевной…
Он не знал, что Хорсту не могли помочь все шаманы мира…
Тем не менее с подачи Куприяныча нойда взялся – пригласил к себе на следующий день. Хорст напялил узковатую, с трудом застегивающуюся шинель, нахлобучил генеральскую папаху и в компании с Куприянычем подался на улицу.
Было снежно, морозно и темно. Плевать, что скоро полдень на часах, – все укрывала пелена арктической ночи. И не такая уж плотная – далеко на горизонте вспыхивало, переливаясь, зарево полярного сияния… Постучали в низенькое, теплящееся тусклым светом оконце, услышав громкое: «Открыто, заходите», поднялись на крыльцо. Изба была как изба – сени с кадками, где малосолились хариус да ленок, жарко потрескивающая печка, обшарпанная, с отражателем «летучая мышь», воняющая керосиновой гарью. И хозяин был под стать – юркий, улыбающийся саам, облаченный, нет, не в шаманское одеяние с бляхами, погремцами и амулетами, на изготовление которого идет чуть ли не с пуд отборного железа, но в женское, из оленьей кожи, платье, в женскую же шапку с наушниками и баналь-нейшую безрукавку.
– Как погодка, однако? – радушно поздоровался он, крепко, как со старым знакомцем, поручкался с Хорстом и без долгих разговоров потянул гостей к столу. – Нынче солянка медвежья хороша. Баба моя мастерица, однако, язык только длинный. Послал ее, чтоб не мешалась, к соседям.
Сели за большой, сделанный из лиственницы стол, принялись за солянку, оказавшуюся выше всяких похвал. Разговаривали о том, о сем: об оленях, о рыбалке, о видах на погоду, о медведях-шатунах, об одной вдове лопарке, уже два года как сожительствующей со снежным человеком. И ведь не беременеющей никак, однако… Хорст сидел молча, вяло пользовал тушеную медвежатину и пребывал в глубочайшей уверенности, что играет не последнюю роль в каком-то дурацком, удручающем своей нелепостью фарсе. Шаманы, мистика, оккультная чертовщина!
После чая с рыбниками и пирога с печенкой шаман неторопливо поднялся и стал, что-то бормоча, расплетать свои длинные, собранные в косицы волосы. Потом вытащил трубку, закурил и долго глотал табачный, отдающий дурманом дым. Голова его была опущена, лицо бледно, тело сотрясала сильная и частая икота. Казалось, что его вот-вот вырвет.
Хорст, чувствуя себя последним идиотом, с мрачной удрученностью взирал на действо, настроение егo, и без того пакостное, стремительно приближаюсь к нулю. Поражала обыденность происходящего, какая-то вульгарная, банальная приземленность. А шаман тем временем приложился к ковшу, пошатываясь, вышел на середину избы и с поклонами опускаясь на колено, начал брызгать изо рта водои – четырежды на каждую сторону света. Получалось это у него здорово, шумно. Затем сонным, неторопливым движением он взял обыкновенный кнут и, опустившись на лавку в центре горницы, запел. Тело его судорожно подергивалось, бледное лицо гримасничало. Похоже, он совсем не собирался гарцевать на своем волшебном коне, погоняемом шаманской плетью – это было «малое шаманство», без барабанного боя и переодевания, так сказать, представление без декораций.
Хорст хмуро глядел на шамана и вдруг с отчетливостью понял, что постигает смысл пропетого:
«На юге в девяти лесных буграх живущие духи солнца, матери солнца, вы, которые будете завидовать… прошу всех вас… пусть стоят… пусть три ваши тени высоко стоят».
«На востоке на святой горе, властелин мой дед, мощной силы, толстой шеи – будь со мной…»
«И ты, седобородый почтенный чародей, прошу тебя: на все мои думы без исключения, на все мои желания согласись… Выслушай! Исполни! Все, все исполни!»
Отрывистые фразы завораживали, от них кружилась голова, перед глазами хороводили мерцающие пятна. И, заглушая все, в ушах знакомо рокотали голоса: «Иди на север! Иди на север! Иди на север!..» Потом накатилась тьма, и в сгустившейся пронзительной, прямо-таки кладбищенской тиши то ли кто-то вскрикнул, то ли мыркнула рысь, то ли жалобно заплакал раненый сокол. Не понять… Ничего не понять…
«Что за черт», – Хорст, пытаясь сбросить наваждение, вскочил, протер ослепшие глаза и… увидел бездыханного шамана – тот, как восковая кукла, неподвижно распростерся на полу. Кнут подобно анаконде обвивал его жилистую шею. Рядом стоял угрюмый Куприяныч.
– Т-с, – прошептал он, приложив к губам палец и соболезнующе глянул на Хорста, – дурной знак, видишь, как лежит, на спине. Плохо дело!
Конечно, плохо – шаман вроде бы того… А тот тем временем открыл потухшие глаза, и пергаментные, в пене, губы его дрогнули:
– Любят тебя духи. Сказали, уйдут позже. Когда ты, – шаман уперся мутным взглядом в Хорста, с трудом поднимаясь с пола, – сплаваешь на север, а после поплывешь на юг. Не послушались меня… Слабый я, однако, нойда. – Он глубоко вдохнул, пригладил волосы, чувствовалось, что он постепенно выходит из транса. – Не то что мой отец и дед моих детей… Его бы послушали духи… Тот мог отращивать за мгновение бороду, камлал, однако, в трех избах сразу, всаживал в гранит гусиное перо и колол себя в темя, в печень и в желудок. А я, – шаман виновато улыбнулся, извлек неуловимо быстро нож и, расстегнув рубаху, вонзил отточенную сталь себе в живот, – могу, однако, лишь в желудок.
Бледное лицо его сделалось страшным, рот судорожно полуоткрылся, крепкие татуированные пальцы так и остались лежать на рукояти. Казалось, что он хочет снять позор при помощи сэппуку, по-японски, но не решается поставить точку и чего-то ждет.
В избе стало тихо. Хозяин уперся взглядом в пол, гости, не дыша, – в бледное лицо хозяина. Куприяныч взирал с благоговением, а Хорст весьма скептически. Удивили Москву голой жопой. Ну да, силовой гипноз, ну да, финский нож в брюхе, инструкторы в разведшколе и колдуны в бразильской пампе Делали под настроение и не такое.
А нойда тем временем крякнул, вытащил, не пролив ни капли крови, нож и, вздохнув прерывисто снова помянул покойного родителя.
– Да, великий был отец нойда, мощный. Когда здесь был большой начальник из Питера, он его к себе звал, в институт. Жутко, однако, секретный.
И чтоб никто его не заподозрил в пустословии, шаман бережно снял с полки сверток. Осторожно развернул пожелтевшую «Правду Севера», вытащил книгу под названием «Доктор Черный», открыл. На титульном листе напористо значилось выцветшими чернилами: «Николаю Васильевичу Данилову, светильнику разума, на память от автора. Кольский полуостров. 1921-й год. А. В. Барченко.» Писал, судя по почерку, сильный, уверенный в себе человек.
И Хорст зашелся от изумления. Фамилия Барченко была ему хорошо знакома – слышал не раз на секретных занятиях в разведцентре.