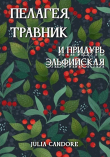Текст книги "ГДЕ ЛУЧШЕ?"
Автор книги: Федор Решетников
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
XX СЧАСТЬЕ ГОРЮНОВУ УЛЫБАЕТСЯ
Вся зима прошла на приисках в постройках на новом прииске, который был назван Ново-Удойкинским. Золото в это время не промывалось, потому что приходилось много времени употреблять на копание канав, которые проводили к новым постройкам, устроенным по совету Костромина и других рабочих. Денег у главного доверенного было не много, рабочим он выдавал по малости, так что им едва доставало в течение недели на хлеб. Рабочие ругались, но сознавали, что, пожалуй, доверенному не из-за чего платить много денег, не получивши золота, да и бог знает, будет ли еще много золота на новом месте. Поэтому старые рабочие уходили на другие прииски, новых прибывало мало, а из оставшихся большинство хворало, и им не оказывалось никакой медицинской помощи. Весной вода залила почти все пространство как на старом, так и на новом приисках, и с ней было много хлопот, но все-таки золота промывалось гораздо больше, чем на старом прииске, и поэтому на новом прииске было до шестидесяти мужчин и до двадцати женщин. Но у доверенного все-таки не было денег, и он давал Костромину расписку за распиской в должных ему деньгах, потому что Костромин снабжал всех рабочих хлебом, капустой, солью и другими овощами. Хотя же полпуда золота и было отправлено в горное правление, но оттуда денег не выдали.
А тут разнеслась по прииску весть, что старец Яков помер; дети увезли его в село, разломали избу и сами скрылись неизвестно куда. Костромин съездил туда удостовериться и вернулся больной; через три дня и он помер. Запечалились на приисках все рабочие, потому что Костромина они любили, он многих выручал из беды, давал за крупинки золота деньги, так что некоторым рабочим незачем было уходить в другие места для продажи его. Кроме этого, рабочим не нравился другой Костромин, Степан, и его жена Анисья, которые постоянно присчитывали на рабочих деньги; все думали, что теперь хоть живой ложись в землю. Особенно все почувствовали, как нехорошо жить без хорошего человека на приисках тогда, когда Костромины увезли хоронить старика в село, заперев дом. Два дня еще прошло ладно, на третий ни у кого не было хлеба, даже из дома доверенного по нескольку раз посылали к дому Костромина узнать, приехали ли торгаши; некоторые рабочие так даже и сидели у дома Костромина, думая, что если приедут Степан или жена его, то они наперед отпустят доверенному; но Костромины не являлись. Терпение рабочих и доверенного истощилось, почему первые выломали двери в доме Костромина, но в доме не нашли ни куска хлеба, а забрали всю водку, пиво и брагу; доверенный послал в село Горюнова за покупкой муки и другой провизии, о чем его просил сам Горюнов, думая двадцать пять рублей, полученные им от Костромина, употребить в дело.
Горюнов, приехав в село, первым делом купил за десять рублей лошадь и за три крестьянскую телегу, потом уже закупил муку, крупы, соли и мяса. Едва он въехал на прииски, как его окружили рабочие, требуя муки. Никакие увещания Горюнова не принимались, и он должен был дать им целый мешок муки, доказывая, что мука принадлежит ему.
По окончании дневных работ, когда одни из рабочих сидели на горе и песнями старались немного развлечь себя, а другие сидели под горой, рассуждая о приисковой жизни в Сибири и на Урале, о жизни каторжных и о прежних хороших временах, когда торговать золотом было не в пример лучше теперешнего, Горюнов подошел к ним и, поговорив немного о бывшем его заводском начальстве, начал:
– А што-то Степанко Костромин не едет…
– А што?
– Должно быть, нашел добрую землю. Уж не продает ли он какое-нибудь место.
Рабочие загалдили. Увидавши волнение внизу, рабочие, сидевшие на горе, спустились вниз и подошли к этим.
– Да ты это откуда узнал? – спрашивали пришедшие Горюнова.
– Я только предполагаю, потому, сами рассудите, сколько они с нас брали за все.
– Брали действительно дорого.
– А можно бы и без них обойтись, – сказал Горюнов.
– Как так?
– Очень просто. Вот обошлись же и без них, не померли. А муку я покупал наполовину дешевле, чем они нам продавали.
– Ты к чему это, Тереха, речь-то ведешь? – спросил вдруг Анучкин, не принимавший доселе участия в разговорах.
– К тому, што и самим можно покупать муку. Стоит только человека надежного выбрать.
– Не думаешь ли ты, што ты один надежный человек? – говорил Анучкин.
– Я только к слову сказал… я говорю – выбрать…
– То-то… Не хочешь ли ты, кривая собака, костроминское место занять?
– Может быть, тебе угодно, потому ты и спрашиваешь.
– А позволь-ко тебя спросить: откуда ты деньги взял? На какие ты деньги муку купил?
– Про то я знаю… Может, у тебя есть деньги, да ты небось не купил муки… Братцы! – обратился Горюнов к рабочим, с недоумением смотрящим то на Анучкина, то на Горюнова: – хорошо ли я сделал, што муку привез?
– Кто об этом спорит!
– Ну, а вот ему хочется, штобы мы с голоду мерли.
Одни из рабочих захохотали, другие стали ругать Анучкина. Анучкин пошел. Горюнов пошел за ним.
– Послушай, Тарас Трифоныч, из-за чего ты на меня зубы-то грызешь? – спросил Горюнов Анучкина: – насчет этого у нас уговору не было… Ведь ты не захотел же почему-то купить муки, а теперь, как другой купил, ты и завидуешь… Послушай, Тарас Трифоныч. Я давно насчет этого думал, и думал именно заняться торговлей с тобой. А што я не объявил об этом раньше тебе, так не знал, как это понравится рабочим. Хочешь вместе торговать?
Анучкин не соглашался, но к утру, когда на приисках все спали, уехал на горюновской лошади.
– Вор! Посмотрим, как он нам шары свои покажет, – говорили утром рабочие про Анучкина, узнавши об его проделке.
– Бог с тобой, Горюнов! Не я ли тебя взял с собой на прииски, а ты другому представляешь барыши, – говорил Ульянов.
– Елизар Матвеич! Я ли не друг тебе…
– Так друзья не делают: ты от меня все особо, все особо…
– А кто виноват? Не ты ли больше всех ходишь в лес стрелять птиц… Кто велел тебе зимой отсюда уходить? Сам ты не хочешь со мной якшаться. Насильно милому не быть.
Скоро после этого приехал Анучкин. Анучкина обругали, но он сказал: меня просил Горюнов съездить, я и съездил.
– Так, Тарас Трифоныч, нельзя… – начал Горюнов.
– Почему? По-моему, удобнее попеременно ездить, штобы друг другу незавидно было.
Так и стали Горюнов с Анучкиным торговать, переселившись в дом Костромина с Офимьей и Глумовыми, на которых Офимья готовила кушанье, даже на доверенного, и пекла хлебы на рабочих, а последние, в отсутствие Горюнова и Анучкина, продавали рабочим табак, водку и калачи. Теперь вечера рабочие стали проводить в доме Костромина.
Явился приказчик в сопровождении солдат – значило, что он вез деньги, – и Костромины.
Костроминых не пускали в их дом, они условиями и расписками доказывали право на владение домом, и хотя потом пустили их, но никто не стал у них покупать ничего. Доверенный рассчитал рабочих, рабочие не стали платить долгов Костромину и дали Горюнову денег на закупку съестных припасов и водки. Горюнов побоялся ехать в село, передал деньги Анучкину; Анучкин командировал Ульянова, не сказав об этом Горюнову. Ночью Костромины уехали со всем имуществом с прииска и зажгли свой дом. Анучкин поехал за ними следом и к утру наехал на мертвое тело: Ульянов лежал поперек дороги с простреленной головой. Денег при нем не оказалось.
Об этом происшествии объявлять не стали, а из среды раскольников-рабочих нашелся один поп, который и отпел Ульянова по-своему. Все здоровые рабочие сопровождали до могилы Ульянова, изредка перекидываясь словами, но никто так не был печален, как Горюнов, который всю вину в смерти Ульянова сваливал на себя и на Анучкина.
Итак, теперь Горюнов и Анучкин сделались маркитантами. Дела их шли хорошо тогда, когда были на приисках деньги, и худо тогда, когда на приисках не было денег. Но зато теперь на приисках уже было меньше больных, потому что оба торгаша брали с рабочих небольшие проценты на свой затраченный капитал, на приисках больше и больше стало расходиться водки, больше появилось гармоний и балалаек, но было уже меньше таких оргий, которые происходили при Костромине, потому что большинство здоровых рабочих все свободное время проводило в лавочке.
Прошла зима, в течение которой золота добывалось мало и начальство часто уезжало недели на три из приисков. Весной доверенный запил.
Раз, во время отсутствия Анучкина, прибегает Николай Глумов и говорит Терентию Иванычу, что он, перейдя гору Троскурицу в пяти верстах вверх по реке от построек Ново-Удойкинского прииска, нашел самородку. Самородка весила четверть фунта. Горюнов тотчас же предложил за нее мальчику десять рублей. Тот отдал и даже вызвался показать ему место, которое им замечено тем, что он воткнул в гору палку.
С горы, с того места, в котором Николай Глумов воткнул палку, представлялся великолепный вид: на несколько верст под горой волнами рос лес; кое-где казалось, как будто сделана просека, но между тем оттуда выходила зигзагами речонка, начало и конец которой терялись в лесах; кое-где виднелось большое озеро, как будто отлого положенное разбитое стекло на зеленеющую массу леса; справа и слева возвышались, точно луковицы, горы – или с черным лесом, или с белою или глинистою почвою. Здесь царила тишина, прерываемая только чириканьем птичек, карканьем ворон и щебетаньем сорок. В полуторе верстах от горы Николай Глумов указал на небольшой холм, поросший невысокими соснами, который был окружен кустарником березы, редким до того, что к нему свободно проходило солнце, и около него с одной стороны журчал узенький источник. Здесь, в кварцевых породах, Горюнов увидал золотоносные россыпи, которые чуть-чуть были видны для глаз и тянулись по лугу сажен на двести.
Горюнов заприметил место и пошел на юг по течению источника, но источник вдался вправо, местность была холмистая; между холмами не было воды; ему пришлось проходить через густой лес, потом наткнуться на аршинную змею, на болото, на речку – и только к вечеру на другой день он вышел с Глумовым на Старо-Удойкинский прииск.
Анучкин был дома и подозрительно смотрел на Горюнова, расспрашивая, где он был так долго, но Горюнов говорил, что он искал свою лошадь.
Доверенный между тем пьянствовал, так что всеми делами заправлял приказчик с ревизором. Через неделю после того, как Горюнов нашел телку, приказчик, оставив Анучкина при доверенном, для того чтобы если доверенному понадобится водка, то Анучкин подавал бы ему ее, ушел с ревизором на охоту.
Анучкин редко приходил к Горюнову, а когда вечером Горюнов пришел наведать его, то нашел его запершимся в комнате. Сквозь замочную скважину Горюнов увидал, что Анучкин что-то делает, наклонившись к полу.
– Вижу, все вижу, – бессовестный. Вот те и товарищ! – проговорил Горюнов.
Анучкин вздрогнул, подошел к двери и тоже взглянул в замочную скважину, но так как в нее глядел Горюнов, то он увидел только черный зрачок.
– Отпирай! – шепнул Горюнов.
– Не донесешь?
– Провалиться!
Анучкин отпер дверь.
Доверенный лежал на спине с посинелым опухшим лицом и открытыми глазами, на которые уже были наложены медные гривны. Он умер. В комнате было душно, жарко; но Анучкин работал усердно: он уже до половины разобрал вещи в чемодане, принадлежащем доверенному, и только на дне его увидал кожаную сумку, наполненную золотом.
Анучкин разделил золото пополам с Горюновым, рассыпав его в платки; затем сумку положил на место, склал вещи, запер чемодан и положил ключи под подушку доверенного. Затем они вышли из избы, чтобы спрятать золото.
– Ну, Терентий Иваныч, молчок!
– Ты только молчи. Не удрать ли нам теперь?
– А в лавке кто?
– Возьмем с собой Кольку Глумова.
– Это на какой предмет?
Горюнов спохватился.
– Ты, брат, не коли. Я за Колькой давно слежу… Знаю, брат, куда он ходит в лес-то.
– Куда?
– А за пять да за шесть верст… Однако, Горюнов, нам надо решиться с тобой: нам с тобой обоим после этого не ужиться на прииске. Мы и раньше ссорились друг с другом. Нам надо разойтись: или тебе, или мне вон отсюда. Ты думаешь, я без цели допустил тебя ограбить доверенного? Да если бы я тебя понимал так, што ты человек нерассудительный, я бы тебя у дверей же убил бы и забрал бы все золото… Ты человек неопороченный, а я беглый, мне только и можно жить что здесь… Уж ты предоставь мне умереть в спокое!
Горюнов молчал. Он думал, что Анучкин прав.
– С деньгами ты везде можешь заняться чем угодно, а покажись я – меня схватят и посадят в острог. Правду ли я говорю?
– Я не буду мешать тебе, Тарас Трифоныч. Я уеду.
Анучкин крепко пожал ему руку, утер навернувшиеся на глаза слезы и проговорил дрожащим голосом:
– Спасибо, Терентий Иваныч… По гроб не забуду тебя. Ей-богу! – И они разошлись.
Пришедши домой, оба они ни слова не говорили никому о смерти доверенного и не возобновляли разговора относительно дележа и находящейся руды в известном им обоим месте.
Горюнов соболезновал о том, что сделал оплошность. И к чему ему было говорить об отъезде с Колькой Глумовым с приисков? Ему бы надо молчать и выжидать удобного времени, потом ехать в город, продать золото, записаться в купцы, как и сделали самостоятельные мастеровые Терентьевского завода, еще находясь в крепостном состоянии, а тогда, в случае решения по справедливости дела об их каверзах, он мог бы избегнуть телесного наказания. Горюнов не мог теперь иметь прииска, потому что он считался мастеровым; но только стоило записаться в купцы… "Эдакий я дурак! И отчего это я не сообразил сегодня? А ведь я думал раньше об этом. Все это от радости произошло: шутка ли, найти самородку…" Но обещание уже было дано Анучкину; Анучкин еще в прошлом году говорил, что он знает богатое место, и если это место у него украдут, то ему не для чего больше и жить.
"Нет, не туда ты попал, Тереха! Здесь народ сборный; надо много воли, штобы што-нибудь забрать в руки… Тут надо десятки лет жить, штобы потом считать своим какое-нибудь место… Недаром сколько здесь живет народу, которым, кроме приисков, некуда деваться… Вот она и приисковая жизнь! Пришел я с двумя глазами, а уйду с одним. А уйти надо, пока цел. Бог с ним и с золотом…"
В это время на приисках только и было разговоров, что о строящихся железных дорогах, о чем постоянно сообщали вновь прибегающие беглые. Жизнь на железных дорогах они хвалили, но говорили, что пробраться туда очень трудно, потому что нужно пройти непременно те губернии, через которые редко кому удается пройти благополучно.
Горюнов сообразил, что там ему будет лучше, именно потому, что там он будет находиться вблизи больших городов; так обсчитывать и творить расправу, как на приисках, там едва ли можно, да и он продаст золото и будет хлопотать, чтобы его сделали каким-нибудь приказчиком или надсмотрщиком, которые, как говорили беглые, получают там большое жалованье.
Итак, Горюнов решил идти на железную дорогу.
В доме доверенного без сцены не обошлось. Когда пришли утром с охоты приказчик с ревизором, Анучкин сказал им, что доверенный ночью, выпивая из стакана водку, поперхнулся, с ним сделались корчи, так что Анучкин держал его за ноги, но скоро доверенный захрипел и помер; оба приятеля очень обрадовались, сказав: туда и дорога! – а приказчик, заперев дверь, сказал Анучкину, чтобы он объявил о смерти доверенного рабочим и съездил в село за становым приставом. Анучкин стал смотреть в замочную скважину. Приказчик достал из-под подушки ключи, отпер чемодан и с чиновником стал выбрасывать из него вещи.
– Тут, проклятая… цела! – говорил с яростию и радостию приказчик; но, отперев сумку и поглядев в нее, вдруг побледнел, разинув рот, не то от испуга, не то от удивления, ничего не мог выговорить.
Чиновник, сидя, как и приказчик, н а к а р а ч к а х, улыбнулся и спросил:
– Пусто? – и взял сумку.
– Полюбуйся-ко! – проговорил приказчик.
– Чего и говорить… мерзавец! – И чиновник швырнул сумку в приказчика.
"Ну, слава богу! Теперь они подерутся; надо скорей отослать Горюнова… А то после они опомнятся и будут оба подозревать меня", – подумал Анучкин и объявил Горюнову, чтобы он ехал как можно скорее в горный город и взял с собою Глумовых.
– А их зачем?
– Они знают телку.
Ребята беспрекословно согласились ехать в село за закупкой провизии, как им объявил Горюнов.
Через пять дней Терентий Иваныч был в городе. Первым делом он отправился к одному богатому купцу раскольнику, но управляющий сказал, что купец умер, а всеми его делами заправляет его брат, который имеет несколько приисков в разных местах и принимает золото от беглых людей из других приисков через посредство управляющего, потому что ему самому неловко разговаривать или рядиться с мужиками.
– За самородку я тебе дам тридцать рублей; золото тянет два с половиной фунта… Хочешь получить по полтораста рублей за фунт? – сказал управляющий, отдавая сверток Горюнову.
– Вы меньше казенной цены даете. На казенных приисках управители платят по два с половиною за золотник.
– Берешь или нет?
– Да хоть пятьсот рублей дайте.
– Ни копейки. Двести рублей сейчас, двести через шесть месяцев, когда получатся деньги из петербургского монетного двора. Согласен?
– Если расписочку дадите.
– Ничего я тебе не дам. Ты знаешь ли, мне только стоит позвонить и позвать служителя… и тебя сейчас же арестуют. Понимаешь?
– Кабы вы понимали, как нелегко достается золото! Нельзя ли хоть через месяц, потому не мое золото.
Управляющий подумал и сказал:
– Если хочешь получить триста рублей сейчас, приходи за остальными через полгода.
Горюнов согласился.
Получивши деньги, Горюнов записался в городские мещане и стал разыскивать свою родню, но нигде никто из его знакомых об его родне не имел никаких сведений, почему он и уехал в М. завод. Узнавши там, что Короваев с Григорием Горюновым и какою-то молодою женщиною ушли на железную дорогу, Терентий Иваныч поплыл на пароходе в Нижний, радуясь, что Пелагея Прохоровна вышла-таки замуж за Короваева.
XXI НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
По приезде в Нагорск Терентий Иваныч с Глумовыми долго искал главное управление железной дороги, от которого, как он узнал на пароходе, зависит определение должностных лиц. Отыскавши правление, Горюнов не скоро добился в нем толку, от кого зависит определение. Дальше хорошо обставленной и хорошо меблированной приемной, в которой сторожа были отставные рослые унтер-офицеры с медалями, его не пускали, да и в приемной он не мог добиться никакого толку прежде, чем не подарил сторожей, занимавшихся приготовлением для членов чая и снимавших и надевавших на членов верхние одежды. Сначала сторожа гнали его, но потом, когда он подарил их, сказали, что едва ли правление может что сделать для него, так как оно определяет и увольняет только главных лиц, ведет дела с конторами, – и обещали похлопотать за него перед одним снисходительным членом. Но сколько ни приходил Горюнов в приемную, он только и видел, как служащие с важностью приходили и уходили мимо него, презрительно смотря на его смешную фигуру. Наконец-таки сторожа выхлопотали ему аудиенцию с одним членом на лестнице.
– Мы не принимаем! – сказал важно член и стал спускаться.
– Ваше благородие, я могу залог внести…
– Без рекомендации мы не принимаем.
– Я, ваше высокоблагородие…
– Что ты меня останавливаешь, скотина!
Горюнов опять прибегнул к помощи сторожей, но те посоветовали ему лучше обратиться в какую-нибудь контору, подчиненную правлению, но успеха не обещали, потому что теперь уже все должности заняты.
Проехавши Нагорск, Горюнов увидал другую жизнь. До этого города он видел жизнь прибережную, людей, занятых преимущественно сплавом по рекам товаров, леса, металлов и камней; эти товары и люди давали средства к существованию городам, селам, деревням; там люди или жили постоянно в одних местах, или все лето находились на реках; здесь же, напротив, несмотря на то, что ему попадалось много фабрик, он проходил хорошие луга, превосходные пашни; народ, большею частию в лаптях, куда-то шел и ехал, то с котомками, то с каменьем, товарами, – и народ этот торопился; на всех лицах виднелось какое-то нетерпение; пешеходы говорили мало, и если говорили, то часто вздыхали, как будто в словах их заключалась и надежда, и сомнение.
– Куда вы? – спрашивал Горюнов.
– На железную дорогу.
– А товары?
– Кои на железную дорогу – им пешеходом-то осталось не больше ста верст, а там они скоро в Москву попадут, – а кои в другие краи.
Встречные, большею частию в телегах, отвечали, что они тоже с железной дороги и едут за провизией, или за камнем, или за кирпичами.
Наконец не стало ехать по дороге товаров. Толпы народа больше и больше прибывали из разных мест на дорогу, идущую к железной; больше и больше стало ехать по тому же направлению телег с камнем и кирпичом, так что часто их шло до пятидесяти телег; больше и больше везли туда бревен. Больше и больше по дороге попадало нищих, которые или шли навстречу Горюнову, или сидели кучками около дороги… Пашни казались заброшенными; в деревнях виднелись только дети, глухие, слепые и больные старые люди да тощий скот; меньше и меньше становилось по дороге лесу, и там, где было поле, земля была ископана на несколько футов внутрь. А дороги не видать.
– Где же дорога?
– А во! Направо-то, видишь, песок, как гряда сделана! – указывая на насыпь, говорили Горюнову шедшие на железную дорогу.
Насыпь была ровна; она то была выше дороги, по которой шел Горюнов, то ниже ее; но на насыпи суетился народ, к ней подвозили песок, недалеко от нее, на площадке, складывали каменья, кирпич; в разных местах копали землю, разбивали крупные камни, кое-где распиливали бревна, что-то тесали. По одной стороне насыпи белели телеграфные столбы. Кругом было мрачно; от рабочих слышались громкие восклицания, да стук топоров там и сям оглушал местность. На расстоянии шести-семи верст около опушки леса или около насыпи сделаны были небольшие избушки из досок, или балаганы, служащие помещением для рабочих в ночное время и местом для склада топоров, пил, лопат и других вещей, принадлежащих строителям железной дороги. Дорога шла параллельно железной дороге между редким лесом и полями, на которых только была кое-как вспахана земля. Пересекши насыпь, дорога шла по ровному месту, около дороги. На этой стороне лес был вырублен сажен на десять от края уступа, и отсюда дорога казалась как бы вырезанною между холмами. Далее дорога заворотила вправо и версты полторы шла лесом, а потом пошла опять в виду насыпи, которая отсюда казалась высокою стеною.
– Прежде здесь никакой дороги не было, а теперь, гляди, какую проложили дорогу, и дорога-то эта выходит короче трактовой, только по ней не велят ездить с товарами али проезжающим, потому эта дорога компанейская, – объяснили Горюнову пешеходы.
Здесь уже меньше ехало телег с принадлежностями дороги, зато попадались навстречу телеги, наполненные больными мужчинами и женщинами.
– Господи помилуй! Ни одного дня не пройдет без того, чтобы не попадались хворые.
– Куда же их везут?
– Куда? Известно, куда! Вывезут на большую дорогу – и иди, откуда пришел. Хорошо, если село свое или деревня близко, а то так и помрет иной человек на дороге. У компанеев денег много, только не станут же они с хворыми возиться, когда, говорят, они подрядились дорогу к сроку сделать… Коли в силе человек – робь, и отдыха нету, а коли помирает – домой его. Раз было привязались к управителю, он и говорит: у нас-де люди не умирают, а коли умерли за чертой – дело не наше, а божье.
Товарищи Горюнова были крестьяне недальних губерний. Все они жаловались на большие подати.
– Поневоле пойдешь в тяжелую работу. Прошлое лето мы всей семьей ходили… Только если бы не тяжелая работа да не болезнь, ничего бы. И так все повинности уплатили, а зиму дома промаялись кое-как.
Мало-помалу местность по обеим сторонам насыпи делалась оживленнее. По одной или по обе стороны насыпи лежали, на несколько верст длины, перекладины для полотна; на насыпи укладывали перекладины, засыпая песком полотно; по бокам насыпь кое-где убивали щебнем. Дальше на полотне лежали рельсы, а еще дальше рельсы уже укладывали на полотно; в промежутках речек уже оканчивалась кладка фундамента и приступали к кладке устоев для мостов; через одну реку, шириною в шестьдесят сажен, береговые устои были уже готовы, и один речной гранитный бык был выведен наполовину; окрашенные металлические части к этому мосту лежали на полотне. На протяжении по крайней мере тридцати верст, как на полотне, так и около него, работало много народа, преимущественно мужчин; женщин же было очень немного. Работа шла разнообразная: кто действовал лопатой, кто молотом, кто киркой, кто топором, кто ломом… Здесь никто не сидел без дела, а если и курил трубку, то старался сократить это удовольствие или работал, держа трубку во рту. По полотну и около насыпи ходили мастера и приказчики, большею частью немцы или чухонцы, в куртках или пальто, или в черных рубахах, опоясанных ремнем, и черных засаленных брюках, в длинных сапогах, застегнутых повыше колен ремнями, и в фуражках наподобие крышек, с длинными козырьками и с пуговками на верхушках их. Они, покуривая трубки или сигары, понукали народ работать скорее, распоряжались тем, как и что нужно сделать, куда, что и как приложить. Близ двух деревень, между которыми проложена дорога, около дороги построено несколько балаганов: в одних хранились инструменты, в других находились кузницы, в третьих помещались рабочие. За этими балаганами стояли целые поленницы кирпича, а против них был устроен большой бассейн, строили каменное водоемное и водокачальное здание и производили каменную кладку зданий. Всюду между этими постройками валялись коробки с гайками, крючьями и молотками, рельсы, перекладины, мужские зипуны, полушубки, лопаты и всякие инструменты. Кое-где около дороги догорали щепки… Народу везде было так много, что его трудно было сосчитать. Работа, что называется, кипела; здесь не слышалось песен и веселых разговоров, но зато воздух оглашался стуком чугуна и стали, как на какой-нибудь большой фабрике.
"Ну, Тереха, здесь много не разживешься. Народу-то, народу-то!!. Недаром столько его валит сюда", – думал про себя Горюнов, удивляясь.
Но никто так не удивлялся, как Николай и Петр Глумовы.
– Славно здесь, Терентий Иваныч. Только ребят здесь что-то не видать.
"Где-то мои?" – думал Горюнов и, подошедши к одной кучке рабочих, обтесывающих каменья, спросил:
– Не знаете ли, братцы, Короваева или Горюнова?
– Таких не слыхали… Какой губернии?
Горюнов сказал.
– Таких не знаем. Здесь много всяких.
– Кто же у вас в работу принимает?
– А вон чухна, что с цигаркой ходит.
– А русских разве нет?
– Русских-то? Русские только подрядами занимаются, муку, кирпич да другие материалы поставляют и от себя приказчиков нанимают, только компанеям-то немцы лучше нравятся. Прежде, бывало, были русские, да прогнали их, потому они пить стали да крепко поворовывали. Ну, а эти хоть и воруют, все же люди свои, а если и пьют, так на ногах крепки. Теперь вон погляди: кто мосты делает? Чухны да немцы!.. И платят им целковых по три и по пяти в сутки.
– Есть же у вас кто-нибудь главный-то?
– Как нету. Он вон в деревне живет; поди, теперь с инженерами в карты дуются.
Горюнов из этих разговоров понял, что ему тут не сделаться приказчиком. Он видел, что приказчики распоряжаются даже над тем, что и откуда взять, и спорят с мастерами; он же в постройке железной дороги ничего не смыслит. Поэтому он затруднился в том, что ему выбрать для занятия. Не обидно ли будет ему, промывавшему золото, делать то, что ему прикажут? Он соглашался работать вблизи деревни; но боялся, чтобы его не послали туда, где только что начинают облаживать полотно дороги.
Горюнов подошел к приказчику и изъявил желание работать.
– Что можешь? – спросил его приказчик.
– Да все, что угодно.
– Так нельзя… Ты должен знайт один ремесло – каменщик, плотник, токарь али машинист… Э! не годишься!
– Почему?
– Мы с одним глазом не принимаем.
– Так возьми ребят.
– Силы у них нет. Можете дыры сверлить? Вон как тот сверлит…
– Мы на горных заводах робили, – сказал Горюнов.
– Ну, а здесь не завод, а железная дорога.
Однако приказчик принял Горюнова и Глумовых, заставив их сверлить дыры в рельсах.
Сперва Глумовым эта работа нравилась: им приходилось сидеть на горбине околорельсовой полосы и двигать к себе обеими руками резец. Они работали попеременно: сперва сидел Николай, а Петр стоял перед ним, подливая масло в резец, потом садился Петр, но к вечеру они устали, и когда увидал их приказчик сидящими без дела, то погрозился прогнать. Горюнову досталась тоже нетрудная работа: разбить рельсовую полосу к вечеру, когда ее хотели пригнать на полотно; но сколько ни усердствовал Горюнов, ударяя молотом в долото, он только до половины разбил полосу, и приказчик, отобрав от Горюнова марку, велел ему уходить прочь.
Все-таки Горюнов с Глумовыми проработал на рельсах неделю. В воскресенье он захотел отдохнуть, но увидал, что на железной дороге праздников нет, напротив – даже по ночам стали работать, зажигая фонари. За сутки давали платы рубль серебра.
Все рабочие умещались в нескольких балаганах, сколоченных на скорую руку из досок; в этих балаганах пекли для них хлеб и варили щи, да в них лежали и больные. Все остальное время рабочие находились на работе. Каждый рабочий, получивший утром марку с нумером, должен был носить эту марку при себе и потом, вечером или на другой день утром, предъявить ее приказчику для отметки в его записной книжке; если какой-нибудь рабочий не в состоянии был работать, приказчик отбирал от него марку и, если были у него деньги, рассчитывал его, что, впрочем, случалось очень редко. Колоколов на железной дороге не было, но каждая смена или остановка работы, время обеда и ужина, конец обеда и ужина – извещались свистками приказчиков. К обеду и ужину приказчики подносили рабочим по чарке водки, и рабочие ели под открытым небом там же, где они работали, несмотря и на дождь. Работа не прекращалась на рельсах ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в гром, только в град и грозу рабочие уходили в балаганы, потому что бывали случаи, что нескольких рабочих убило при работах около железа. В дождь приказчики надевали кожаные пальто, а рабочие свои зипуны или полушубки вверх шерстью. Когда не было дождя, рабочие спали на открытом воздухе, на сухих местах: усталые, измученные и голодные, они скоро засыпали. Кормили всех скверными щами, потому что мясо привозили из города, и хлеб был недопеченый От этого редкий рабочий был в состоянии проработать кряду два месяца, забирался в балаган, и если ему становилось легче, он опять шел на работу, а если ему становилось хуже, его отвозили в компанейских телегах на трактовую или проселочную дороги, в села или деревни, смотря по тому, что было ближе к железной дороге. Это делалось и потому еще, что в городах больных с железной дороги будто бы не принимали, так как там или вовсе не существовало больниц, или в больницах помещались только городские обыватели. Больше всех доставалось рабочим, устроивавшим мосты Им хотя платили и больше, но редкие из них могли в ненастное время проработать месяц или три недели, не захворав потом.