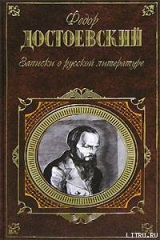
Текст книги "Записки о русской литературе"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Ответ «Русскому вестнику»
<…> не можем не сказать нескольких слов по поводу суждения «Русского вестника» о «Египетских ночах». Из этого суждения перед нами ярко выставляется вся сила «Русского вестника» в понимании поэзии. Вообразите: он называет «Египетские ночи» «фрагментом» и не видит в них полноты – в этом самом полном, самом законченном произведении нашей поэзии! Он говорит, что «это только намек, мотив, несколько чудных аккордов, в которых что-то темно чувствуется, но ничто еще не раскрывается (!) для полного и ясного созерцания…»
«…Надобно слишком много условий, – продолжает он, – чтобы, кроме прелести стихов и очарования образов, уловить в этой пиесе намеки ее внутреннего смысла, который раскрылся бы в ней для всех доступно, если б художник совершил свое произведение вполне. Перед художественным созданием действительно не могут держаться мелкие соблазны, но не прежде, как идея целого покорит себе и одухотворит все частности. Этот демонский культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, – все это, облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы все, что теперь выступает слишком рельефно. Если б из этих мотивов вышла трагедия, она могла бы быть созданием гениальным…» и т. д., и т. д.
Вы говорите о трагедии, о развитии этого, как вы называете, фрагмента; но неужели вы не понимаете, что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно, и что тогда вышло бы нечто совершенно другое, совершенно в другой форме, может быть равносильное, может быть высшее по достоинству, но только совершенно другое, чем теперешние «Египетские ночи», и, следовательно, утратило бы все впечатление и всю мысль теперешних «Египетских ночей». Пушкину именно было задачей (если только возможно, чтоб он заранее задавал своему вдохновению задачи) представить момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента тогдашней жизни, так, чтоб по этому моменту, по этому уголку, предугадывалась бы и становилась бы понятною вся картина. И Пушкин достиг этого и достиг в такой художественной полноте, которая является нам как чудо поэтического искусства. Вы говорите, что все это не облечено в плоть и кровь чарующих подробностей? Но тут до того ярки некоторые подробности, что приходишь в изумление и благоговение перед художественной силой поэта. Часто иная из таких подробностей очерчивается здесь одним стихом, одним словом, одним намеком, но до того цельно, метко и полно, что этот стих не забывается. Он переходит в потомство и становится выражением нарицательным для известного рода понятий; правда, эти подробности доведены именно до того предела, что прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность, и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами. Тут все составляет один аккорд: каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха – все приноровлено к цельности впечатления. Впрочем, может быть, вы требуете более подробного описания костюмов, архитектуры залы, города Александрии, Египта, Римской империи в ее географическом, статистическом, этнографическом и поэтическом отношении? Может быть, вам этих подробностей надобно? Что касается до г-на Дудышкина, то он непременно бы их потребовал.
Кстати, вы смеетесь над нашими словами по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской. На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская, сказано у нас, произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту не смущаясь…
«Но разве Венера Медицейская или Венера Милосская, – возражаете вы, – представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры? Разве эти олимпийские типы не представляют собою самых целомудренных образов, проникнутых тем чистым изяществом, которое составляет живую душу приличия? Не являются ли эти образы сами олицетворением этой тонкой стыдливости, этой чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка, доходил когда-нибудь до последних выражений страстности?» <…>
Далось вам это «последнее выражение страсти». Но послушайте, неужели вы думаете, что если б статуи Венеры Медицейской и Милосской, при всем том, что они представляют собою целомудренные образы и самое тонкое выражение стыдливости, привезенные в Москву к нашим простодушным предкам, во времена хоть, например, Алексея Михайловича, могли бы произвести на них какое-нибудь другое впечатление, кроме грубого и даже, может быть, соблазнительного? Не говорим, чтоб и тогда совершенно не было людей развитых; мы говорим вообще о впечатлении, которое бы произвели тогда на отцов наших эти немецкие «болваны». И неужели мы не правы, говоря, что надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту не смущаясь. Целомудренность образа не спасет от грубой и даже, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства, потому именно, что они сами произведение искусства. Тут действительность преобразилась, пройдя через искусство, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На неприготовленную же, неразвитую натуру, или на грубо-развратную даже и искусство не оказало бы всего своего действия. Чем развитее, чем лучше душа человека, тем и впечатление искусства бывает в ней полнее и истиннее.
Но вот вопрос: почему именно вы думаете, что «Египетские ночи» хоть и произведение искусства, но, будучи фрагментом (дался вам это фрагмент!) и будучи последним выражением страсти (опять-таки это последнее выражение страсти), не могут произвести чистого художественного впечатления, а, напротив, произведут зазорное и непозволительное? Уж не приравниваете ли вы «Египетские ночи» к сочинениям маркиза де Сада? Фрагментность и неоконченность произведения не могла, по-вашему, бросить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной.
Но, во-первых, где тут и какая тут открытая тайна? Доходит ли тут дело до открытия тайн? И, наконец, так ли вы понимаете «Египетские ночи», то ли вы в них видите, что надо видеть и что поневоле видишь, если только хоть сколько-нибудь способен чувствовать поэзию и подчиняться обаянию искусства. Напротив, по-нашему, тут впечатление страшного ужаса, а не впечатление «последнего выражения». Мы положительно уверены теперь, под этим «последним выражением» вы разумеете что-то маркиз-де-садовское и клубничное. Но ведь это не то, совсем не то. Это, значит, самому потерять настоящий, чистый взгляд на дело. Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление. У Пушкина импровизатор, представ пред публикой «Северной Пальмиры», был тоже встречен смехом, когда простодушно спросил: «О каких любовниках тут говорится, perche la grande regina n’aveva molto (у великой царицы их было много)?» Эта публика состояла тоже из знатоков и ходоков по клубничной части. Тут было много, «два журналиста в качестве литераторов» тоже, должно быть, тертые калачи. Жаль, что Пушкин не передает нам впечатления, произведенного импровизацией на этих слушателей.
Но припомним сами эту импровизацию, проверим сами это впечатление.
Пир; его картина. Царица была весела, она оживляла своих гостей, но вот она задумалась, она склонилась головой над золотой чашей; гости безмолвны, все молчит. Эти гости, вероятно, знают свою царицу и ждут чего-нибудь чрезвычайного. Это рабы ее; а она – это представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество совратилось и в холодном отчаянии предчувствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра – представительница этого общества. Ей теперь скучно; но эта скука посещает ее часто. Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее душу. Ей нужно теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком. Разврат ожесточает душу, и в ее душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех этих гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Все это похоже на отвратительный сон. Но все это упоительно, безмерно развратно и… страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов.
Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах гостей своих и с бесконечным презреньем обводит их взглядом. Но страстью дрогнули сердца; нашлись трое – они выходят. Вызов принят.
Жрецы вынимают жребий. Первый – Флавий. Это старый солдат: он поседел в римских дружинах и в битвах за республику. Ему не надо наслаждений. Он принял вызов, потому что в нем воспрянула гордая душа римлянина, не могшая снести презрения от женщины. Конечно: это только тупая гордость, это ограниченное чувство воинской чести, но это чувство благородное, смелое; это уже человек, а не раб; стало быть, еще не все потеряно; разврат и разрушение не охватили еще своим огнем всего, не спалили, не заразили еще всей души общества. В нем еще есть силы для борьбы, но надолго ли! Смотрите на представителей будущего: вот Критон, молодой эпикуреец, его божество – Киприда, его культ – наслаждение. Он еще молод; еще слишком велики в нем жизненные силы; он отдается наслаждению со всем жаром молодости и необъятных сил ее; но ведь это только молодость. Он делает хорошо, что умирает теперь, когда его впечатления еще свежи и богато-жизненны. Он еще не знает ни разочарования, ни отчаяния… Если б он остался жить, он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории…
Но – душа поэта сама не вынесла этой картины; он не кончил бы с Клеопатрой-гиеной, и на одно мгновение он очеловечил свою гиену.
Вот отрок; его имя неизвестно; но восторг любви сияет в очах его; неопытная сила юной, беспредельной страсти кипит в молодом его сердце. Он с радостью, даже с благодарностью отдает свою жизнь; он о ней и не думает; он глядит в лицо царицы, и в глазах его столько упоения, столько беспредельного счастья, столько светлой любви, что в гиене мгновенно проснулся человек, и царица с умилением взглянула на юношу. Она еще могла умиляться!
Но только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву… Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух… и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель…
И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички! <…>
Выставка в академии художеств за 1860-61 год
<…> сказка «Три мушкетера» имела огромное количество читателей, и она принесла своему автору хорошие капиталы. Но этих обстоятельств еще нельзя принять за бесспорное доказательство того, будто слишком знаменитая сказка Александра Дюма-отца – верх совершенства. <…> впрочем, это говорим мы потому только, что наша критика смотрит на А. Дюма как на что-то уж очень дурное. Знаменитый благер имеет некоторые особенности, которыми многое выкупается, и совершенно презрительный тон относительно его не совсем уместен. Вспомнив о Дюма, мы только хотели сказать, что суд большинства еще не всегда бывает одинаков с судом потомства. От времени, точно так же как и от верной критической оценки, мишура чернеет, опадает; остается чистая и голая правда. <…>
<…> Фотографический снимок и отражение в зеркале – далеко еще не художественные произведения. Если бы и то и другое было художественным произведением, мы могли бы довольствоваться только фотографиями и хорошими зеркалами <…>. Нет, не то требуется от художника, не фотографическая верность, не механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже. Точность и верность нужны, элементарно необходимы, но их слишком мало; точность и верность покамест только еще матерьял, из которого потом создается художественное произведение; это орудие творчества. В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может: в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он отразится невольно, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не требует и доказательства. Пусть два человека рассказывают о каком-нибудь одном, хоть, например, обыкновенном уличном событии. Очень часто из другой комнаты, даже вовсе не видя самих рассказчиков, можно угадать и сколько которому лет, и в какой службе который из них служит, в гражданской или военной, и который из двух более развит, и даже как велик чин каждого из них. Эпического, безучастного спокойствия в наше время нет и быть не может; если б оно и было, то разве только у людей, лишенных всякого развития, или одаренных чисто лягушечьей натурой, для которых никакое участие невозможно, или, наконец, у людей, вовсе выживших из ума. Так как в художнике нельзя предполагать этих трех печальных возможностей, то зритель и вправе требовать от него, чтобы он видел природу не так, как видит ее фотографический объектив, а как человек. В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души, или оком духовным. <…>
<…> это покамест еще только механическая сторона искусства, его азбука и орфография. Конечно, и тем и другим надо овладеть совершенно, прежде нежели приступить к художественному творчеству. Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной. <…>
<…> все искусство состоит в известной доле преувеличения, с тем, однако же, чтобы не переходить известных границ. Портретисты это знают очень хорошо. Например, у оригинала несколько велик нос; для сильнейшего сходства надо сделать его чуть-чуть подлиннее; но затем, если прибавить носа еще немножко, выйдет карикатура. Зная это очень хорошо, плохие портретисты никак не могут справиться с обыкновенными лицами, в которых нос не слишком велик, однако не то чтобы и слишком мал, а рот и подбородок в самом деле умеренные. От этого художнику средней руки, не Гоголю, ни за что бы не удался портрет Павла Ивановича, человека с приятными манерами, с ловкостью почти военного человека, безо всяких резкостей в характере и в поступках. <…> Оттого-то Дюма и не художник, что он не может удержаться в своей разнузданной фантазии от преувеличенных эффектов. Положим, что граф Монте-Кристо богат; но к чему же изумрудный флакон для яду? К чему то питательное вещество, которым он мог одной щепоткой насытиться на несколько дней. Конечно, есть физическая вероятность отыскать в природе крупный изумруд, который годится на флакон. Но надо же знать и меру, надо уметь удержаться вовремя. Известно, что солнце делает чудеса своим светом и тенями, и кто присматривался к его эффектам, тот видал много непередаваемых, почти неуловимых – не столько красот, сколько странностей. Но передавая нам о чудесах, давайте же им настоящее их место, сделайте их редкими в той же мере, как они редки в течение дня и в течение года; не забудьте передать нам и обычные, ежедневные, будничные подвиги солнца. А то, если станете толковать только о чудесах, поневоле впадаете в сказку, в «Монте-Кристо». Истинные художники знают меру с изумительным тактом, чувствуют ее чрезвычайно правильно. У Гоголя Манилов с Чичиковым в своих сладостях только раз договорились до «именин сердца». Другой, не Гоголь, по поводу разговора в дверях о том, кому прежде пройти, на вопрос Чичикова, «отчего же он образованный», непременно заставил бы Манилова насказать какой-нибудь чепухи вроде именин сердца и праздника души. Но художник знал меру, и Манилов отвечал все-таки очень мило, но весьма скромно: «Да уж оттого». <…>
<…> Нет, художественная правда совсем не та, совсем другая, чем правда естественная.
По поводу элегической заметки «Русского вестника»
<…> А знаете ли, что мы вам скажем в заключение? Ведь это вас г-н Чернышевский разобидел недавно своими «полемическими красотами», вот вы и испустили свой элегический плач. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Он даже не удостоил заговорить с вами языком приличным. Такая обида! Нам можно говорить о г-не Чернышевском, не боясь, что нас примут за его сеидов и отъявленных партизанов. Мы так часто задевали уже нашего капризного публициста, так часто не соглашались с ним. И ведь престранная судьба г-на Чернышевского в русской литературе! Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал; что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего. – Вдруг г-н Чернышевский выходит, например, с чем-нибудь вроде «полемических красот»… Господи! Подымается скрежет зубовный, раздается элегический вой… «Отечественные записки» после этих красот поместили в одной своей книжке чуть не шесть статей разом (да, кажется, именно шесть и было) единственно о г-не Чернышевском, и именно с тем, чтоб доказать всему свету его ничтожество. Один шутник даже сказал, что в той книжке «Отеч<ественных> зап<исок>» только в «Десяти итальянках» и не было упомянуто имя г-на Чернышевского. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале, да еще разом, в одной книжке? То же и в Москве: там тоже было вроде маленького землетрясения. Писались даже отдельные брошюры о г-не Чернышевском. К чему бы, кажется, так беспокоиться? Угадать нельзя. Странная, действительно странная судьба этого странного писателя!.. <…>








