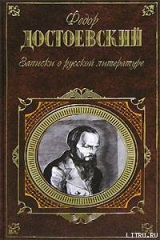
Текст книги "Записки о русской литературе"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
IV. Письма
1838—1880 годы
М. М. Достоевскому
С.-Петербург. Августа 9-го дня. 1838 года.
<…> Мне кажется, мир принял значенье отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, совсем постороннее лицо… что ж выйдет? Картина испорчена и существовать не может!
Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий… ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье оцепеневшего мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжимают груди моей… <…> (Бальзак велик! Его характеры – произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека.) <…>
М. М. Достоевскому
С.-Петербург. 1838 года 31 октября.
<…> Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает бога, след<овательно>, исполняет назначенье философии.
След<овательно>, поэтический восторг есть восторг философии… След<овательно>, философия есть та же поэзия, только высший грудус ее!.. <…>
<…> Я давно не испытывал взрывов вдохновенья… зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский узник после смерти братьев в темнице… Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души… <…>
<…> Недавно в «Сыне отечества» я читал статью критика Низара о Victor’e Hugo. О, как низко стоит он во мненье французов. Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. Они несправедливы к нему, и Низар (хоть умный человек), а врет. – Еще: напиши мне главную мысль твоей драмы: уверен, что она прекрасна; хотя для обдумыванья драматических характеров мало 10-ти лет. Так по крайней мере я думаю. <…>
М. М. Достоевскому
С.-Петербург. 1839 года, августа 16 дня.
<…> Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. <…>
<…> Мне кажется, что нет святее самоотверженника как поэт. Как можно делиться своим восторгом с бумагой. Душа всегда затаит более, нежели сколько может выразить в словах, красках или звуках. Оттого трудно исполнить идею творчества. <…>
М. М. Достоевскому
С.-Петербург. 1840 года. Генваря 1-го дня.
<…> Теперь о твоих стихах. Послушай, милый брат! Я верю: в жизни человека много, много печалей, горя и – радостей. В жизни поэта это и терн и розы. Лирика – всегдашний спутник поэта; потому что он существо словесное. <…>
<…> Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с ним Шиллера, я поверял над ним и благородного, планомерного Дон Карлоса, и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатленьях, им произведенных: мне больно, когда услышу хоть имя Шиллера. <…>
<…> я не сортировал великих поэтов, и тем более не зная их. Я никогда не делал подобных параллелей, как, н<апример>, Пушкин и Шиллер. Не знаю, с чего ты взял это; выпиши мне, пожалуйста, слова мои; а я отрекаюсь от подобной сортировки; может быть, говоря о чем-нибудь, я поставил рядом Пушкина и Шиллера, но я думаю, что между этими 2-мя словами есть запятая. Они нимало не похожи друг на друга. Пушкин и Байрон так. Что же касается до Гомера и Victor’a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. Вот как я говорю: Гомер (баснословный человек, может быть как Христос, воплощенный богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него, брат, пойми «Илиаду», прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее? признайся). Ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому. Теперь поймешь ли меня? Victor Hugo как лирик чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направленьем поэзии, и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианск<ий> поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, я читал его сонеты на французском, ни Байрон, ни Пушкин. Только Гомер с такою же неколебимою уверенностию в призванье, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит он, похож в направленье источника поэзии на Victor’a Hugo, но только в направленье, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, кажется, может стоять выше их обоих в лирике. <…>
<…> говоря о форме, ты почти с ума сошел; <…> с чего ты взял сказать: нам не могут нравиться ни Расин, ни Корнель (?!?!), оттого что у них форма дурна. Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне: Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии? У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? И это можно спрашивать. Да читал ли ты «Andromaque», а? брат! Читал ли ты «Iphigénie»; неужели ты скажешь, что это не прелестно. Разве Ахилл Расина не гомеровский? Расин и обокрал Гомера, но как обокрал! Каковы у него женщины! Пойми его. Расин не был гений; мог <ли> он создать драму! Он только должен подражать Корнелю. A «Phedre»? Брат! Ты бог знает что будешь, ежели не скажешь, что это не высшая, чистая природа и поэзия. Ведь это шекспировский очерк, хотя статуя из гипса, а не из мрамора.
Теперь о Корнеле? Послушай, брат. Я не знаю, как говорить с тобою; кажется, à lа Иван Никифорыч: «гороху наевшись». Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма – почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: «классическая форма». Бедняк, да знаешь ли, что Корнель появился только 50 лет после жалкого, бесталанного горемыки Jodel’a, с его пасквильною «Клеопатрою», после Тредьяковского Ronsard’a и после холодного рифмача Malherb’a, почти его современника. Где же ему было выдумать форму плана? Хорошо, что он ее взял у Сенеки. Да читал ли ты его «Cinna». Пред этим божественным очерком Октавия, пред которым <…>[24]24
Уголок страницы срезан. – Ред.
[Закрыть] Карл Мор, Фиеско, Тель, Дон Карлос. Шекспир<у> честь принесло бы это. Бедняк. Ежели ты не читал этого, то прочти, особенно разговор Августа с Cinna, где он прощает ему измену (но как прощает (?)). Увидишь, что так только говорят оскорбленные ангелы. Особенно там, где Август говорит: «Soyons amis, Cinna». Да читал ли ты «Horace». Разве у Гомера найдешь такие характеры. Старый Horace – это Диомед. Молодой Horace – Аякс Теламонид, но с духом Ахилла, а Куриас – это Патрокл, это Ахилл, это все, что только может выразить грусть любви и долга. Как это велико все. Читал ли ты «Le Cid». Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах пред Корнелем. Ты оскорбил его! Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его не развиты в «Cid’e». Каков характер Don Rodrigue’a, молодого сына его и его любовницы! А каков конец! <…>
Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, и особенно то нравится мне, что твой герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное – когда он любим. Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург. 2-я половина января 1844 г.>
<…> Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел «Евгению Grandet» Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург. Июль—август 1844 г.>
<…> Получив «Разбойников», я тотчас же принялся за чтение; вот мое мнение о переводе: песни переведены бесподобно, одни песни стоят денег. Проза переведена превосходно – в отношении силы выражения и точности. Ты жалуешься на Шиллера за язык; но заметь, мой друг, что этот язык и не мог быть другим. Но я заметил, что ты слишком увлекался разговорным языком и часто, весьма часто для натуральности жертвовал правильностью русского слова. Кроме того, кой-где проскакивают слова не русские (но не штудировать, не сувенирчики – употребление этих слов верх искусства и находчивости). Наконец, иная фраза переведена с величайшею небрежностью. Но вообще перевод удивительный в полном смысле слова. Я подчистил кое-что и приступил к делу тотчас. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург.>30 с<ентября 1844 г.>
<…> Я кончаю роман в объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю <…>.
<…> В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь все равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. <…>
Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург.> 24 марта <1845 г.>
<…> как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, – крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. <…> Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку. Beranger сказал про нынешних фельетонистов французских, что это бутылка Chambertin в ведре воды. У нас им тоже подражают. <…>
Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки. Печатание вознаградит меня. <…>
<…> Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать.
Писать драмы – ну, брат. На это нужны годы трудов и спокойствия, по крайней мере для меня. Писать ныне хорошо. Драма теперь ударилась в мелодраму. Шекспир бледнеет в сумраке и сквозь туман слепандасов-драматургов кажется богом, как явление духа на Брокене или Гарце. Впрочем, летом я, может быть, буду писать. 2, 3 года, и посмотрим, а теперь подождем!
Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли.
В «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно. Нужно быть шарлатаном…
М. М. Достоевскому
4 мая. 1845 год.
<…> Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться. Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности. Я не знаю, была ли «Atala» Chateaubrian’a его первым произведением, но он, помнится, переправлял ее 17 раз. Пушкин делал такие переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лощит свои чудные создания по два года, а если ты читал «Voyage Sentimental» Stern’a – крошечную книжечку, то ты помнишь, что Valter Scott в своем «Notice» о Стерне говорил, ссылаясь на авторитет Лафлера, слуги Стерна. Лафлер говорил, что барин его исписал чуть ли не сотню дестей бумаги о своем путешествии во Францию. Ну, спрашивается, куда это пошло? Все-то это составило книжоночку, которую хороший писака, как Плюшкин н<апример>, уместил бы на полудести. Не понимаю, каким образом этот самый Вальтер Скотт мог в несколько недель написать такие, вполне оконченные создания, как «Маннеринг», например! Может быть, оттого, что ему было 40 лет. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург. Начало сентября 1845 г.>
<…> Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпит принуждения. <…>
<…> Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же. <…>
Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург.> 1 февраля <1846 г.>
<…> «Бедные люди» вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В «Иллюстрации» я читал не критику, а ругательство. В «Северной пчеле» было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина <…> Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают. <…> <…> Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали – ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! <…>
В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет. Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург.> 1 апреля 1846
<…> Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и надеюсь, что навсегда. Вообще никогда так не закипала литература, как теперь. Это к лучшему. <…>
М. М. Достоевскому
<Петербург.> Петропавловская крепость.
22 декабря <1849 г.>
<…> Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через 4-ре года будет возможно. Я перешлю тебе все, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках. <…>
М. М. Достоевскому
<Омск. 30 января – 22 февраля 1854 г.>
<…> Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойник<ов> и вообще всего черного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его. Но это мое маленькое самолюбие! Надеюсь, простительно. <…>
А. Н. Майкову
Семипалатинск. 18 генваря <18>56.
<…> Читал Ваши стихи и нашел их прекрасными; вполне разделяю с Вами патриотическое чувство нравственного освобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери. Как хорошо окончание, последние строки в Вашем «Клермонтском соборе»! Где Вы взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. <…> Я работал; но я отложил мое главное произведение в сторону. Нужно более спокойствия духа. <…> Вы пишете мне кое-что о литературе. За нынешний год я почти ничего не читал. Скажу Вам и свои наблюдения: Тургенев мне нравится наиболее – жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности. Л. Т. мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь). Островского совсем не знаю, ничего не читал в целом, но читал много отрывков в разборах о нем. Он, может быть, знает известный класс Руси хорошо, но, мне кажется, он не художник. К тому же, мне кажется, он поэт без идеала. Разуверьте меня, пожалуйста, пришлите мне, ради бога, что получше из его сочинений, чтоб я мог знать его не по одним критикам. Писемского я читал «Фанфарон» и «Богатый жених», – больше ничего. Он мне очень нравится. Он умен, добродушен и даже наивен; рассказывает хорошо. Но одно в нем грустно: спешит писать. Слишком скоро и много пишет. Нужно иметь побольше самолюбия, побольше уважения к своему таланту и к искусству, больше любви к искусству. Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно. Не выражать же все промежуточные пробы и эскизы? <…> Что же касается до Писемского, то, мне кажется, он мало сдерживает перо. Наши дамы-писательницы пишут как дамы-писательницы, то есть умно, мило и чрезвычайно спешат высказываться. Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником? Даже несомненный, колоссальный художник George Sand не раз вредила себе своими дамскими свойствами. <…>
Э. И. Тотлебену
<Семипалатинск. 24 марта 1856 г.>
<…> Звание писателя я всегда считал благороднейшим, полезнейшим званием. <…>
М. М. Достоевскому
Семипалатинск, 9 ноября, 1856.
<…> Я думаю, я бы сказал, кое-что даже и замечательного об искусстве, вся статья в голове моей и на бумаге в виде заметок, но роман мой влек меня к себе. Это сочинение очень большое. Роман комический, началось с шуточного и составилось то, чем я доволен. Будут очень и очень хорошие вещи в нем. Ради бога, не сочти меня хвастуном. Нет человека справедливее и строже меня к самому себе в этом отношении, и если б знали то мои бывшие критики! <…>
М. М. Достоевскому
Семипалатинск ноября 3, 1857 г.
<…> Что же касается до моего романа, то со мной и с ним случилась история неприятная, и вот отчего: я положил и поклялся, что теперь ничего необдуманного, ничего незрелого, ничего на срок (как прежде) из-за денег не напечатаю, что художественным произведением шутить нельзя, что надобно работать честно и что если я напишу дурно, что, вероятно, и случится много раз, то потому, что талантишка нет, а не от небрежности и легкомыслия. Вот почему, видя, что мой роман принимает размеры огромные, что сложился он превосходно, а надобно, непременно надобно (для денег) кончать его скоро, – я призадумался. Ничего нет грустнее этого раздумья во время работы. Охота, воля, энергия – все гаснет. Я увидел себя в необходимости испортить мысль, которую три года обдумывал, – к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и не справляюсь – так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более половины работы было готово вчерне. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги будут нужны до зарезу. Я было думал (и уверил себя), что можно писать и печатать по частям, ибо каждая часть имела вид отдельности, но сомнение все более меня мучило. Я давно положил за правило, что если закрадывается сомнение, то бросать работу, потому что работа, при сомнении, никуда не годится. Но жаль было бросать. Твое письмо, в котором ты говоришь, что по частям никто не возьмет, заставило меня окончательно бросить работу. Два соображения были тому причиною. «Что же будет? – думал я, – или писать хорошо, но тогда я и через год не получу денег, потому труд мой бесполезен, или кончать как-нибудь и испортить все, то есть поступить бесчестно; да и не в силах я был это сделать». И потому весь роман, со всеми материалами, сложен теперь в ящик. <…>
М. Н. Каткову
<Семипалатинск, 11 января 1858 г.>
<…> работа для денег и работа для искусства – для меня две вещи несовместимые. Все три года моей давнишней литературной деятельности в Петербурге я страдал через это. Лучшие идеи мои, лучшие планы повестей и романов я не хотел профанировать, работая поспешно и к сроку. Я так их любил, так желал создать их не наскоро, а с любовью, что, мне кажется, скорее бы умер, чем решился бы поступать с своими лучшими идеями не честно. <…>
М. М. Достоевскому
Семипалатинск. 31 мая 1858 года.
<…> Роман же я отложил писать до возвращения в Россию. Это я сделал по необходимости. В нем идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь, судя по движению и идеям, которыми все полны, то я уверен, что я обогащу мой роман новыми наблюдениями, возвратясь в Россию. Торопиться, милый друг мой, не надо, а надо стараться сделать хорошо. <…> Но что у тебя за теория, друг мой, что картина должна быть написана сразу и проч., и проч.? Когда ты в этом убедился? Поверь, что везде нужен труд, и огромный. Поверь, что легкое, изящное стихотворение Пушкина, в несколько строчек, потому и кажется написанным сразу, что оно слишком долго клеилось и перемарывалось у Пушкина. Это факты. Гоголь восемь лет писал «Мертвые души». Все, что написано сразу, – все было незрелое. У Шекспира, говорят, не было помарок в рукописях. Оттого-то у него так много чудовищностей и безвкусия, а работал бы – так было бы лучше. Ты явно смешиваешь вдохновение, то есть первое, мгновенное создание картины или движения в душе (что всегда так и делается), с работой. Я, наприм<ер>, сцену тотчас же и записываю, так, как она явилась впервые, и рад ей; но потом целые месяцы, год обрабатываю ее, вдохновляюсь ею по нескольку раз, а не один (потому что люблю эту сцену) и несколько раз прибавлю к ней или убавлю что-нибудь, как уже и было у меня, и поверь, что выходило гораздо лучше. Было бы вдохновение. Без вдохновения, конечно, ничего не будет.
Правда, у вас теперь дают большую плату. Значит, Писемский получил за «1000 душ» 200 или 250 руб. с листа. Этак можно жить и работать, не торопясь. Но неужели ты считаешь роман Писемского прекрасным? Это только посредственность, и хотя золотая, но только все-таки посредственность. Есть ли хоть один новый характер, созданный, никогда не являвшийся? Все это уже было и явилось давно у наших писателей-новаторов, особенно у Гоголя. Это все старые темы на новый лад. Превосходная клейка по чужим образцам, Сазиковская работа по рисункам Бенвенуто Челлини. Правда, я прочел только две части; журналы поздно доходят к нам. <…>








