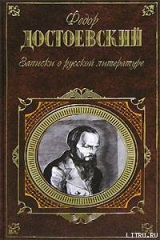
Текст книги "Записки о русской литературе"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина.
«Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность, указывают, как на доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитие в России государственного начала.
По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду. <…>
IV. Книжность и грамотность<…> «Читальник» не книга, а проект книги для народного чтения, сочиненный г-ном Щербиною и представленный публике в «Отечественных записках» нынешнего шестьдесят первого года, в феврале месяце. Статья называется «Опыт о книге для народа». <…>
Г-н Щербина начинает свою статью тем, что сердится на одну брошюру для народного чтения, появившуюся в конце прошлого года под названием «Хрестоматия» и стоящую пять копеек серебром. Похвалив книжонку за то, что она не стоит более пяти копеек серебром, г-н Щербина уверяет, что ему «немыслимо», почему на первом плане ее напечатана сказка Пушкина о «Кузьме Остолопе» и басня Крылова «Демьянова уха». <…>
<…> Некоторые из этих рассуждений, пожалуй, и очень дельны; замечание о том, что сказка о «Кузьме Остолопе» писана для господ и примется народом с пренебрежением, – очень верно, так что даже вчуже начинаешь сожалеть о благородных, но близоруких составителях «Хрестоматии». Но с рассуждениями о «Демьяновой ухе» мы уже не так согласны. То есть, собственно говоря, нам до самой «Демьяновой ухи» и дела нет, а дело есть до некоторых взглядов г-на Щербины, так сказать, до некоторых основных его воззрений. «Что за большое зло добродушная назойливость тороватого Демьяна! – говорит он. – Этого ли народу нужно? Это ли в нем вопиющая отрицательная сторона, которую нужно преследовать сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе?»
То-то и есть. «Демьянова уха», конечно, имеет у Крылова значение частное; а без этого значения, до которого народу и дела нет, она не только для него не интересна, но даже могла бы быть успешно заменена тысячью других басен. В этом мы совершенно согласны, да ведь главное-то не в том, а в том именно, как уверяет г-н Щербина, что в книге для народа и, по возможности, в каждой статейке такой книги надо преследовать разные «отрицательные стороны народа», преследовать их «сатирическою солью и насмешкою, выраженною в образе». А «Демьянова уха» ничего не преследует в народе, следственно, «Хрестоматия», поместившая ее на свои страницы, до того невинна, до того, видите ли, веет от нее «младенческим незнанием» жизни, наивными понятиями и буколическим простодушием, что так и ждешь на заглавном листке слов: «Издание Меналка и Тирсиса».
Мы вовсе не хотим здесь защищать ни «Демьяновой ухи», ни «Меналков и Тирсисов», хотя «сии последние» и были нам когда-то полезны и даже милы. Но для нас то важно, что нам нужно соли, и непременно «сатирической соли»; что непременно надобно «преследовать насмешками, ниспровергать предрассудки». Надобно, так сказать, карать… Учить надобно, главное, учить…
Опять повторяем: цель во всяком случае возвышенная и прекрасная и соответствует вполне благородству нашего духа. Просвещенные должны учить непросвещенных. Это обязанность, не так ли? Но вот что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не можем к народу без того, чтоб не посмеяться над ним «без сатирической соли», а главное, без того, чтоб не учить его. И вообразить не можем, как это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто? Конечно, мы нашими солями и насмешками прежде всего имеем в виду принести пользу (хотя иногда и сами-то хорошо не знаем того, над чем в народе насмехаемся. Ну, да это между нами). <…>
<…> Далее г-н Щербина, продолжая свои соображения, говорит, что от книги народ менее всего требует паясничества и скоморошничества, как-то завитков, прибауток, простонародных шутливых речений и проч., и что печатное слово для него как бы святыня, а не гаерский балаган, и что, наконец, ему по сердцу так называемый высокий чувствительный слог, вследствие чего «Битва русских с кабардинцами» и расходится у него в тысячах экземпляров. Сделав это превосходное и даже довольно верное замечание (хотя и не всегда, потому что настоящая остроумная шутка тоже понимается народом и он отлично способен оценить ее), г-н Щербина предлагает помещать в «Читальник» статьи серьезные и важные, вроде «Покорения Казани» из истории Карамзина. И чтение важное, и познание одного из событий отечественной истории у народа останется. Но на фантастическое и сверхъестественное г-н Щербина обрушивается всем своим гневом и решительно изгоняет из «Читальника» все «фантастическое», потому что у народа и без того много суеверий (и несмотря на то, замечаем мы от себя, что народ страшно любит фантастическое и с жадностью читает его или слушает, как читают). По-нашему, все это прекрасно, но опять то же, что и прежде, то есть страшная заботливость, страшная разлиневанность, в том что надо и чего не надо, подозрительность и опасения, доходящие до болезни. «Не подходи, не подходи! ты с ветру!» – кричит Обломов. Конечно, книга для народа авторитет, автос-эфа, как выражается г-н Щербина, но ведь и не такой же народ ипохондрик, как ипохондрик г-на Писемского – всего боится: дунет ветерок, так сейчас и смерть. Фантастического, конечно, отнюдь не надо. Но г-н-то Щербина смотрит на свою «книгу для народа» уж слишком преувеличенно, точно воображает, что в ней начало и конец всей народной будущности, его образование, его университет, его счастье на тысячу лет вперед; воображает, что если народ чуть-чуть прочтет и услышит хоть одну строчку неладную – тут уж тотчас ему и капут. Г-н Щербина до того мнителен, что даже басен Крылова не хочет назвать баснями, а предлагает прямо выставить одно название, например: «Крестьянин и работник», «Два мужика» и подписать под ними «Крылов». Все это на том основании, что басня будто бы принимается в народе как пустяки и что «это даже можно заключить из пословицы и поговорки: „Соловья баснями не кормят“, или „бабьи басни“. Ну уж это слишком, да и басни-то вовсе не в таком неуважении у народа. Сколько их между ним ходит, да еще преостроумных, с намеками. Ведь народ понимает, что такое басня. Иначе вы хоть и скроете от него, что это басня, но уж одним стихотворным рассказом собьете его с толку. В этом даже было бы больше опасности. В самом деле, если б народ был до такой степени недоумок, как вы о нем предполагаете, то, конечно, остановился бы на стихах: скоморошничество, дескать, не по-человечески писано, в рифму. Вы предполагаете даже выбирать басни, где действуют люди, а не животные. «Говорящие животные и деревья покажутся народу бахарьством, морочением, чем-то шутовским, в ущерб кредиту и авторитету книги», – говорите вы. Будто? Да разве басня-то не из народа вышла? Народ разберет, что это форма искусства, не беспокойтесь. Право, он не так глуп и не до такой степени ограничен, как вы предполагаете. <…>
<…> Во второй части являются материалы для духовно-нравственного развития. Предполагается, что она будет напечатана более емким, убористым шрифтом. Начинается она V отделом, «Антологией для народа», который, кажется, самый лучший отдел во всей книге, хотя бы по тому одному, что всех занимательнее. В нем, видите ли, будут «систематически» (непременно систематически) расположены целые пьесы и места из народной словесности и русских писателей, способные развивать и направлять народ гуманически.[4]4
Подчеркнуто у автора.
[Закрыть] Одним словом, все будет расположено с ужимкой, да и самый отдел этот устроен тоже не сам по себе, а чтоб «подготовить» читателя к последнему, заключительному в книге отделу. В него входят песни и стихи, но более проза. Для характеристики отдела обозначаются даже некоторые из выбранных мест и стихотворений. Замечено тоже, что из народных песен должно помещать только те, которые «выражают гуманистическое чувство, или горько-осуждающие какой-либо коренной недостаток в народных нравах и обычаях». Вот подход, так подход! Даже и песни-то веселые на запрещении.
Вслед за тем и помещаются: Кольцова – как вы думаете, что? Уж разумеется.: «Что ты спишь, мужичок», или «Ах зачем меня силой выдали».
Песни, разумеется, прекрасные, полные самой свежей поэзии, бессмертные произведения Кольцова. Да ведь разве мы здесь песни хулим?
Ну уж, разумеется, затем и Никитина стихотворения и графа А. Толстого, и Цыганова, и Шевцова, и Некрасова – все подобранные под один тон; а «также стихотворения в этом роде» Пушкина, Языкова, Майкова, Мея, Берга и проч., а вместе с тем считается необходимым поместить и Лермонтова «Песню про купца Калашникова»… неужели не догадались, зачем? А затем, что «в ней выражено чувство чести по отношению к жене, чего большею частию недостает нашему простонародью».
Затем переводы в стихах разных сербских, болгарских и проч. песен; затем проза: народные славянские рассказы и предания из книги Боричевского, из памятников старинной русской литературы Костомарова; анекдоты из жизни Петра Великого, Суворова, Наполеона; отрывки из романов Загоскина, Лажечникова, из рассказов Даля, из военных рассказов Л. Толстого.
Это, разумеется, очень хорошо. <…>
<…> Вы, конечно, справедливы, что для мужика книга важное дело; от книги он требует серьезного, поучительного. Это так. Но господского-то обучения он не любит; не любит, чтоб глядели-то на него свысока, чтоб в опеку его брали даже и тогда, когда он полное право имеет сам по своей воле и охоте поступать. <…>
<…> В человеке, лишенном всевозможной самодеятельности и принявшем (и по обычаю, и по невозможности принять иначе) предстоящую действительность за нечто крайне нормальное, невообразимо-непреложное и установившееся, естественно рождается некоторое влечение, некоторый соблазн к сомнению, к философствованию, к отрицанию. «Зефироты» и проч., представляя собою факты или возможность фактов, прямо противоположных насущной действительности и глубоко отрицающих ее непреложность и ее гнетущее спокойствие, – чрезвычайно нравятся этой отрицательной точкой зрения средней массе общества и, написанные популярно, дают превосходный способ поволноваться умам, пофилософствовать и насладиться хоть каким-нибудь скептицизмом. Вот почему и простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наиболее то, что противоречит их действительности, всегда почти суровой и однообразной, и показывает им возможность мира другого, совершенно непохожего на окружающий. Даже сказки, то есть прямые небылицы, нравятся простому народу, может, отчасти по этой же самой причине. Каково же будет действовать на него все мистическое? А так как все эти книги не выходят из народных воззрений и не превышают его философию, то и признаются своими, и с накоплением этих книг высшая, господская литература все резче и глубже отделяется от народной. И потому ужасно смешно, когда г-н Щербина предлагает народу «Слово о полку Игореве» и, еще лучше, пословицы. То есть то, что из народа же вышло, что составляет его обыденную действительность, – пословицы – предлагаются народу же от нас. Ну к чему ему пословицы? Чтоб быть еще народнее? Не беспокойтесь, он их не забудет и без ваших напоминаний; вы-то сами их не забудьте. <…>
V. Последние литературные явленияКогда дела нет, настоящего, серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собою разные дрязги за принципы и убеждения. Один упрекает другого, что тот не так верует, другой упрекает первого, что тот у себя под носом ничего не видит; третий кричит о книжках и об обертках книжек, четвертый ко всему, кроме себя, равнодушен, пятый успокоился на незыблемых мировых законах, подводит все и всех под мировой ватерпас и свистит, на всех глядя. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь. Вот явилась газета «День», всего только пять нумеров, а уже поднялась ругань. Явился «новый вопрос» об университетах, и вот полился на нас целый водопад статей об университетах.
Вот и мы хотим сказать свое слово об этих последних литературных явлениях, и мы будем спорить о принципах, и мы будем упрекать других, что они не так веруют… Что делать! одна для всех колея. А сказать свое слово надо: все участвуют… во всеобщем движении и т. д., и т. д.
«День» – это та же покойная, но неуспокоившаяся «Русская беседа», разбитая на газетные листки. Те же имена, те же мысли, те же принципы. Редактором Ив(ан) Аксаков, статьи в первом номере Хомякова, Константина Аксакова (покойников). В журнале всего замечательнее «славянский» и «областной» отделы. Этого нет почти ни в одном теперешнем русском издании, по крайней мере в такой непрерывности, и это ставит газету на довольно любопытное место. Вообще издание очень любопытное.
Кое-где оно уже очень насолило: Аскоченский, говорят, восторженно похвалил его, а некоторые так даже поспешили похоронить новый «День» (печатно, разумеется). В одном петербургском журнале некоторые погребальщики уже догадались и о том отделении, к которому надо причислить журнал.
Но господа могильщики неправы.
Тут и слова не может быть о разделе по отделениям.
Мы не за «День» заступаемся и не за взгляды его. Но имя Аксаковых, всех троих, слишком известно, чтоб не знать, с кем имеешь дело. И наконец, что за террор мысли? Чуть мыслит человек не по-вашему – губить его, – чем другим нельзя, так хоть клеветой. Что за домашние деспотики! Что за домашний терроризм, вспоенный на кислом молочке! <…>
Славянофилы имеют редкую способность не узнавать своих и ничего не понимать в современной действительности. Одно худое видеть – хуже, чем ничего не видеть. А если и останавливает их когда что хорошее, то если чуть-чуть это хорошее непохоже на раз отлитую когда-то в Москве формочку их идеалов, то оно безвозвратно отвергается и еще ожесточеннее преследуется, именно за то, что оно смело быть хорошим не так, как раз навсегда в Москве приказано. Впрочем, и собственный-то идеал у них еще вовсе не выяснен. Есть у них иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) основных элементов русской народной особенности. Ни один западник не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений, к сожалению неоконченном. Трудно представить себе понимание более точное, ясное, широкое и плодотворное. Но тот же К. Аксаков пишет статью о русской литературе, помещенную теперь в первом номере «Дня»… <…>
Он смотрит на нее враждебно-скептически, он отрицает в ней все свое, с легкостью нестерпимою от серьезно болеющего сердцем человека, с улыбкой свысока-оскорбительной. Даже если б он был прав совершенно в суждении своем, то легкость, скептицизм статьи, это самообожание в величавом отделении себя от всего с ним рядом живущего, этот презрительный взгляд, скользящий сверху и не удостоивающий ни над чем серьезно остановиться, не удостоивающий ничего оценить, – уж одно это было бы в высшей степени бессердечно и легкомысленно. У него вся литература наша – сплошь подражание и стремление к иноземному идеалу. Он отрицает всякое проявление сознания общественного в нашей литературе, не верит анализу, в ней проявлявшемуся, самоосуждению, мукам, смеху, в ней отражавшимся. Нет, господа; вы с нами не жили, вы в наших радостях и скорбях не участвовали; вы приехали из-за моря!
Да, конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отозвалось в созданиях нашей литературы, отражается и до сих пор. Но разве мы рабски воспринимаем их, разве не переживали их жизненным процессом, разве не выработывали своего русского взгляда на эти иноземные явления, разве не убедились, не прочувствовали самою жизнью, что общечеловечность есть, может быть, самое важнейшее и святейшее свойство нашей народности? Разве, наконец, мы не сознавали народности, не сознали необходимости почвы и обращения к ней? К. Аксаков говорит, что все попытки обращения к народности оказались в литературе нашей неудачными. «Портрет купца похож, – говорит он, – у Островского; речь сходна: говорит должон, а не должен». Неужели ж К. Аксаков у Островского только и заметил это должон, а не должен? По смыслу и по тону статьи так выходит. Нет, мы не поверим в этом К. Аксакову; он прикидывается. Ведь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вставить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную, – ну хоть так, как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу пополудни, на Невском проспекте… И как вы думаете, чего требует К. Аксаков? Где же, говорит, настоящий купец? где душа его? где то, что в нем жить должно? То есть, ни больше ни меньше, требует изображения положительных сторон русского человека, с патетической его стороны. А, каково? то есть последнего слова сознания, последней степени красоты мелькающего нам и манящего нас идеала. Безделица! Мы не упрекаем К. Аксакова, что он не разглядел в Островском следов положительной русской красоты, уже кое-где намеченной во всем его «Темном царстве», что он не подивился на то: как это так рано удалось, так рано случалось, так рано начало высказываться это новое слово, – вместо того, чтоб попрекать и подсмеиваться? Мало ли что человек может не заметить, особенно под влиянием известного идеального настроения. Но нам нестерпимо суждение Аксакова, как было бы нестерпимо суждение барича в желтых перчатках и с хлыстиком в руке над работою чернорабочего: «А что урока отчего не сработал? По восьми пудов не можешь носить? Неженка!» Да что ж вы-то делали, К. Аксаков? а не вы, так все ваши славянофилы? Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете! Точно опыты над кем-то делаете, в микроскоп кого-то рассматриваете. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская? Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете? Да ведь вы сами литераторы, господа славянофилы. Ведь вы хвалитесь же знанием народа, ну и представьте нам сами ваши идеалы, ваши образы. Но сколько нам известно, выше князя Луповицкого вы еще не подымались. Вы скажете: нелепо и грубо нам так рассуждать. Извольте, мы согласимся с вами, но только тогда, когда вы не будете рассматривать ваших же русских свысока, как букашек, как кучу каких-нибудь муравьев, и забавляться над нашими усилиями, муками и ошибками. Бросьте ваш тон свысока и вспомните, что вы сами русские и принадлежите к тому же самому обществу, один фатализм нас связал, и свысока, со стороны вы судить не можете, себя выгораживая. Вы как будто хвалитесь, что у вас есть свое, особое, не такое, как у нас. Ведь согласитесь, в словах «должон, а не должен» лежит столько насмешки, столько лукавой про себя насмешки: «Ведь вот, дескать, чего этот жалкий народ не знает! каких основных вещей не понимает! Как совратился, как отупел!» Ну и покажите нам то, что у вас есть, не скрывайте сокровище; да не в наставлениях, не в надгробных над нами речах покажите его, а в настоящем деле, – ну хоть в искусстве, так как это всего невиннее и… сподручнее. Иначе ведь странно со стороны: что же это в самом деле, подумаешь, люди, говорят, постигли тайны русского назначения, русского духа, привилегированно отмежевали себе знание русских судеб русского человека и то, «как он быть должен», а смотришь – на деле от них и нет ничего. И не могут сами-то показать, «как он быть должен»! И добро бы не было у них литераторов!
Литераторы-то есть, да жизни-то нет!
Да, ее нет! Чутья действительности нет. Идеализм одуряет, увлекает и – мертвит, и вы сами не ясно понимаете то, пониманием чего хвалитесь перед нами. Вот почему мы и сказали, что у вас есть чутье некоторых основных элементов русской жизни, но не всех. Чутья как не быть: вы русские, люди честные, любите родину; но идеализм губит вас, и иногда вы даете ужасные промахи, даже в понимании именно этих-то основных элементов русской жизни. <…>








